
Готический роман
Свет добры. Свет мяне паўторыць.
Ну а не свет – дык Беларусь.
Мне досыць.
Ул.Караткевіч.
Они кружились в безумном хороводе вокруг ратуши уже десятый час. Небо сделалось красным, как раскаленное железо. Тяжелый дым костров, которыми отпугивали заразу, стелился по брусчатке, словно души, напрасно дожидавшиеся последнего причастия, не хотели покидать землю.
— Ю-рий, Ю-рий, ис-це-ли! Ю-рий, Ю-рий, ис-це-ли!
Выкрики были уже мало похожи на человеческие. Аннета чувствовала, что из ее надорванной груди вырывается только хриплый свист. В моменты просветления осознавалось, какие холодные руки у тех, кто рядом: справа – худой и светлый, как сухой тростник, монах-минорит, в буром плаще с островерхим капюшоном; слева – седовласый мечник Лаврин, у которого недавно умерла вся семья… И у того, и у другого ладони – как ледяные клещи. Словно тебя держит сама смерть… А разве не так? Кто-то попытался вырвать Анету из людского круга… Голос Богуша звучал совсем рядом:
— Очнись! Во имя Господа! Пошли домой!
Нет, не в силе человеческой остановить эти пляски… Мчать, мчать по кругу… Но она не может… Не может больше… Упасть… Стать землей… Пылью под чужими ногами…
На церковной звоннице ударил колокол – неумолимо-властно. И хоровод закружился с новой силой.
–Ю-рий! Ю-рий! Ис-це-ли!
Чума пришла в Старовежск с осенним ветром, перевитым седой паутиной, с горьким запахом вереска, и как паутинки бабьего лета, полетели судьбы в неведомый край, оставляя живым отчаяние прелой листвы. Останавливались мельницы, переставали стучать молоты кузнецов, обходили город стороной уважаемые купцы, и те, кто остался жив, не имели чем привязать душу к телу… Великий князь обещал помощь. За это город должен был расплатиться частью свободы. Но о старовежцах соседи не зря говорили: «Хоть лоб медный, но и стена каменная», да еще сплетничали, как старовежцы сеяли волчьи зубы вокруг колодца, чтобы выросли покрытые шерстью воины, или о том, что в подземельях городских текут медовые родники, и что каждый старовежец умел в полночь поймать шапкой красную метлушку, чтобы жарить блины на ее неугасаемом огне. Посланцы Великого князя получили «гарбуза», как неудавшиеся сваты. Но, пока они уговаривали упрямых горожан примириться с князем, стало еще хуже – за чумой началось безумие… Хоровод смерти.
Епископ, присланный в Старовежск Великим князем, испуганно и немного брезгливо наблюдал из окна ратуши за одержимыми, держа у носа ладанку с зельями.
— Пресвятой Боже, что делать? Половина магистрата пляшет… Настоятель храма! Целый день сидим тут, как в осаде… Может, послать стражу – остановить их?
— Бесполезно, — Гервасий Бернацони, лекарь Великого князя, приехавший вместе с епископом, равнодушно скривил тонкие губы. – Я видел похожее много раз. Во Флоренции это называется пляски святого Гюи. В Эльзасе – пляски святого Витта. В Кёльне безумцы обращались к святому Иоганну… Местные, литвины, призывают святого Юрия… Я называю это плясками смерти. Обычно такое случается, когда чума забирает более половины жителей селения.
Одна из женщин безумного хоровода упала. Двое смельчаков из стражи подбежали и оттащили несчастную – она была словно окоченевшая, только ноги в сбитых до дырок кожаных башмаках-кабтях все еще дергались, все еще продолжали смертельный танец, да из губ, на которых засохла серая от пыли пена, доносился тихий хрип:
— Ю-у-у-ри-и…
— Божье проклятье… — покорно прошептал епископ. Бернацони скептически пожал плечами.
— Кто говорит — проклятье, кто — наоборот…– лекарь прищурил черные жестокие глаза, всматриваясь в движение на площади. — Двести лет назад маленький пастух из Клоэ услышал голос с неба и повел тысячи детей в крестовый поход, отвоевывать Святую землю… Они точно так же плясали и кричали, пророчествовали и кружились до изнеможения. А папа их благословил, как избранников Божиих.
— Дети — невинные создания, — веско промолвил епископ. — Они ближе к ангелам, чем мы, грешники… Святой Дух чаще говорит через них.
Бернацони покивал головой и произнес с преувеличенной вежливостью:
— Правда, мне кто-то рассказывал, тех благословленных вашим папой деток генуэзские купцы погрузили на корабли и отвезли на турецкие рынки рабов.
Епископ уловил затаенную насмешку, но промолчал. Открыто перечить Гервасию Бернацони не отважился бы никто: все знали, что при Великом князе он больше, чем лекарь — тайный советчик. Появился при дворе еще тогда, когда князь связался с еретиками-гуситами и даже племянника послал за чешской короной… Тогда и понаехало разных — монахов-раскольников, худых, как бич, с фанатично горящими глазами, ученых шарлатанов со змеиными улыбками… Прага представлялась епископу огромным Вавилоном. Бернацони много лет жил в том вертепе, и чем занимался, хорошему христианину лучше не знать. Лекарь он действительно отличный. И толмач дивный, наверное, даже на языке латофагов говорит…
“Вот только на языке ангелов тебе, брат, не разговаривать”, — мстительно подумал епископ.
— И вообще, чего вы так переживаете? — продолжал Гервасий. — Я понимаю, в этой стране такое впервые… Вы не знаете, что говорить новой пастве… Но если бы не пляски, было бы хуже. Чума и безумие — справедливое наказание за гордыню. И своевременное.
Епископ с ужасом глянул на смуглое, в сумерках бронзовое, лицо лекаря. Бернацони холодно улыбнулся.
— Только не говорите, святой отец, что не знали о непомерной гордыне этого города — стать литвинской Генуей… Великий князь думает, как сохранить свое государство, как помириться с братом, как отбиться от врагов — ему не до выходок “вольного города”. Вспомните, как ваше преподобие чувствовало себя вчера, когда добрые горожане собрались под этим окном да стали орать свое “Долой!” да требовать вече! К тому же, сторонников папы в городе немного… Не вы ли меня просили как-то утихомирить крикунов?
Епископа передернуло.
— Я совсем не представлял, что это будет выглядеть так… Это… больше похоже на колдовство.
Бернацони раздраженно возразил:
— Если бы эти люди уже не имели в себе душевной болезни, им не повредило бы ничто… И я, недостойный, мчался бы сейчас с вами к Великому князю с великим позором.
— Но в кругу оказалось и несколько наших воинов!
Бернацони холодно улыбнулся.
— Что ж, несчастным не повезло… Но когда человек оказывается в недобрый час в недобром месте, разве и в этом нет проявления Божьей воли? Господь разберет на Суде, кто праведный, кто грешный. И Он сам выбирает инструменты, которыми исполняется Его воля. Так что не истязайте свою совесть, Ваше преосвященство, это было необходимо. Подайте знак, чтобы поставили вокруг площади стражу, объявите пляски проклятьем и ждите.
Хоровод немного замедлил движение. Еще несколько человек упало. Монах заверещал и попытался вырваться из круга… Но снова ударил колокол, и ему отозвались часы в ратуше — Бернацони повсюду возил за собой свою бесценную коллекцию, невиданное диво для Старовежска. Тут даже на ратушу часы так и не собрались поставить, как сделали гродненцы. Не до часов было городскому совету — войны бесконечные… Великий князь дани требует, король польский сманивает в Корону… Всем нужен славный Старовежск, все хотят сорвать с его ратуши белый штандарт с алым, словно восходящее солнце, всадником…
А у Бернацони часы, как в королевских дворцах — похожи на маленькие храмы, украшенные разными фигурами… И целых двенадцать. Постукивают, словно кузницы хохликов. Когда-то епископ не против был бы один получить. Но разве пражский пришелец подарит… Не выменял и на крупный аметист в оправе из белого золота (у епископа была своя слабость к красивым вещам). Но теперь, когда епископ знает мощь этих часов, ни за что не согласился бы держать такие в своем дому.
Между тем несчастные, одержимые пляской, словно звуки подогнали их, закружились с новой силой.
Солнце окончательно спряталось за острым темным силуэтом церкви. В отблесках костров, которые горели на всех углах площади, стремительно двигались зловещие тени. Тяжелая золотая цепь, свидетельство докторского звания, тускло блестела на груди княжеского лекаря.
— И сколько это будет длиться? — с отчаяньем произнес епископ.
— Пока они все не умрут, — спокойно ответил Гервасий.
……………….
— Анета! Очнись! Ане-та!
……………….
Я тряхнула головой, избавляясь от обрывков кошмара. Снова задремала на работе. Ну не привыкла я вставать в пять утра, господа… И снова этот сон! Хотя реальность была тоже неприветливой. Книги, которыми я торговала, пестрели вокруг, словно экзотические птицы… Какие там птицы — не все из них могли уподобиться даже чучелам, на которых охотники ловят доверчивых крылатых жертв…
— Анета! Спишь, как на лекции! Вот так встреча! А я думаю, чего давно твоих статей не видно. В бизнес подалась!
Аркадий, бывший однокурсник, гладкий и веселый, как новенькая фарфоровая ваза, улыбался во все зубы. Не люблю, когда знакомые видят меня за новым занятием. Была журналистка — стала продавщица… Батрачка…
И тут пестрое царство базара на минуту для меня онемело, словно я нырнула под воду. Причиной тому был спутник Аркадия, синеглазый брюнет в черном свитере, на взгляд некоторых (а когда-то и меня) довольно симпатичный.
— Привет, Анна.
— Привет, Юрась.
Надеюсь, в моем голосе было достаточно льдинок. С бывшими мужьями нужно разговаривать голосом Снежной Королевы.
А Юрась здорово изменился… В плечах стал
широкий, а губы, когда-то по-юношески пухлые, улыбчивые, сурово сжаты. На щеке
появилось несколько шрамов. И волосы коротко стрижет, этакий непослушный темный
«ежик» получился — а когда-то ходил с длинными волосами, как поэт эпохи
романтизма. Только глаза по-прежнему синие, и брови прямые, сходятся упрямо над
переносицей. Неухоженный какой-то… Рукава свитера растянуты, джинсы
протертые… Но на руке блестит обручальное кольцо (превращаюсь в старую деву,
которая мгновенно и завистливо замечает такие детали). Одиннадцать лет, как
последний раз виделись. Да и сколько мы по-настоящему были вместе — смешно признаться.
Случается, букет хризантем дольше простоит… Студенческая свадьба, так
сказать. Идиотка… Нет, чтобы принять ухаживания Аркадия, сына заведующей
столовой, была бы сегодня такой же холеной и не стояла бы за книжным
прилавком…
— Нормально, Анета. Ты хоть книжки продаешь, а я с унитазов начинал, — Аркадий, видимо, заметил, что мне неловко. — Да-да, семь лет назад я сантехнику возил из Польши. Потом магнитофоны из Германии… Потом авто гонял аж из Голландии.
— А теперь что возишь? — мрачно спросила я. Страшно злило, что Юрась молча смотрел в сторону, словно боялся поднять на меня глаза. Аркадий от души расхохотался.
— Теперь ничего возить не надо! Потому что недвижимостью занимаюсь. Не-дви-жи-мо-стью! Другим продаю, сам покупаю. А теперь почти что князь — замок имею!
Юрась бросил на друга скептический взгляд исподлобья, Аркадий раздраженно уточнил:
— Ну не замок, не замок… Башню. Но где? В Старовежске, на площади! У тебя еще большая статья про этот городок была. Помнишь?
Еще бы не помнить! После этой статьи меня и выгнали из газеты. Аркадий сиял, как ребенок, которому купили дорогой конструктор. Дама в желтом мешковатом пиджаке оттеснила гостей от моего прилавка, чтобы полистать толстенный том “Энциклопедии эзотерических символов”. Но я не расхвалила ей “увлекательный трактат о тайных знаниях”, а начала расспрашивать Аркадия с былой журналистской хваткой:
— Подожди, как тебе могли продать ратушу? Это же исторический памятник!
— Конечно, исторический! — довольно согласился бывший однокурсник. — Четырнадцатого века постройка. Но ты же сама писала, в каком она ужасном состоянии, разваливается. Крыши нет. Внутри — деревья растут. Еще немного — осталась бы груда камней. Районное начальство радуется, что сбыли. Кому дело?
— Ну, хотя бы местным краеведам! — возмутилась я. — Сама с ними встречалась. Энтузиасты…
Аркадий только пожал плечами.
— Нашла силу — “краеведы”… Больших событий с той башней не связано, партизаны в ней штаб не устраивали… А я отреставрирую и открою шикарный отель и ресторан. Туристический комплекс будет! Вокруг заповедные леса, на охоту да рыбалку и теперь со всего света люди ездят. А ты, Анета, кстати, не думаешь работу менять? Мне хорошие менеджеры нужны. А ты же у нас на курсе “звезда” была. Самая талантливая. К тому же языки знаешь. С твоим польским да немецким можно хоть в посольство переводчицей!
В прежние времена я бы зацепилась и стала защищать исторический памятник от очередного нувориша… Но юношеский романтизм давно сошел с меня, как позолота с обложки забытой под дождем книги… Да и Юрась прежний даже руки не подал бы человеку, который переделывает башню четырнадцатого века под туристический комплекс. “Вернем свае фальваркі, вернем лясы і паркі, і калісьці непазбежна мы адродзім усю краіну…”.
Ага, возрождаем… Обеспечиваем польскими унитазами и российской бульварной литературой…
Базар гудел, как море в ракушке, прижатой к уху: то затихал, то шумел громче, и нельзя было понять, где его сердце. Дама в желтом пиджаке отошла, так и не отжалев денег на “Энциклопедию эзотерических символов”.
— Спасибо, Аркадий, за предложение… Но…
Аркадий не обиделся.
— Хорошо, подумай. Вот тебе моя визитка… И ты телефончик скажи, а то исчезнешь в своей обычной манере — молча и бесследно, как Снегурочка.
Я получила из барских рук визитную карточку с золотыми буквами и… гербом. Вот тебе и сын заведующей столовой! В абрисе щита, похожего на окошко в декорации мольеровской пьесы — башня. И действительно возжелалось Аркадию Баркуну князем стать.
— А ты, Юрась, тоже торгуешь? — спросила я как можно равнодушнее.
— Я реставратор, — тихо произнес мой бывший муж, наконец на меня глянув. Мне не удалось спрятать удивления.
— Ты же на журфаке учился!
— На журфак меня родители устроили, будто не знаешь, — Юрась улыбнулся прежней юношеской улыбкой. — Какой из меня журналист… Игру в слова я не люблю. Когда отчислили — не сомневался, что правильно. Отслужил в армии, окончил витебское художественной училище, работаю вот…
— Он просто чересчур скромный, — упрекнул Аркадий. — Юрась у нас — известный специалист. Я и сам с ним советуюсь, и клиентов своих направляю. Кстати, о птичках… А не поторопиться ли нам, приятель? Опоздаем… Ну, Анета, рад был повидаться. Звони!
Юрась произнес свое “Пока!”. И обладатель башни потащил его в сторону лестницы, где был антикварный салон. В полдень там ожидался аукцион.
Я снова устроилась на свой стульчик за прилавком. Пришла осень, одинокая, обиженная, отгородилась от мира холодными решетками дождей и листопадов. Рыжих всегда обижают, а я — тоже рыжая, как осень… И такая же одинокая. Хотелось спрятаться, скрутиться клубком, как котенок… Что я сделала со своей жизнью? Вот — появился человек, который — моя первая любовь, и ничего особенного в душе… Конечно, что-то шевельнулось, оборвалось в груди — но разбитое окно вызвало бы больше эмоций.
Приметили мы друг друга еще на первом курсе. Я была этакой самоуверенной девчонкой с рыжей косой до пояса и страшно боялась показать свою “провинциальную”, как я считала, стеснительность, что-то сделать “не по-столичному” (и сколько глупостей совершено из-за этого!). А Юрась Домогурский был немного неуклюжим городским юношей с длинными кудрями, старосветской воспитанностью да начитанностью. Все знали, что его отец — языковед, и не удивлялись, что Юрась везде разговаривал “на мове”. А я выросла на романах Короткевича, мама моя преподавала белорусскую литературу и как самые большие реликвии собирала книги с автографами белорусских поэтов… Поэтому когда на лекции преподаватель начинал рассказывать, например, о героическом сражении белорусского народа с Наполеоном, Юрась громко вспоминал Радзивиллов, которые были на стороне французов, а из другого угла аудитории я задавала свой вопрос об освободительном полке Княжества Литовского, который французы набирали на наших землях. Преподаватель нервничал, а мы считали себя чуть ли не инсургентами.
На втором курсе послали нас на картошку. И как-то вечером Юрась повел меня на окраину деревни — с кем еще мог поделиться открытым чудом? Над зарослями шиповника возвышался черно-седой от времени столб, наверху которого, словно треугольная шляпа восемнадцатого столетия, красовалась резная крыша. Ниже крепилась круглая рама с растительным узором — птички на веточках, деревянные розы — словно венок. Мастер чудный… Даже почерневшая, потрескавшаяся резьба впечатляла.
— Это оброчный крест! — взволнованно рассказывал Юрась. — Тут когда-то проходила дорога… На крест повязывали рушники, чтобы путь легким был. Поперечную перекладину отломали… Видишь, тут она крепилась. И распятие сорвали, варвары… Только обрамление осталось. А это же семнадцатый век, не позднее!
Юрась гладил почерневшее дерево, словно живое.
— Восстановить можно! Какая красота!
Я тоже дотронулась до столба — его поверхность была теплой и шершавой, словно натруженная ладонь…
Юрась положил свою руку на мою… В небе зажглись первые звезды…
— А они целуются в кустах, сопляки!
Преподавательница литературы, наша “картофельная кураторша”, захлебывалась от возмущения.
— Анна! Я думала, ты скромная, порядочная девушка! А ты — развратница! Косы, смотри, заплела, а сама…
Слова летели в меня, словно комья грязи и, казалось, оставляли видимые следы. Да еще тут, возле древнего креста, на который молилось столько поколений странников!
Я залилась слезами стыда. И тогда Юрась твердо сказал, что я — его жена, и он никому не позволит меня оскорблять. Позже оказалось, что это были не просто слова, а план мести и спасения моей чести. Как Юрасю удалось уговорить меня на авантюру — должно быть, я чересчур распереживалась… Но я отдала ему свой паспорт. Назавтра Юрась пошел в сельсовет, не знаю, во сколько это ему обошлось, но… нас расписали. Вечером мой неожиданный муж явился к преподавательнице с нашими паспортами, в которых стояли новенькие штампы. Ради слов извинения, которые моя обидчица, высохшая до свиста старая дева, выдавила из себя, стоило соглашаться на игру в невесту…
Но игра затягивалась. Нас ожидало возвращение в город, учеба, разговор с родителями… Вначале это было даже весело — родители Юрася, “переварив” новость, переселили к себе его бабушку, и мы оказались в ее квартире. Как я потом поняла, родственники моего мужа были уверены, что такой молниеносный брак мог состояться только по причине беременности невесты. Своей маме я даже не стала ничего сообщать — обязательно захотела бы устроить в нашем городишке свадьбу. Мы с Юрасем по-настоящему стали мужем и женой, это было чудесно… Для первой брачной ночи купили алого атласа — простыни из сказочных парусов! А еще Юрась прочитал, как режиссер Параджанов украшал комнату для Марины Влади и Владимира Высоцкого — и так же выложил весь пол апельсинами, а между ними расставил зажженные свечки… Счастливый возраст, когда аксессуары дают ощущение счастья. А еще — свобода! Независимость! Можно всю неделю валяться в кровати и есть конфеты. Можно день за днем складывать немытую посуду в корзину. Можно всю ночь где-то бродить.
И не послало небо нам ни любви, ни терпения…
Да и за что были бы нам те великие дары? Юрась каждый вечер пропадал то в рыцарском клубе, то в мастерской знакомого художника. А когда оставался дома, то возился с какими-то старыми железяками, подобранными на помойке, чтобы потом торжественно зажечь ржавый примус или завести будильник, который тикал, словно трясли горох в железном ведре. Особенно Юрась гордился помятыми, поцарапанными часами -“луковицей”, которые ремонтировал целый месяц и которые, по словам моего мужа, принадлежали когда-то виленскому историку Вацлаву Ластовскому… Почему именно Вацлаву Ластовскому — внятных аргументов я не услышала, но Юрась только злился, когда я высказывала сомнение, прицепил к часам чуть ли не якорную цепь, которая свешивалась из кармана его джинсовой куртки, словно оттуда собирались убегать плененные гномы. А я ходила по литобъединениях и театрах, а поесть бегала к тете Алле, маминой двоюродной сестре, которая жила неподалеку и заботилась о “бедной студенточке”…
Осенние дожди перечеркивали окна прозрачными линиями, ночью больше не было видно звезд… А ископаемая глиняная чашка, из тех, что Юрась приносил в дом и заставлял пить чай только из них, чтобы чувствовать связь со шляхетскими предками, треснула в моих руках, и я ошпарила колено. Меняться, прирастать друг к другу не было ни желания, ни смысла. После очередной ссоры — Юрась отнес мои любимые кассеты какому-то приятелю, да еще на мои крики по-мальчишечьи дернул за косу — я подала на развод… Когда мы разошлись, на подоконнике нашей квартиры еще лежало несколько привядших апельсинов нашей первой брачной ночи.
Под конец года бывшего мужа отчислили с журфака. Равнодушие Юрася к моей любимой профессии злило еще больше, чем его привычка повсюду носить с собой включенный магнитофон, из которого слышались хриплые песнопения Шалкевича или лирические трели Даньчика. “Мне чужых краёў не трэба…”. Еще на лбу сделал бы себе татуировку “I love Belarus”. Легкомысленный болван! Не хочу иметь с ним ничего общего! Подруга уговорила меня “потерять” паспорт. Я заплатила штраф и получила новенький документ, без всяких напоминаний про “ошибку жизни”. Меня послали на год на стажировку в Польшу, потом я выиграла в конкурсе на лучший краеведческий репортаж и попала на два месяца в Германию… А по возвращении меня пригласили в престижную газету. Короче, удачная творческая карьера помогла забыть обо всех прошлых увлечениях.
А теперь я пытаюсь забыть об удачной творческой карьере. Как хорошо, что нет покупателей… Залы почти пустые. Конечно, выручки не будет. Зато можно еще подремать. Только бы снова ужасы средневековые не приснились.
— И много ты, дорогуша, таким образом наторговала? — голос Катерины Петровны, хозяйки моей “торговой точки”, дрожал от праведного гнева. Я вскинулась.
— Да пока ничего…
— Не удивительно, — Катерина Петровна, подтянутая брюнетка в голубом джинсовом костюме в розовые цветочки, моложе меня на два года, осмотрела прилавок. — А почему не выложила «Энциклопедию эзотерических знаний»? Ее хорошо покупают.
Я глянула на книги и похолодела. Шикарное издание исчезло. Неужели дама в желтом пиджаке постаралась?..
Хозяйка, видимо, заметила мое волнение и деловым тоном спросила-подтвердила:
— Украли?
— Не знаю…
— Зато я знаю, что ты работаешь у меня последний день.
Дома я заварила чай из шиповника. Чай из специальных пакетиков с изображением розового цветка на бирочках получался блеклым, как дым, и невкусным. Но за словом «шиповник» для меня пряталось столько приятного, волнующего, значительного, что я не собиралась переходить на другие напитки. Теперь можно было усесться в мое любимое кресло, поджав ноги, и представить, будто ничего, кроме этого кресла, чашки с чаем и репродукций старинных картин на стенах в мире не существует.
На одной из гравюр был воплощен типичный для 15 века мотив – из окна башни высунулся скелет, в одной руке его – коса, в другой – весы. И молодая ведьма с волосами, распущенными по ветру, летит в ночном воздухе, под луной, чье круглое лицо разделено на две половины – темную и светлую…
Кстати, нужно снять эту картину – из-за нее, очевидно, мои ночные кошмары. Повешу Ренуара и буду снить парижские кафе.
И жизнь нужно изменить тоже. Правильно мама говорит – нельзя жить в ракушке, если ты не улитка. Говорят, характер человека проявляется только в экстремальных ситуациях. Вот у вас падает чашка с чаем. Одни ее молниеносно подхватят, пускай и обольются при этом, другие замрут на мгновение, позволяя чашке разбиться, а некоторые – сразу же отпрыгнут в сторону, как от гадюки. Да еще и из комнаты убегут, уверяя себя, что там никакой разбитой чашки на полу нет, и вообще сегодня они чаю не пили.
Я отношусь к последним.
Не было моего брака, не было журналистской работы, не было «торговой точки» с книгами…
«Меня нет», как утверждает один философ.
Почему же мне так плохо?
Потому, сударыня, что тебе тридцать лет. Что ты всю жизнь бросаешь то, что стоит спасать. Потому что можно начать с унитазов, а закончить башней четырнадцатого века. А можно начать с башни, а закончить…
Пускай моим первым шагом из ракушки, в которой я замкнулась от неприветливого мира, будет этот телефонный звонок… Я набрала номер, написанный на визитке с золотым гербом с изображением башни.
— А кто спрашивает Аркадия Мартыновича?
Голос деловой, ни одной живой ноты. Наверное, попала на секретаря. Я назвалась. Потом пришлось объяснять, что встретила Аркадия Мартыновича случайно, первый раз за десять лет. И что есть свидетель разговора, наш однокурсник Юрий Домогурский. Постепенно я начала раздражаться. Смотри ты, какая служба охраны у Баркуна бдительная! И наконец – Аркадий Мартынович подойти не может! Но не успела я возмутиться, как прозвучало объяснение.
— Боюсь, работу вы не получите. Аркадий Мартынович умер.
— Как…умер?!! Я же с ним утром разговаривала!
Мой собеседник презрительно засмеялся.
— Бывает, гражданочка. Для этого одного мгновения хватает. Был человек – нет человека. Кстати, скажите мне на всякий случай свой телефон.
Я не совсем поняла, зачем, но послушно продиктовала.
«Он выбыл первым из круга нашего. Поэтому в молчанье мы выпьем за него». Александр Сергеевич Пушкин. «Маленькие трагедии», «Пир во время чумы».
Гудки в телефонной трубке заставили меня очнуться. После обязательных философских размышлений я – такова уж эгоистическая человеческая природа – вернулась к своим проблемам. А я уже настроилась, что получу денежную работу… Хорошо хоть, за квартиру на год вперед уплачено. А через четыре месяца…
Отбросить дурацкую гордость, забыть про обиды и вернуться в журналистику? Это все равно что в болото… В государственное издание больше не пойду. Политикой заниматься тоже не хочу. Разве что в какую-нибудь развлекательную газетку, где можно спрятаться под псевдонимом, и никто из знакомых, и тем более читателей не сопоставит меня с прежней скандальной журналисткой Анной Борецкой… Буду осчастливливать читателя известиями, какой очередной лимузин купил российский попсовый зайчик-переросток Киркоров… Может, это и есть мой настоящий уровень? Мой последний любовник, художник-маринист, так и считает. Какая там «скандальная журналистка»! Не преувеличивай свое значение, милочка. На настоящий скандал ты способна так же, как ворона – стрелять из пушки. А может, податься куда-нибудь переводчицей? Преподавать немецкий или польский не возьмусь, а вот туристов возить…
Я представила себя с туристической группой в качестве гида… Бабушки с перманентом, утомленные жизнью бизнес-мамы с детьми-подростками, бесконечные вспышки фотоаппаратов, а где тут поменять валюту, а сколько можно через таможню провезти спиртного… И меня передернуло.
Обстоятельства требовали не чаю с шиповником, а крепкого кофе. А после кофе меня потянуло к письменному столу. Я вывернула содержимое его ящиков. Рукописей, как осенних листьев… Интервью, статьи, стихи… Все в набросках, все – никому не нужно… Как и осенние листья.
В тусклом свете раннего утра площадь вокруг ратуши напоминала поле после боя. Дым стелился над камнями мостовой, на которой лежали неподвижные тела. Бернацони осторожно переступал через них, с холодным любопытством вглядываясь в лица, одинаково искаженные мучительной гримасой – глаза выпучены, словно от ужаса, зубы оскалены в последней усмешке. Смерть хорошо повеселилась этой ночью. Что ж, рано или поздно она заберет всех, жалость неуместна. Вдруг послышался негромкий стон – и на фоне мертвой тишины это было громче удара колокола. Бернацони резко обернулся. Сквозь дым виделось – кто-то сидел, обняв руками колени и покачиваясь. Гервасий приблизился. Девушка… Лекарь видел ее среди пляшущих. Красивая, как родовитая венецианка. Платье из дорогого черного шелка превратилось в лохмотья, белые кружева напоминали грязную пену на поверхности генуэзского залива. Золотистые косы расплелись, глаза обведены кругами нечеловеческой усталости… Но сами глаза разумные, тоскливые. Вдруг девушка глянула на Гервасия, и он, привыкший к людской боли, неожиданно для себя содрогнулся.
Как она выжила? Это невероятно… Последние восемь часов скорость хоровода была такая бешеная, что не выдержало бы сердце даже у сильного воина. А это слабая девочка…
— Что с нами случилось?
Голос – как шелест сухой травы. Но – она не только выжила, она не утратила разум!
Бернацони склонился над девушкой.
— Как тебя зовут?
— Анета… Анета Лескевичанка.
— Разве ты не плясала вместе со всеми?
Девушка обхватила голову тонкими руками, помолчала.
— Я была в хороводе… Я думала, что умру… И не хотела умирать. Меня тащили… Я падала… А потом – вырвалась.
— Что привело тебя в сознание?
Анета опустила голову, золотые косы упали на колени.
–Не помню… Мне нужно к Богушу… Богуславу Радчицу… Он мой жених… — совсем тихо произнесла девушка, и Бернацони понял, что она может потерять сознание. Как хорошо, что стража никого сюда не пускает. А чума скоро заберет всех, кто еще может задавать вопросы.
Уникальный случай! Он должен изучить его – ради науки и… мирового порядка. Если девушка смогла выжить в хороводе смерти, выдержит и опыты, которые давно пора провести.
Бернацони властно приказал:
— Покажи свои ноги. Не стесняйся, я лекарь.
И в подтверждение прикоснулся к золотой цепи. Анета, помедлив, приподняла край платья… Да, ходить она не сможет еще с месяц… Но калекой не останется. Прекрасно…
— Я помогу тебе.
Бернацони набросил на девушку свой плащ и подхватил ее на руки. Никто не видел, как он вошел в башню.
Я невменяемо смотрела просто в стену, оклеенную белыми в тонкую коричневую полоску обоями (если бы это была моя квартира, я наклеила бы просто белые)… Заснула за письменным столом! Неприлично красивый эпизод для писательской биографии. Только я не претендую на звание писателя. Журналист тянется к литературе, как архитектор к изобразительному искусству… Вечная нереализованность да неуничтожимая вера, что тебе даны крылья, просто почему-то не раскрываются… Звонок в двери, который меня, видимо, и разбудил, не умолкал. Я пошла открывать, бросив по дороге сердитый взгляд на гравюру, которая содействовала моим ночным страхам.
Глянула сквозь дверной глазок… На площадке стоял Юрась.
За какой-то обрывок времени я успела убедить себя, что выгляжу вполне спокойно, причесаться и сбрызнуться остатками французских духов.
Юрась, в отличие от меня, не подумал о внешнем виде. Лицо измученное, глаза покраснели, в том же свитере, в котором я видела его на рынке. Такой… обычный мужчина. И чем он когда-то меня привлек?
— Можно войти?
Я молча отошла вглубь коридора. Юрась медленно ступил через порог… И у меня появилось ощущение, что о невидимую ракушку, в которую спряталась моя жизнь, стукнул камушек. Я чуть не закричала: «Что тебе тут надо?».
Бывший муж обвел глазами небогатую квартиру, отрывистым жестом пригладил стриженые, но все так же непослушные волосы (ага, тоже волнуется!), еще больше смутился, когда заметил в углу кожаные тапки моего последнего бойфренда, точнее, очередной несостоявшейся Большой Любви.
— Прости, что побеспокоил… Да еще так рано. Но ты знаешь, что вчера случилось.
— Ты… о смерти Аркадия? Ужас… А от чего он умер?
Юрась пристально взглянул на меня.
— Так тебе никто и не сказал?
— Нет… Выглядел здоровым. Может, авария?
Мужчина, в которого превратился знакомый мне когда-то юноша, отрицательно покрутил головой.
— Его убили.
— Что?!! – тот Юрась мог подобным образом пошутить.
— Убили, когда возвращался домой. В подъезде, — терпеливо объяснил этот Юрась. – Застрелили.
Меня замутило. Мой маленький, спокойный, неяркий мир расползался, как истлевшее полотно.
— Подожди, я же ему вчера звонила… Говорила с секретарем.
Домогурский невесело рассмеялся.
— Какой секретарь… С тобой разговаривал следователь. А я в это время сидел в углу в качестве свидетеля. Мы же с Аркадием вместе возвращались. Хочу спросить тебя кое о чем…
Я понимала, что визит Юрася не имеет лирическо-ностальгической цели, и это значительно все упрощало. Поэтому я заварила крепкий кофе и даже поставила на журнальный столик две глиняные чашки, которые до этого пару столетий пролежали в земле менского городища. Юрась оценил — покрутил в руках, как величайшую драгоценность, и даже точно определил время, когда это посуда возникла из глины. Потом заметил мои гравюры:
— Не знал, что ты любитель средневековой жути. Откуда?
— Из Старовежска. Когда собирала материал для статьи, мне местный краевед подарил, Петр Филиппович Колейко. Он изображения этих гравюр в каком-то итальянском альбоме нашел. Будто бы это в Старовежске нарисовано. Я лично сомневаюсь…
Юрась чуть не вскочил со стула.
— Так я же к тебе именно из-за твоей статьи и пришел!
Я помрачнела.
— Извини, но я предпочитаю своё журналистское прошлое не вспоминать.
Юрась виновато посмотрел на меня возмутительно синими глазами.
— Я не спрашивал бы, если б не думал, что смерть Аркадия связана со Старовежском и его ратушей.
Я недоверчиво хмыкнула. Юрась терпеливо объяснил:
— Мой богатый друг очень серьезно относился к своей башне. А началось с того, что дед Аркадия, бывший партийный деятель, оставил внуку в наследство дом в Лошице, и там на чердаке Аркадий нашел полуразвалившийся ящик. Это оказались очень старые часы, с бронзовой скульптурой — смерть отсекает голову царю. Часы дед Аркадия вывез перед войной из Старовежска, где был председателем комбеда. Видно, понравилась «идейная” скульптура. Вначале наш однокурсник не обратил внимания на находку, его намного больше интересовали дедовы коллекции серебряных ложек да немецкого фарфора в стиле “кич”… Но я объяснил наследнику, сколько стоят часы 15 века, “рарик”, как говорят антиквары… Тут на десятки тысяч долларов счет идет. А если еще и механизм целый — так и до сотни тысяч может “догнать”. Вот тогда Аркадий заинтересовался. Узнал, что часы нашли в подвалах старовежской ратуши, вместе с еще одиннадцатью такими же. А те одиннадцать какой-то поручик вывез в Польшу… Тут начал Аркадий и своей родословной интересоваться. Натерпелся в детстве, рассказывал мне, как его, сына поварихи (это потом она заведующей столовой сделалась), дразнили булкоедом да просили “свари харчо”. Баркуны, твердил, старовежская аристократия, последний из рода должен восстановить свое княжеское звание…. Увлекся не на шутку. Хотя его дед не зря председателем бедняцкого комитета был – голь перекатная. Но Аркадий, по-моему, искренне верил, что и ратуша когда-то принадлежала Баркунам, и часы в подземельях, и сам Старовежск… Собирал документы про эти часы. Искал, где они сейчас… Выкупить хотел.
— Разве он был такой богатый? – засомневалась я.
— Да мне самому странно…– отозвался Юрась. – У меня впечатление, что он последнее готов был отдать. Двое часов отследил, выкупил за бешеные деньги… Потом вышел на след потомков того поручика, собирался в Варшаву… Кредиты брал, акции распродал какие-то… Да не успел поехать.
— Ты считаешь, всё это имеет отношение к его смерти?
Мой бывший случайный муж немного помолчал, а потом вместо ответа заметил:
— А я представлял, Анета, заплетаешь ли ты еще косы. Оказалось – да. И они такие же золотистые. Чудесно.
Я рассердилась: говорил бы просто – «рыжие». А то – «золотистые»… А коса в тридцать лет – может, потому, что женщина перестала думать о своей внешности. Вслух я проговорила, конечно, другое.
— Еще несколько лет назад у меня была короткая стрижка, и я красилась в черный цвет. А ты по-прежнему не способен высказываться просто и логично.
Юрась виновато улыбнулся.
— Прости… Я не знаю, какая тут связь, но в последнее время Аркадий говорил и думал только о часах из Старовежска. Мол, они «живая легенда». Если, конечно, так можно сказать о механизмах.
— И мне рассказывали легенду, — вспомнила я. – Словно в ратуше когда-то замуровали смерть вместе с часами.
Юрась задумчиво продолжал:
— Аркадий мечтал прославить свою башню на весь мир… А для этого нужен был яркий миф. Понимаешь, если бы Брэм Стокер не сочинил истории о Дракуле, не было бы потока туристов в Румынию. Но для мифа нужны реальные события и персоны, как для создания Дракулы понадобился воевода Влад Цепеш, который прибивал неугодным шапки к головам гвоздями. Белорусская история богата и на персоны, и на события… Но их столетиями затаптывали в пыль забвения и ученая братия, и свои иваны, не помнящие родства. Попробуй, собери из осколков… Я уверен – Аркадию удалось что-то найти. Или он был на пути к разгадке. Не однажды повторял мне, что придет время – благодаря башне и ее часам он миллионами засыплется. Наш с тобой, Анета, однокурсник не был слишком интеллектуальным человеком. Не был он и добрым. Я же знаю – с клиентов, которых посылал ко мне, брал пятьсот долларов, а мне выделял пятьдесят. Но я не верю, что он мог убивать даже за свое будущее княжество. И… я был рядом, когда его застрелили.
А я и не знала, что он может выглядеть таким серьезным… Хотя и тогда был упрямый. Так, время всех нас помечает своей когтистой тяжелой лапой… Я снова уставилась на шрамы на лбу Юрася, на щеке. А когда он потянулся, чтобы поставить чашку, и рукав свитера приподнялся, оказалось, что такие же шрамы на его руке от запястья до локтя. От лезвия, что ли? Я слышала, наркоманы режут вены во время ломки… Но не лицо же! Бывший муж, словно услышал мои мысли, провел ладонью по израненной щеке:
— И все-таки, Анета, прости за настырность, я хотел бы узнать историю твоей знаменитой статьи. А то одни слухи доходили.
Я вздохнула.
— Хвалиться особо нечем. В Старовежск я приехала в командировку по письму читателя, того самого Петра Филипповича Колейко, который мне гравюры подарил. Районное начальство переловило меня на предыдущей станции, пригласили из автобуса в машину, всю дорогу следили, чтобы у меня не было контактов с местными «диссидентами»… Начитывали на диктофон нудные отчеты… Я была неопытной девчонкой, но определенная настойчивость мне свойственна.
— Весьма определенная, — не удержался от комментария бывший муж. Я сердито глянула на него и продолжала.
— Ну так вот… Я все равно прорвалась «в народ», и возмущенные краеведы мне наговорили… Городскую ратушу в то время внесли в список исторических ценностей. Государство давало на восстановление большие средства. А местное начальство злится: район упадочный, школы без ремонта, в колхозах зарплаты нечем платить…А тут в какие-то развалины вбивают живую копейку! Начальство можно понять… Короче, находили тем деньгам лучшее применение.
— И ты об этом написала честно и с блеском?
— Написала…– вздохнула я. – Со своим дурацким энтузиазмом, и с нерушимой верой, что спасаю мир…
— И что? Местному начальству «нагорело»?
— Ага… Жди. Это я потом поняла, что такие махинации без солидной поддержки не делаются. Вдруг вызывает меня наша редакторша Клара Степановна и во весь свой «трубный глас» объявляет, что я – позор для журналистики. Непроверенные факты, надуманная сенсация… И из-за меня газете приходится вымаливать прощение у администрации Старовежска.
— Почему? – удивился Юрась. – Ратуша действительно разваливалась!
–Ага…—уныло подтвердила я. – Только ее срочно перевели в разряд памятников местного значения. Сказали – ошиблась предыдущая комиссия, переоценила ту башню… Так что городское руководство теперь имело власть давать или не давать средства на восстановление никому не нужных руин.
Юрась только головой покачал:
— Ничего себе…
А обручальное кольцо на его руке не новенькое… Поцарапанное… Я уныло всыпала в свой остывший чай еще две ложки сахара, словно надеялась подсластить воспоминания.
— Покаянную статью, которую от меня вымогали, я все-таки не написала. Ну, подробности не буду… Общередакционное собрание, возмущенные письма организованных читателей… Уволили меня с паршивой формулировкой. И что интересно – еще недавно в нескольких изданиях были со мной очень милы и переманивали на работу, а тут перестали узнавать… Так это стало мне противно, что я дала себе слово – с журналистикой покончено. Если нельзя честно… Если нет справедливости… Так не хочу в этом быть.
Тени от занавески, смастеренной мною из кружевного ритуального наряда кришнаитов (находка секонд-хендовская), шевельнулись на стене, словно какой-то Будда укоряюще покачал головой. Юрась поставил чашку на стол и тихо вздохнул, словно боялся разбудить тяжело больного. И заговорил этак мягко-осторожно.
— Может быть, ты все-таки поторопилась делать такие… необратимые выводы? Везде есть честные люди… Можно было бы попытаться побороться, пойти в негосударственные издания… Даже если бы ты обратилась ко мне – я обязательно что-то придумал бы. Не поверю, что все отказали в помощи.
Я раздраженно глянула на гостя. Успел превратиться в зануду.
— Значит, я плохой журналист. И правильно сделала, что бросила не свое дело.
Юрась снова как-то странно вздохнул.
— Ну, хорошо, давай вернемся к Старовежску. Статью твою я помню. А вот – что туда не вошло? Вспомни, может, что-то, связанное с той башней, показалось странным?
Странным! Да там все было странным! Я, словно наяву, увидела стену башни – облезшая побелка, в выбоинах ржаво-красная кирпичная кладка – как грязный бинт, оторванный от раны. Обглоданный временем верх здания – два острых зубца, между ними – огромный провал… В черных глазницах окон – ветви деревьев, выросших внутри, на открытом небу фундаменте… Словно узники тянут руки. Как на карте Таро из Больших Арканов – башня, в которую ударила молния. Наказание за гордыню.
— Ну, например, на стенах не было никаких надписей, — проговорила я. – На заброшенных зданиях каких только каракулей не встретишь, от «Саша плюс Маша» до рокерской символики. А тут – ничего! Ни снаружи, ни внутри… И мусора тоже не было. Даже разбитых бутылок…
— Почему же так? – заинтересовался Юрась.
— Боятся той башни. Обходят, как могилу висельника. Даже меня отговаривали внутрь заходить.
— И чем объясняли?
— Эхо старых суеверий. Помнишь легенду, как смерть в ратуше замкнули? Так будто смерть и теперь там. Кто в башне побудет – каюк… Или с ума сойдет, или умрет вскоре. Так что согласно старой легенде – я уже на пороге того света, и за дверную ручку взялась, — пошутила я.
Но Юрась оставался серьезным, даже слишком.
— Через мои руки проходит много старинных вещей. С некоторыми тоже связаны таинственные истории. Но я убедился, что в каждой такой словно бессмыслице – реальная основа, —Юрась немного откинулся на спинку стула, так что пыльный солнечный луч скользнул по его волосам, – однако седеет мой гость! – и продолжал.—Пару лет назад принесли мне шкатулочку на реставрацию. Из красного дерева, итальянская работа 16 века… Жучком изъедена, расколота – с прошлой войны валялась на чердаке. Валялась, потому что славу имела, что несчастья приносит. То при царе Горохе какая-то свекровь с ее помощью от нежеланной невестки избавилась, то жена наказала изменщика-мужа … Нынешний собственник наследство предков на чердаке нашел и над суевериями посмеялся. Мол, для будущей его жены, любительницы антиквариата, лучшего подарка нету. А я стал реставрировать, и под крышкой нашел хитрое приспособление. Если нажать сразу на два цветка в резьбе, из одного из них на мгновение высовывается шип… Маленький, незаметный… Но все еще острый. Можно догадаться, что когда-то на нем был яд. В средневековой Италии такие смертоносные игрушки — обычное дело.
Пылинки танцевали в луче последнего осеннего солнца, и никакое молчание не могло отнять веселости у этих вечных крошечных танцоров. Юрась словно колебался перед тем, как сказать что-то важное. Ну, начинай же…
— Послушай, если тебе нужна работа… Не согласилась бы ты возвратиться к теме ратуши? Жена Аркадия, Лиля, конечно, теперь горюет… Но твердо объявила, что осуществит все планы убитого мужа. И первое – издаст книжку об истории ратуши.
— Аркадия еще не похоронили – а она об этом думает? – возмутилась я.
— Не удивляйся, Анета, — усмехнулся одними губами Юрась. – У них, «крутых», такой мир… Без сантиментов. Так вот, Лиля предлагает тебе две тысячи долларов за подготовку текста.
Он что, бредит? Юрась, поняв мое недоверие, поторопился объяснить:
— Только не подумай, что это обман. Просто она хочет, чтобы все было сделано к сорока дням по Аркадию, чтобы получился этакий подарок покойнику… На обложке герб Баркунов, внутри – портрет Аркадия. Ну и в тексте – об умершем, как заботился об исторических памятниках. Чтобы получилась небольшая книжечка. Вдова собирается раздавать ее гостям на сорочинах. И Аркадию – дань уважения, и, возможно, спонсоры найдутся на строительство. Если ты согласна – завтра поедем за авансом. У нас с тобой всего месяц на работу.
— «У нас»? – уточнила я не слишком вежливо.
— Меня Лиля просит часы отреставрировать, — объяснил мой бывший муж. – Чтобы для твоей книжечки сфотографировать их во всей красе. Ну и тебе помогу…
— Послушай, дорогой… Сколько тебя знаю, ты всегда втягивал меня в авантюры, которые заканчивались для меня плохо.
Юрась сидел молча, уставившись в пустую чашку. И выглядел очень несчастным. Вдруг он тихо спросил:
— Анета, почему ты больше не вышла замуж?
Ну вот, начались сентиментальные разговоры, которых мне меньше всего хотелось. Я вложила в ответ как можно больше сарказма:
— Не волнуйся, не из-за тебя.
Он снова понурился, словно мой ответ был ему неприятен. А на что он рассчитывал? Что я все это время по нему плачу? Вот моя последняя Несостоявшаяся Любовь, художник-маринист (представляете, жить в Беларуси – и рисовать исключительно море!), изранил мое доверчивое сердце основательно… А этот – за дверями души. А за предложение спасибо… Две тысячи долларов – это год прожить…
Я проводила Юрася до дверей, радуясь, что удалось не выйти за рамки делового визита. Неожиданно мой бывший муж неловко упал передо мной на колени, да еще – лбом об пол. Даже стук раздался. Я отпрыгнула. А Юрась глухо проговорил, не поднимая головы:
— Прости меня, Анна. Я давно должен был это сделать. Вот так – на колени… Виноват перед тобой… Поздно понял, что в семью – не играют. Если бы не я – у тебя б жизнь иначе сложилась.
Я не на шутку разозлилась. Кстати, и пол немытый, в чем сейчас он убедится на своих брюках.
–А ну, брось придуриваться! Можно подумать, ты меня соблазнил и выгнал, а я слезами заливалась, уходить не хотела. Если помнишь, я первая дверьми хлопнула. И, между прочим, не жалею. А глядя на такие фокусы, так просто радуюсь, что такое… чудо приходится терпеть другой.
Юрась молча поднялся (на коленях остались явственные грязные пятна, свидетельство моей бесхозяйственности), церемонно поклонился, все так же опустив глаз, и ушел. Интересно, как он объяснит жене, где ползал на коленях? Но я не собиралась расспрашивать его о семейных делах. Вот так – без сантиментов – с этим чудаком можно.
………………
Анета стояла на полу, выложенном черными и белыми мраморными плитами… Словно фигурка на шахматной доске, и сейчас великанская рука протянется, чтобы переставить ее на другую клетку…
А разве не так на самом деле?
Анета не помнила, сколько она живет в этой башне. Месяц? Два? Год? Всю жизнь? Словно никого в мире больше нет, кроме обитателей ратуши – Бернацони, его секретаря, низенького, почти карлика, чернявого Энрике, прислуги Марцели да ее самой, Анеты… А то, что было раньше – сон…
Нет, Богуш не сон… Синие глаза, что смотрели с такой любовью, их соединенные руки и слова благословения, сказанные отцом…
Анета знала, что и отец, и…Богуслав умерли. Чума… Черная Смерть… Пан Гервасий обещает, что не даст придти сюда Черной Смерти. В комнату каждый день приносят охапки свежего можжевельника… Пахучие свечки наполняют комнату тяжелым ароматом. Пан Гервасий каждый день ходит в город, выполняет приказ Великого князя – лечит тех, кого можно исцелить, объясняет, как бороться с заразой. И не боится заболеть. Не удивительно – Анета видела, на какие чудеса он способен… Железо в его руках гнется, словно воск… Свечка зажигается без огня. На чистом пергаменте появляются буквы, написанные красными чернилами. Раньше Анета подумала бы – колдун, и взывала бы к помощи Пресвятой Девы и покровительницы своей, Святой Анны, чтобы избавиться от нечистой силы. Но вот они, изображения Пресвятой Девы, и Святой Анны, и Архангела Михаила, борца с нечистью, и самого Господа нашего… И пан Гервасий безнаказанно глядит в их темные глаза, и даже крестится. И крест носит, в котором, по его словам, частица Животворного Креста Господня… Но ведь только святой затворник может надеяться на ангельскую помощь, чтобы делать чудеса… А посмотреть на башмаки-калиги лекаря с длиннющими, как журавлиный клюв, носами, набитыми для сохранения формы мхом, расшитые жемчугами и драгоценными камнями, на жупан из княжеской парчи с бриллиантовыми пуговицами – какая тут отстраненность от светских забав! Правда, княжеский лекарь говорит, что его чудеса – совсем не чудеса, а научные опыты. Но Анете все равно страшно и тоскливо, словно она попала в волчье логово и должна привыкать к волчьему духу. Почему он держит тут ее? Чего хочет? Насилия? Дочь шляхтича в Великом княжестве Литовском не может безнаказанно снасильничать даже князь, а не то что безродный иностранный лекарь… Только ничего похожего на похоть не показывается в узких черных глазах Бернацони. Только любопытство… Как к редкому зверьку. Он часто разговаривает с ней. Приказывает делать непонятные вещи. Например, кладет на стол два маленьких шарика – белый мраморный и черный из редкого нефрита. Говорит взять белый… Анета выполняет – она не осмеливается ослушаться. «Посмотри внимательно, ты ошиблась, он черный»,– сурово говорит пан Гервасий и пристально смотрит в глаза Анете. Так пристально, что у нее слегка кружится голова, и даже начинает казаться, что шарик, который она держит, действительно черный. Вот Богуш посмеялся бы над ней… «Я взяла белый…», — робко говорит Анета. «Нет, черный… Положи его и возьми белый», — упрямится лекарь. Но Анете не смешно от этой нелепой детской игры. Во рту – привкус меди. «Простите, но в моей руке белый шарик… А там – черный…», — шепчет. Слова выговариваются тяжело, словно она лжет. Пан Гервасий раздраженно встает, что-то бормочет на незнакомом языке… Но девушка чувствует, что он злится не на нее, а на себя. Назавтра все повторится… Зачем? Как хорошо было бы уйти домой… Но окна и двери их дома, наверное, заколочены и помечены белым крестом. Дом, куда заходила Черная Смерть.
Она повсюду… Чума… Воздух вокруг башни отравлен. Едкий дым ползет в окна, прокрадывается сквозь щели в свинцовых рамах, в которые вставлена окрашенная в багрянец и лазурь слюда. Может, в одном из этих костров сгорели тела любимых Анетой людей. Орут вороны. Людской крик и плач слышны все реже. Только колокол бьет на звоннице, и тикают часы лекаря. Вот они, стоят по углам комнаты. Ростом с Анету, на каждых, словно нездешнее лицо, блестящий латунный круг, разделенный на двадцать четыре части. По нему медленно, медленнее роста травы, двигается стрелка… Внутри – крутятся странные колесики, зубчатые, страшноватые, словно уменьшенные орудия пыток. Но часы очень разные. Вот на том маленький звонарь каждый час бьет бронзовым молотком в колокол… На том – двигаются в круглом окошке медные звезды, Месяц и Солнце с равнодушными, раскосыми, словно у татарских ханов, лицами. А на том – Смерть с косой отмечает каждый прошедший час ударом своего страшного оружия о покорно наклоненную голову Царя Ирода – о том, что это проклятый библейский царь, свидетельствуют мертвые младенцы у ног убийцы.
Анета осматривает помещение, до которого сейчас сузился ее мир, словно видит в первый раз и надеется заметить что-то новое. По четырем углам у потолка – раскрашенные головы шутов… В знак того, что в этом зале можно беззаботно веселиться. Еще недавно тут собирались господа городские советники, среди которых – и отец Анеты, садились на эти черные тяжелые лавки, что сейчас составлены вдоль стен, за могучий стол, который, понятно, не был пустым… (Стол по приказу лекаря вынесли – но как же это удалось? Разве что на части распилили?).
А над дверью – барельеф Белой Розы. Знак молчания. То, что тут произносилось, не должно было быть пересказанным за пределами комнаты. Sub rosa dictum. Сказано под розой.
Анета медленно – ноги еще болят – подходит к часам, на которых – Святое Семейство. Когда часы отсчитывают время, ангелочки над Пресвятой Девой начинают двигаться. Девушка протягивает руку, чтобы дотронуться до одного из ангелочков, улыбающегося, кудрявого…
— Я просил не трогать мои часы, — суровый голос лекаря заставил девушку вздрогнуть, сжаться, как от крещенской стужи. Бернацони приблизился беззвучно, как волк. – Никогда не подходи к ним без моего позволения.
— Простите…
Лекарь протянул руку к часам, что-то сдвинул… И ангелочек поднес к губам позолоченную трубу, бронзовый молоточек ударил в бронзовый щит… Бом-м-м… Бокал из венецианского стекла на столе задрожал, запел тоненько и отчаянно, словно умирающая метлушка.
— Что ты чувствуешь, когда звучат мои часы?
Девушка подняла на своего покровителя ясные синие глаза.
— Тоску…
Бернацони снисходительно усмехнулся. Он ходил от часов к часам, что-то поправлял в них бережно и почти влюбленно, как в свадебном убранстве невесты. И говорил, говорил со своим странным акцентом, иногда переходя на незнакомые языки. Последнее время такие разговоры случались все чаще… Словно от страшного одиночества человек делится наболевшим с младенцем, который не понимает сказанного, но все же – слушатель.
— Звук – это сила, которой человек должен еще овладеть… Пифагор говорил о музыке сфер, которая управляет Вселенной… Он слышал, как двигаются звезды! Вы считаете, что Иерихонские трубы – выдумка? Трубы, от звука которых рассыпались стены… Одноглазый мавр в Перудже, который торговал стеклянными бусами, шелковыми поясами и амулетами из шкуры Левиафана, рассказывал о развалинах Иерихона… Он видел камни двух его стен – первая, внешняя упала наружу, вторая – вовнутрь… Так не бывает ни от землетрясения, ни при штурме. В Падуе я слышал, как кричит ламия, голодный дух, который высасывает кровь и душу… От ее крика сходят с ума. Даже у меня потемнело в глазах, и показалось, что в моей жизни никогда больше не будет радости. Проведи пергаментом по необструганной доске… И от тихого скрежета дернешься, словно тебя царапают когти лемпарда, и рот наполнится слюной, как от лимона… Ты знаешь, что такое лимон, синьорита? Откуда… У него вкус неспелого крыжовника. А цветом он напоминает солнце Флоренции… Миа кара Флоренца…
Бернацони тоскливо глянул в окно, за которым сгущался вечерний сумрак.
— На самом деле человек очень легко теряет разум. В прошлом году я увидел на поле много спорыньи. Ваши крестьяне не выбрасывают больные колосья… Им нужно каждое зерно. А спорынья вызывает видения и безумие… Из нее делали отвары гунны перед тем, как идти в бой. Я сказал князю – будет мор и безумие среди твоих людей… «Злая корча». Он посмеялся. Мне было десять, когда я залез на самую высокую колокольню… Ударил колокол – а я как раз стоял наверху… Если бы колокол упал, то я оказался бы под ним, как жук в перевернутом бокале. Мир закружился вокруг меня, донна… И ножик, который выпал из моего кармана на каменные плиты, начал дрожать и звенеть, и постепенно поворачиваться… И я, маленький неуч, способный только толочь зелья для моего синьора аптекаря, навсегда усвоил, что есть силы, которых мы не осознаем, но овладев которыми, можем делать чудеса.
— Пан лекарь, а вы могли остановить наш хоровод?
Бернацони вздрогнул и посмотрел на девушку с недоверчивым удивлением, словно вопрос прозвучал из уст статуи.
— Нет, я не обладаю мощью обрушить человека во тьму или вытащить из тьмы на свет. Это – Божья воля. Но многие оказываются в полумгле, на неверной границе между светом и тьмой. Вот тогда…
Лекарь оборвал сказанное и посуровел.
— Ты еще слаба, донна… Иди и ложись в постель. Я пришлю к тебе Марцелю с отваром.
Стук часов грозно усиливался, словно приближалась карета смерти, запряженная двенадцатью железными конями.
……………………..
Первое, что я сделала, когда проснулась – посмотрела в окно. Это чтобы поскорей забыть о своих сумеречных и запутанных снах в готическом стиле. Но моросящий осенний дождь – не самый лучший пейзаж для улучшения настроения.
В доме вдовы Аркадия про паскудный дождь и обрыднувшие лужи забывалось сразу. Кажется, этот стиль называется «ампир»… Как в песне Гребенщикова «И золото на голубом»… Любят же наши богачи играть в родовую аристократию. На этом торжественном фоне Лиля Баркун в черном платье, плотно по фигуре, выглядела как вице-мисс красоты… Ухоженная и обиженная, что не главная мисс. Темное блестящее «каре» волос, тонкие брови горделиво изгибаются, губы четко нарисованы, и нижняя губа чуть заметно выдается – примета властной натуры… И ни один официант не осмелился бы подать такой даме даже слегка остывшее кофе… В лицо не выплеснет, но добьется, чтобы нерадивый остался безработным.
Лицо с привычно нейтральным выражением… Точно такой она была вчера на похоронах. Разве что под глазами припухло… Я, правда, стояла далеко, за спинами толпы, но слышала, как женщины шептались, осуждая вдову, что не плачет, не голосит. Интересно, как они с Аркадием познакомились? У них была романтическая любовь?
— Нужно, чтобы вы написали за три недели, — голос магнатки дрожал, как у обычной женщины в горе. Все-таки любовь была, решила я. – Вот аванс…
Молодой человек в элегантном сером костюме с траурной ленточкой на рукаве подал мне конверт. Вдова отвернулась к столу, на котором в черной рамке стоял портрет умершего, проговорила:
— На сорок дней соберутся все, вспомнить Аркадия… Ваш текст в типографию нужно сдать через месяц.
— Я постараюсь…
Лиля продолжала, глядя на портрет.
— Все должно быть так, как хотел Аркадий. Красивая история про башню. Муж верил, что его предок был рыцарем и защищал ратушу от врагов. И об этом чтобы упоминалось… И о часах… Столько денег на те часы ухнуло! А я еще ругалась…—вдова судорожно всхлипнула – мне показалось, что сейчас она заплачет, и чужое горе выплеснется передо мной, как горячий кофе из уроненной чашки, обожжет, пометит чернотой… И ни в коем случае нельзя отступить, заслониться. Но Лилия Петровна пересилила себя и заговорила совсем по-деловому.
— Часы в комнате на другом этаже. Их фотографии должны быть в книге… Юрий, вы, как специалист, все и расскажите о них уважаемой Анне. Алекс, проводи.
Они стояли вдоль стен с бело-золотыми обоями, словно старые, израненные рыцари, которые вернулись из крестового похода и попали на королевский бал, где их никто не помнит, в их подвиги не верит, и их ржавые латы и иссеченные темные лица никак не подходят блестящему придворному миру. Часы…
Но это все еще были грозные рыцари времени… Их молчание казалось полным упрека. И… я их уже когда-то видела. Эти громоздкие ящики из металла и дерева, с чудесными фигурками…
— Почему они такие большие?
— Большие? – Юрась, в своем черном свитере такой же нелепый тут, как и «рыцари времени», засмеялся. К счастью, он снова напоминал нормального человека, в меру любопытного и ироничного, и в ноги мне бросаться не собирался. – Это на взгляд современного человека – большие… А на время своего создания они были – как ноутбук в сравнении с прежней ЭВМ, которая занимала целую комнату. Тогда же механические часы только начинали входить в моду. Обычно пользовались клепсидрами, водяными часами, или гномонами – солнечными… Были даже переносные солнечные, маленькие, с яблоко. Песочные тоже имелись. Их носили привязанными лентой к ноге немного ниже колена. Наверное, это был особенный шик. Огненными часами пользовались…
— Это как? – не поняла я.
— Свечки с нанесенными на них делениями, — объяснил Юрась. – Даже у князя Витовта в покоях горела такая свечка – огромная, на целые сутки… И когда сгорало одно деление – это значит, прошел час – слуга объявлял об этом на весь дворец.
Я подошла к часам, похожим на маленький готический храм. На циферблате из желтого металла – двадцать четыре деления, готические буквы вместо цифр…
— Ой, всего одна стрелка осталась… — пожалела я. Мой бывший муж улыбнулся.
— Разве ты не заметила – у них у всех одна стрелка. Часовая. Так было принято. Минуты тогда никто не считал – зачем? Ну а простым горожанам или крестьянам – вообще какие там механизмы! Церковный колокол да дворовый петух… Когда в начале 15 века во многих городах начали появляться башенные часы, огромные, дорогие, солидные – это было событие… А такие, комнатные, которые можно переносить, могли себе позволить только самые богатые.
— А откуда их, двенадцать, взялось в старовежской ратуше?
Юрась нагнулся к боковой стенке часов, на которых смешной человечек в короне стоял на коленях перед костлявой фигурой с косой. Я снова отметила, что левая половина лица моего бывшего в тонких шрамах, при первом взгляде почти не заметных.
— Вот это те, самые первые, Баркуновы часы. Я их реставрировал. Взгляни…
На черном дереве выжжена надпись: BERNACCONI.
— На остальных часах – то же самое, — объяснил Юрась. – Думаю, что именно по этому знаку можно отследить часы из башни.
— Клеймо мастера? – я уважительно провела рукой по поверхности, отполированной временем, тронула железного звонаря, который готовился ударить молотом в бронзовый колокол, но, видимо, уже столетия так и не смог приподнять свое орудие…
— Скорей, имя владельца, — отозвался Юрась. —Часы – разных мастеров. Этот, со смертью и королем – из Чехии. А вот те двое, одни со Святым Семейством, другие с грифоном – из Нюрнберга. Кто такой Бернацони – я не знаю. Но понятно, что привез он сюда свои часы, а вывезти не смог. Спрятал в подземельях ратуши. Аркадий, видимо, раскопал историю Бернацони. Но мне почему-то ничего не рассказывал.
Я осторожно коснулась ближайших часов. На них летали ангелочки с обрубленными крыльями и щербатыми личиками, – словно переболели страшной средневековой болезнью. Кому они отсчитывали время? И счастливое ли то было время?
— Вот тут сведения о каждом экспонате, — аккуратный молодой человек с траурной ленточкой на рукаве пиджака протягивал прозрачную зеленую папку с бумагами.
«Черный Ганс»… Часы со шпиндельным пусковым механизмом, неизвестный мастер, Любек, 15 в. Корпус буковый, резьба. Ударный механизм – фигура бронзового звонаря. Циферблат латунный. Гири свинцовые на веревке из овечьих кишок…».
— Что?.. – оторвалась я от бумаг. — Почему из овечьих кишок?
— Потому что обычные веревки растягивались. А эти – сама видишь, до сих пор целы. И древесина бука – тоже прочная, ее чаще всего мастера использовали.
«Святое Семейство. Часы механические. Неизвестный мастер, Нюрнберг, 15 в. Корпус буковый, резьба, позолота…».
Вдруг за дверью послышались шаги и чьи-то голоса. В комнату вошла Лиля с улыбчивым важным господином в элегантном костюме. Улыбка господина была сдержанно-сочувственная… Но сам он больше всего был похож на шоумена – чернявый, коренастый, как старосветский шкаф с выпуклыми дверцами, черты лица крупные, голос низкий, как волынка. Так и кажется, что сейчас схватит тебя за рукав и вытащит на середину зала, отвечать на непристойно-шутливые вопросы… И мне неодолимо захотелось спрятаться за одни из часов. Но было поздно.
— Анна Борецкая! Какие люди! Юра-аська! Снова вместе, как на первом курсе! Молодцы!
— У нас с Анетой просто деловая встреча, Виталий Александрович, — каким-то официальным голосом сообщил Юрась, словно открещивался от постыдного поступка. Меня даже «зацепило»…
— А-а, а я думал, у тебя, так сказать, резкий поворот жизни…–разочарованно протянул гость, словно собирался быть нашим сватом.— Ну, дорогие, все равно рад вас видеть.
Пришлось здороваться, вытерпеть объятия и пахнущий табаком и коньяком поцелуй в щечку… Виталий Янчин никогда не отличался деликатностью. Зато никто и не думал звать его по отчеству, несмотря на разницу в возрасте. Он всех – на «ты», и к нему – «Виталий». И тогда, когда преподавал нам теорию журналистики и травил на лекциях неприличные анекдоты, и когда делала с ним интервью для своей газеты о благотворительной акции фирмы, представителем которой на Беларуси он на какое-то время устроился. А после публикации этого интервью Виталий пообещал выдрать мои рыжие волосы и сделать из них щетку для унитаза… Его фирма закупила для музея коллекцию картин. Я во время вручения молча возмущалась – приобретено на деньги, которыми наши люди оплачивают свою пагубную привычку! Но описала все честно. А бдительное мое начальство вычеркнуло все упоминания о подозрительной фирме. Получилось, что коллекция картин появилась в музее каким-то чудом. А меценаты пресс-конференцию устраивали, журналюг шампанским поили… Разумеется, виноватой оказалась я. Теперь, похоже, на прошлых претензиях поставлен крест.
— Аннушка станет писать об Аркадии, да, Лиля? Замечательный выбор! Эта девочка напишет, как следует! – если б не потребность сохранять траурное выражение лица, жизнерадостность струилась бы из Виталия, как вода из решета. –А ты, Юраська, значит, все по-прежнему мучаешься? Вот же “повезло” тебе, бедному…
Виталий обратился к моему мужу, как к тяжело больному, заговорщицким шепотом. Юрась побледнел и, опустив глаза, сказал неожиданно твердо:
— Это мое дело, Виталий Александрович.
Я с удивлением переводила глаза с одного на другого, пытаясь догадаться, о чем речь.
— Ну, ну, не обижайся… Ты молодчина… Достался крест – неси… Известное дело.
Последнее прозвучало несколько фальшиво. Я не расспрашивала о личной жизни бывшего мужа, а тут, похоже, была какая-то тайна. Но у меня не получилось на этом сосредоточиться. Вдова обвела рукой вокруг.
— Вот они, часы из башни.
Виталь поцокал языком.
— Ай-яй, старина какая… Антиквариат! Хотя в коллекции Петра Афанасьевича есть несколько похожих. Да вот хотя бы недавно из Польши привез целый фургон часов – и больших, как эти, и маленьких… Даже циферблат от башенных.
Юрась шепнул мне:
— Это он о Колыванове… Пресс-секретарем у него работает.
Ничего себе устроился! Колыванов – российский магнат, имел тут совместные предприятия. Вдова очень заинтересовалась услышаным:
— Аркадий мечтал собрать все двенадцать часов!
Наш бывший преподаватель сочувственно покивал головой.
— Петр Афанасьевич твоего мужа очень уважал. Не сомневаюсь, что, если в его коллекции найдутся нужные экзеппляры – подарит. Широкой души человек…
Лилия Петровна прерывисто вздохнула.
— Как было бы чудесно – собрать все двенадцать, поставить в башне, и чтобы они шли… Аркадий мне тысячу раз про это говорил, а я не прислушивалась…
Голос ее прервался. Гость соболезнующе дотронулся до ее плеча.
— Не плачь, Лиля… Попробуем организовать…— и достал сотовый. После недолгих переговоров радостно объявил:
— Я же сказал – широкой души человек! Часов старых у него сотни с две. И маленьких, и побольше этих… Если не найдем точно из вашей башни – так подберем похожие. Главное, чтобы двенадцать! И чтобы на вечере памяти Аркадия они тикали!
Юрась возразил:
— Может не получиться все отремонтировать.
— Э! Не проблема! – Виталий спрятал сотовый во внутренний карман пиджака. –У Петра Афанасьевича в коттедже под Старовежском мастерская по ремонту антикварных автомобилей. Последний писк техники – оборудована. Часы, если надо, тоже там ремонтируют – из коллекции в коттедже. А если еще ты, Юрась, возьмешься – точно наладим!
Лиля вопросительно глянула на Юрася. Тот покрутил головой.
— Не знаю… Поврежденные скульптуры, конечно, за месяц не восстановишь… Разве что поверхностно. А механизмы, в принципе, тогда делали на века…
— Ну вот и берись не медля! –властно заговорил Виталий. –Фигуры – Бог с ними, потом доработаешь. Главное – чтобы тикали. Каких деталей не хватает – ты только нарисуй, за сутки сделают. Пять тысяч баксов гарантирую, если получится. Вот что… Эти ящики все разно нужно ставить в ратушу… Поначалу отвезем их в мастерскую, и Юрась разберется, что к чему, составит “волшебную дюжину”. Он же – чудо-мастер! И Аннушку с собой возьмем – будет там писать, фотографировать… Все архивные документы, какие надо, доставим. А на сорочины торжественно откроем в ратуше музей имени Аркадия Баркуна. Я проезжал вчера, заглянул – там уже все почти расчистили, нужно только окна застеклить. Петр Афанасьевич профинансирует. Да и мы все скинемся. Все же под Богом ходим… В Колыванова пару лет назад тоже какой-то гад стрелял. Не любят в большом бизнесе честных людей… Вот о чем писать нужно было, — это Виталь с упреком бросил мне на прощание.
Мы ехали в обычном городском троллейбусе, и роскошь Баркунова дома казалась мне приснившейся. За окнами мчались огни ночного города, словно гибельные болотные огоньки. Представляю, какими неслыханно красивыми кажутся эти подсвеченные фасады домов столичного проспекта какой-нибудь девочке из маленьких Алехнович, где зимой нужно учиться в школе, не снимая шубы, а вечером эта девочка стоит вместе со всеми земляками на железнодорожной станции и высматривает, когда привезут цистерну солярки, которая хоть на какое-то время вернет тепло в квартиры… А мимо, не останавливаясь, пролетают поезда дальнего следования, окна которых горят нездешними приветливыми огнями… Как интересно было бы этой девочке, которой могла бы быть я, ехать в этом троллейбусе вот тут, на задней площадке, и рассматривать залитые светом дома…
Но я разучилась радоваться тому, что живу в большом городе. Юрась упорно молчал, опершись локтями на поручень и всматриваясь в убегающую назад блестящую черную ленту мокрого асфальта. Свитер на локте заштопан… Неужели так мало зарабатывает своей реставрацией, что на куртку себе не осилит? Я знала, что отец Юрася умер. Но вроде и реставраторы такого полета не нищенствуют… Наверное, просто не следит за собой. Да, невозможно поверить, что когда-то между мною и этим мужчиной были какие-то… искры интереса.
Полупустой троллейбус полязгивал, словно разваливался. Я на минуту представила, что так может выглядет современный транспорт Харона. Вот остановился, чтобы принять в себя новые души умерших…
Вдруг Юрась оглянулся и весь напрягся, и словно между нами встала какая-то стена. Он пристально смотрел на двоих, что вошли в средние двери и усаживались на одно из обтянутых коричневым, исчерканным многочисленными несовершеннолетними пассажирами дерматином, сиденье. Высокая худая девушка в черном кожаном плаще и шляпе и парень в джинсовой куртке. Неопрятные пряди волос почти закрывали его лицо. Пара была странная. Не пьяные, но двигались как-то неуклюже, словно только что, после долгих блужданий, вышли из тьмы подземелий на ослепительный свет. Юрась рванулся к ним, ничего мне не объяснив. Я видела, как он склонился над девушкой, что-то тихо ей сказал, потом потянул за руку к дверям. Я догадалась, что скорее всего присутствую при семейных разборках, и с досадой отвернулась.
— Отстань…– голос девушки был звучный, но какой-то сонный.
— Стелла, домой! Вставай!
Ишь, какой властный! Я снова бросила взгляд в их сторону… Юрась повел девушку к выходу. Странно, но парень, с которым та зашла в троллейбус, даже головы не повернул. И тут женщина Юрася посмотрела на меня… Боже, какая красота! Эльфийская принцесса… Лицо бледное, как фарфор, и худое, с тонкими чертами, глаза огромные, блестящие, темные… И черные пряди волос свисают из-под шляпы, словно не случайно, а какой-то художник долго подбирал, как их уложить, чтобы подчеркнуть необычную, какую-то трагическую и болезненную красоту обладательницы. Я глядела во все глаза, забыв о приличиях. Троллейбус остановился. Девушка улыбнулась – горькой, мгновенной улыбкой, и вышла в ночь и осень, в сопровождении угрюмого, напряженного Юрася, который, кстати, даже и не посмотрел в мою сторону…
Я никогда не завидовала девчонкам, которые были красивее меня. Зависти не было и теперь. Но… какая-то тоска. Так, ради такой женщины можно вытерпеть все… И простить измену, и терпеливо добиваться любви. А мне остается этот полупустой троллейбус, мокрый асфальт, что летит за окнами, словно черная река, и все листопады, по которых я буду блуждать – одна, одна, одна…
………………….
Белый ангел бился в витражное окно, отчаянно просился в покои. Наверное, это была просто птица, сквозь слюдяные подкрашенные пластинки можно было разглядеть только, что белая. Но в том полусне, в котором жила Анета, почему бы не появиться ангелу? Окна открывать запрещалось. Но ангелам отказывать нельзя. И даже птицам – потому что это творения Божьи. Створки с трудом поддались… Над головою Анеты пролетело что-то светлое… Девушка не рассмотрела крылатого гостя, потому что от потока свежего воздуха, что ворвался с улицы, голова закружилась так, словно возвратился безумный хоровод. Анета невольно подалась вперед, схватилась за подоконник, чтобы не упасть… Город лежал перед ней, словно искалеченный воин. Черные ветви деревьев (неужели такая поздняя осень?)… Дым от костров… Совсем нет людей… А еще недавно на этой площади вихрилась пестрая толпа. Какой крик подымался, когда на площади собиралась капа – народный сойм, чтобы решить что-то важное! Вороны тогда не решались и близко подлетать к городу. А в обычные дни тут можно было услышать самый разный говор, и выбрать себе в бесчисленных лавках с веселыми навязчивыми торговцами бусы из чешского стекла или персидский платок, переливчатый, как радуга. Старики ворчали – молодая паненка хорошего рода бегает по городу одна. Но озорнице Анете, единственной дочери пана Варравы Лескевича, позволялось больше, чем ее подружкам. Отец привык разговаривать с ней, как с равной, и Богуш не стал бы замыкать свою “белоголовую” (так называли женщин в княжестве) от гостей, как пан войт. Правда, жена войта, чернобровая московитянка Мария, сама пряталась, когда в дом приходили мужчины. Войт Марко Довмель, отцов хороший друг, оправдывался – в таких обычаях росла. Достаточно было посмотреть на странные наряды той Марии, что делали ее похожей на огромную подушку – ни шеи не видно, ни стана – чтобы понять, что за обычаи в ее краях. Войтихе же такое одеть, как местные шляхтянки носят – грех.
Анета любила выбирать себе наряды… Они с Богушем сейчас ходили бы по этой площади вместе, и она покупала бы себе подарки к свадьбе. Тонкий шелк, зеленый, как первые березовые листья… Гафтованные жемчужинами башмачки, в которых так вольготно бегать-скользить по натертому до водяного блеска полу… Рукавички из серебряного дивного меха… Богуш ни в чем ей не отказывал. Зачем скупиться, если завтра или даже сегодня на город могут напасть. И пропадет недолгая радость… Богуш всегда бился в первых рядах, ее славный рыцарь… И ее зеленая лента была на его шлеме. Их любовь и родилась в битве… Богуша и Анету сосватали еще маленькими. Но невеста вовсе не была в восторге от задиристого мальчишки с непокорными темными вихрами… Он поехал в Краковский университет, вернулся… В пестрых штанах и остроносых башмаках с колокольчиками на носах. С кучей латинских высказываний, которые вставлял к месту и нет. На отцовские уговоры Анета капризничала: “Не хочу замуж за этого олуха! Над ним же все смеются!”.
Под стены Старовежска пришли татары. К Великому князю послали за помощью. Но пока княжеское ивойско подойдет, приходилось надеяться только на свои силы. Богуша принесли в ратушу, где устроили лазарет, когда нападение было уже отбито. Великий князь так и не прислал войско в непокорный город, не принимавший его войта и заключавший торговые договора с его врагами. Гонец вернулся со словами: “Кому служите, у того и помощи просите”.
А Старовежск не служил никому.
Уважаемые воины рассказывали о геройствах молодого Радчица и жалели, что такой хороший воин умрет. Анета склонилась над раненым… Он был совсем бледный, волосы прилипли к окровавленному лбу. Вдруг ресницы задрожали, блеснула синева глаз… Он узнал ее. И… попытался улыбнуться. Чтобы подбодрить свою пугливую девочку. “Не плачь, Анета, а то лягушки в доме разведутся”. Она скорей отгадала, чем услышала, его любимую дразнилку.
И воспоминание о той улыбке на побелевших от боли губах до сих пор заставляет сердце сжиматься…
Тогда он выжил… Было короткое счастье. Анета знала – Богуш скорее выбрал бы смерть от вражеского меча, чем от хвори… Но пани Смерть диспутов не устраивает.
Нет больше Богуслава Радчица…
Стелется над брусчаткой горький дым, коричневая листва уже не шелестит, прибитая дождями к земле. Только странные устрашающие фигуры стражей по краю площади. Закутанные в темные плащи, из-под которых выпирает оружие, лица до глаз обвязаны белыми полотнищами – как у сарацинов…
— Ане-е-ета! – снова чудится далекий голос Богуша…
Темные фигуры внизу шевельнулись, стронулись с места…
Сильные руки оттолкнули девушку от окна.
— Глупая девчонка! Зараза приходит с воздухом!
Бернацони со злостью закрыл окно, словно за ним притаилась сама смерть. Шорох крыльев заставил его оглянуться. Белый голубь сел на плечо лекаря. Анета с удивлением увидела, что суровое обличье итальянца просветлело от радости. Бернацони схватил голубя, что-то отвязал от его лапки, небрежно подбросил птицу вверх, и та, испуганно покружив, села на одни из часов… Анета догадалась, что голубь принес долгожданную весть. Может, от самого Великого князя. Видно, бедная птица заблудилась в вонючем дыму и не долетела до специального окошка на чердаке. Но все-таки жаль, что прилетел не ангел.
Вдруг Бернацони раздраженно вскрикнул:
— Маледетто! Я должен гнить тут до начала поста! Ну какой болван ввел в уши Его Величества, что этот забитый, несчастный город имеет волю к сопротивлению! Да тут еще сто лет не найдется сил даже устроить ночную стражу! А, это, видимо, Его преосвященство, уважаемый епископ, постарался…
Анета содрогнулась. Чужак говорил о ее городе, о ее любимом, вольном Старовежске.
— Наш город оживет! – дочь городского советника не могла промолчать. – И чума была, и карачунцы нас жгли, и крымский хан… Старовежск можно ранить. Но нельзя убить.
Бернацони прищурил глаза, словно девушка находилась от него далеко-далеко.
— Вот как, бамбино… Ты любишь свой город? Возможно, ты любишь его даже так, что можешь за него умереть?
Анета с вызовом посмотрела в темные глаза лекаря.
— Многие более достойные, чем я, отдавали жизнь за этот город.
В глазах итальянца не замечалось насмешки.
— Так, донна, так… Величина человека соизмерима тому, за что он способен умереть. Это может быть всего только его дом, с нажитым добром и детьми, с возлюбленной розовощекой матроной. А может быть – его народ… Его вера… Его Господь… Если же кто-то больше всего на свете дорожит собой – он так мал, что глаза Неба не замечают его, как ничтожную пылинку… У тебя большая душа, донна.
Лекарь отошел и продолжал рассуждать, словно споря сам с собой.
— А вот все человечество… Которое есть, которое будет. Пестрое, забывчивое, осужденное уничтожать самое себя, как скорпион в круге углей… Стоит ли умирать за человечество? Разве можно осчастливить его – все? А, донна?
Анета испуганно пожала плечами – в такие минуты Бернацони напоминал ей сумасшедшего…
— Не знаешь? Вот и я не знаю… Если для одних это будет счастьем, для других – ужасом… Пускай осчастливленных окажется больше… Но, возможно, те, кто остался в обделенном меньшинстве, более достойны? Единственно достойны? – лекарь подошел к часам с фигуркой смерти, отсекающей голову королю, тронул застывшего в ужасе бронзового властелина, который стал на колени перед страшной гостьей. — Когда я только учился исцелять, и вместо золотой цепи на моей шее всегда болтался платочек очередной хорошенькой синьоры, которая заскучала в благородном замужестве, — ох, какой я был проказник! – я усвоил, что иногда, чтобы спасти человека, нужно отнять от его тела неизлечимо больную часть. Это больно, и человек останется калекой… Но он будет жить. Случается, следует избавиться от доброго, умного, покладистого короля, чтобы его народ смог восстать против врагов. Прольется много крови, но страна оживет. А когда ради счастья страны следует пожертвовать одним городом… Это оправданно? А, донна?
Анета понимала, что от нее не ждут ответа. Рассуждать о таких сложных вещах с девицей… Но она ответила.
— Это безбожно!
— Вот как? – Бернацони был в гневе.— Не тебе судить. Моя любимая Италия лежала в руинах, потому что каждый город хотел быть отдельным королевством, и все воевали со всеми.
Но Анета крикнула, словно глоток свежего воздуха вернул ей былые силы, даже голубь испуганно взлетел под сводчатый потолок.
— В нашем городе жили счастливые люди! Мы никого не трогали. Только защищались. Господь испытывает нас, но не даст исчезнуть! Я не хочу больше слушать ваши часы! Я хочу выйти из башни! Может быть, кто-то из моей семьи жив…
Да, она больше не сядет среди его часов, от голосов которых то муторно, то неприлично весело, словно от чары вина… А лекарь спрашивает, что она чувствует, и что-то подстраивает в хитрых механизмах… Дает выпить отвар… И снова заводит часы.
— Никто, кроме смерти, не ждет тебя, — лекарь говорил очень спокойно. — Ты останешься здесь, пока не приедет новый войт, присланный князем. Тогда я передам тебя под его власть. А сейчас – время пить отвар…
В покои, словно подслушивала под дверями, вошла рыкунья — ключница Марцеля, высокая немолодая женщина с лицом, словно вырезанным из дерева, с глубоко запавшими глазами, подала девушке чашу из красного венецианского стекла. Красный цвет должен был прибавлять зелью силу.
— Нет!
Бернацони только приподнял брови.
— Тот, кто отказывается лечиться – грешит, ибо лекаря создал Бог. Пей!
— Не буду! От вашего питья я словно в облаке…
— Ты что, думаешь, я тебя травлю? – усмехнулся лекарь. –Смотри…– он отпил из кубка.—Видишь? Это всего только целебные травы. Ну!
Марцеля поднесла кубок прямо к губам Анеты, глянула с ненавистью… Откуда эта ненависть? Девушка почувствовала: не выпьет – вольют в рот… Как сумасшедшей… Привкус черной рябины… Вяжет во рту…
— Проведи синьориту в ее комнату.
Анета медленно двинулась в маленькую комнатку, скорее – нишу, завешанную тяжелым синим полотнищем, которая граничила с залом. Вслед долетел веселый голос лекаря:
— Ты не со всеми моими часами побеседовала, донна!
— Не хочу-у-у!
— Не хочу!
Эльфийская принцесса по имени Стелла отчаянно, как испуганный ребенок, дернула Юрася за рукав.
— Ты никуда не поедешь!
Я сидела в машине Виталия Александровича, которая должна была отвести нас в Колывановские владения, к старовежским тайнам, и делала вид, будто меня больше всего на свете интересует серая кирпичная стена за окном. И с чего дама так разошлась? Может, ко мне ревнует? Если б она знала, насколько безосновательно.
Юрась между тем покорно вышел из салона. Что-то не припомню, чтобы так же потакал моим капризам. Я глянула. Они стояли поодаль, оба в черном, как две потемневшие от времени статуэтки на застланном золотистой скатертью столе. Юрась что-то говорил, успокаивал, гладил жену по блестящим, как черный шелк, волосам, а Стелла все так же отчаянно цеплялась за него. Наконец господин реставратор полез в карманы своей поношенной куртки, достал деньги… Стелла жадно схватила их, пересчитала… И снова что-то отчаянно заговорила. Юрась отрицательно покачал головой. Вдруг женщина замахнулась на него, Юрась перехватил ее тонкую руку, казалось бы, слишком изящную даже для того, чтобы рвать цветы… Прохожие начали заинтересованно оглядываться. Я растерянно наблюдала за отвратительной сценой.
— А ничего не поделаешь, — меланхолически прокомментировал Виталий, который сидел впереди, рядом с шофером, молчаливым молодым человеком в кожанке, с черными прилизанными волосами и узенькими усами на манер актеров немого кино. – С такими хоть по-доброму, хоть по-злому – результат один…
Водитель неспешно оглянулся, оценил ситуацию – видимо, поедем не скоро, надел наушники плеера и закачался в только ему слышном бодром ритме. Мол, мое дело маленькое, разбирайтесь, господа, сами.
А Юрась вдруг прижал к себе Стеллу, которая рвалась из его рук, и с силой поцеловал… Она притихла, обхватила его тонкими руками… Потом Юрась крикнул в сторону машины:
— Подождите меня минут двадцать!
И повел куда-то свою нервную красавицу.
— И зачем это ему? – искренне отозвался Виталий. И рассказал мне историю брака Юрася.
…Мой бывший муж не любил журналистику, зато тянулся к миру художников, как грешник к кресту. Вот в одной веселой мастерской, среди неоконченных картин и древней керамики Юрась и повстречал свою Стеллу. Талантливую и странную. Будущий реставратор – он учился на втором курсе училища – не спешил уходить из мастерской, которая и принадлежала очаровательной Стелле – отец, известный художник, посодействовал. Настроение хозяйки между тем испортилось. Из ее темных грустных глаз без всякой причины полились поэтические слёзы… Остальная публика как-то очень быстренько разбежалась… Должно быть, знали, какой «цирк» начнется. И Юрась получил удовольствие по полной программе. Наркоманка со стажем во время «ломки». Когда Юрась понял, что за лекарство утонченная Стела собирается вколоть себе в вену, поступил «мудро» — выхватил шприц и выбросил в окно. Художница попыталась отправиться вслед за своим «спасением»… Юрась из последних сил удерживал ее на подоконнике, а красавица неистово ругалась… Да еще попался ей под руку мастихин – острая металлическая лопатка, которой счищают краску с холста… Вот так и украсились лицо и руки моего бывшего мужа шрамами.
Где-то под утро девица пришла в себя… И что первое сделал Юрась, изрезанный острым лезвием, как после драки с дюжиной отморозков? Правильно, предложил выйти за него замуж. Ясно, почему: собирался стать спасителем. Но этот легкомысленный романтик даже не представлял, с чем столкнется.
Он перепробовал все. Обычных докторов и гипнотизеров, возил к священникам, однажды уговорил пожить вместе в скиту где-то в Карелии… Но вера жила только в нем. Обратился как-то и к бывшему преподавателю. Виталий как раз организовывал очередную рекламную кампанию своего хозяина – хоспис и наркологический центр.
— Никто ей не помог и не поможет, — подытожил мой собеседник. – А без «дозы» загнется… Вот Юрась и зарабатывает на «дурь».
— Он покупает жене наркотики?!!—ужаснулась я. Виталий меланхолично пожал плечами.
— Если не выбраться из болота, остается квакать. А жаль парня! Светлая голова, хоть и с чудачествами. В политику полез, когда это было еще модно. За одним оппозиционером портфель носил… Потом поссорился. Ему б хорошего советчика, да руководителя – опираясь на таких людей, ответственных, пылких – многого можно достичь. Но вот же – угас человек, сузился… Я таких судеб много видел.
От услышанного мне сделалось не по себе. Никогда не была близко знакома с наркоманами. Знала, что в Минске они собирались в кафе «Пингвин», теперь переделанном в безликую ресторацию с морским названием. Мой друг поэт в свое время водил меня по маленьких кафешках… Я запомнила из неопрятной кучки завсегдатаев «Пингвина» девушку со словно размытыми дождем чертами лица, у которой хипповскую повязку на голове украшали рыбацкие мормышки. Глаза у девушки были светлые, и казалось, с какой-то прозрачной пленкой… Друг брезгливо объяснил: «наркоманка». Но относиться брезгливо к Стелле я не могла.
Юрась молча сел в машину. У него было такое лицо, что у меня дрогнуло сердце. Как он ее любит… А почему нет? Больных и несчастных, от кого одни заботы, иногда любят глубже и преданней, чем здоровых да удачливых.
Водитель все так же молча снял наушники и завел машину. Я так и не поняла, слышал наши разговоры прилизанный парень, или нет? Идеальная прислуга.
Колывановская усадьба, как я и ожидала, была окружена высоченным бетонным забором. Сосны испуганно остановились перед ним ровненьким строем. Может, это остаток «советского» воспитания, но к таким заборам у меня устойчивое отвращение… А когда вижу, как передо мной беззвучно разъезжаются железные ворота, охватывает дурацкий страх – словно пихают в тюремную камеру…
Осенний день короткий, его лицо уже потемнело от усталости. Но пейзаж за железными воротами был подсвечен низкими – словно для гномов – круглыми фонарями, и виднелся ясно и одновременно призрачно. Остатки старой въездной арки… Две мраморные богини по обе стороны дороги сторожат аллею; одна держит в руке оливковую ветвь, другая – меч. Но время отняло у величественных фигур античный блеск. У одной богини не хватало руки, у другой отбит нос… Казалось, что по этим изъязвленным, потрескавшимся статуям ползают улитки…
Я не могла опознать, что за деревья сцепили в сумраке над дорогой лишенные листвы густые ветви — словно волосы ведьмы, распрямленные ветром и залитые светом луны. Но этим великанам явно была не одна сотня лет. Фары машины высвечивали могучие седые стволы. Мы ехали совсем медленно, и меня поразила тишина вокруг… Ничего себе имение! Вдруг показался еще ряд статуй. На пьедесталах возвышались фигуры, похожие на римских императоров. Эти скульптуры еще больше пострадали от времени. На некоторых постаментах остались только ноги неизвестных героев… Дорога вильнула в сторону, и я наконец увидела резиденцию господина Колыванова. Не похоже на жилье олигарха. Двухэтажный дом с четырьмя колоннами, с острой крышей и башнями по углам. Совсем не игрушечная подделка, на которые я насмотрелась. Это здание поглядывало на нас словно из-под старомодной шляпы – этакий престарелый, но все еще горделивый шляхтич.
— Людвисарово, — шепнул мне Юрась.
Вот оно что… Усадьба знаменитых магнатов… А я считала, что она разрушена. Правда, неподалеку в сумраке белели одинокие колонны, словно растерянные тем, что больше не надо поддерживать вес крыши… Видимо, новые хозяева восстановили только часть дворца.
Но внутри дома ничто не напоминало о старосветскости. Алые ковры, белые стены, на них – яркие и пестрые, словно юбки опереточной Сильвы, пастели в металлических рамочках. Да еще мертвый яркий свет лампочек, похожих на глаза робота.
— Ну, вот и дома! – Виталь Янчин широко разводил руками, словно все видимое принадлежало ему. Двое мужчин в одинаковых свитерах цвета кофе с молоком и с одинаковыми квадратными челюстями и приплюснутыми боксерскими носами вежливо улыбались. Тот, что был повыше, с короткими рыжими волосами, показал рукой налево.
— Вот по тому коридору ваши комнаты. Ужин в восемь, хозяин обещал приехать, так что познакомитесь.
Голос его напоминал тромбон, на котором свихнувшийся музыкант пытался сыграть партию флейты. Таким голосом хорошо кричать «Выходить по одному! Руки за голову!». Другой мужчина, приземистый и чернявый, так же вежливо добавил:
— Располагайтесь, и что надо для работы – сразу нам говорите. Ладно? Я – Анатолий. А это – Игорь.
В комнате имелись кондиционер и компьютер. Но мне было так тревожно, что вместо того, чтобы разложить привезенные вещи, подчинить себе чужое пространство, я просто села на диван, накрытый белым атласным одеялом, и так и просидела почти час, перебирая в мыслях события последнего времени, словно бусы из черных жемчужин… И я почти хотела, чтобы нитка, связывавшая их, порвалась, и что-то навсегда затерялось в бездне забвения. Но нитка времени рвется только вместе с жизнью.
Второй этаж выглядел совсем иначе, чем первый. Видимо, наверху были господские покои, а внизу – для «обслуги». В господских стояла антикварная мебель, на стенах – ковры, а на них – оружие… А в столовой – обеденный стол из матового темного металла, и даже без скатерти. Одни салфетки, связанные из тонких льняных нитей. На металлической поверхности отражались лампочки, и казалось, что посуда сейчас поплывет. А на мне вместо вечернего платья – старый свитер… Хорошо, что и Юрась выглядит таким же «бедным родственником». Зато, в отличие от меня, совсем про это не думает.
— Это правда, Анна, что вы можете прочитать за час пятьсот страниц текста?
Голос Петра Колыванова был такой же резкий, острый, как и облик. Российский магнат напоминал мне, как ни странно, Скарамуша – деревянную куклу из итальянского уличного театра: нос и подбородок – как щипцы, черные глаза маленькие, но жутко пронзительные, волосы зачесаны назад – только пестрого раздвоенного колпака не хватает. На экране телевизора магнат выглядел более массивным, приятно полноватым, скрадывалась угловатая, опасная острота. Вокруг этого человека что-то чувствовалось… Сказать «сила» — как-то по-джеддаевски… Сказать «харизма» — по-газетному… Трудно было представить, что с ним можно спорить. Однако он неожиданно много знает обо мне…
— Могу читать и быстро… Но на самом деле мне нравится смаковать текст. Если текст, разумеется, этого стоит.
Мой ответ не был слишком вежлив от того, что я страшно смущалась.
— Вы владеете польским и немецким, — продолжал хозяин словно читать мое досье. – И у вас своеобразный талант следователя. Мне рассказывали, как вас оставили без присмотра на полчасика в кабинете судебного архива, а потом вы написали статью, цитируя наизусть десятки документов из упомянутого кабинета. Хозяина которого, кстати, после этого уволили. Журналисты неразборчивы в средствах, а?
Колыванов заговорщицки подмигнул мне.
— У меня было всего двадцать минут, — буркнула я.— А дело касалось вывезенных из местной церкви ценностей, которые в разные эпохи по очереди присваивало начальство. Я не люблю, когда защищают чиновных ворюг.
Колыванов вдруг непринужденно рассмеялся, но его смех поддержал только Виталий Янчин. Потом магнат начал сверлить взглядом Юрася.
— Это вы починили музыкальную шкатулку жены Саксаганова? Был пару месяцев назад у них в гостях, хвалились… Милая такая штучка. Кукольный театрик в миниатюре. Сложно было ремонтировать?
Юрась усмехнулся.
— «Сложно»! Да там ни одной целой детали не осталось. Фигурки двигаются на нескольких ярусах, спектакль разыгрывают, а детали медные, все рассыпались. Полгода возился.
— Хорошая работа! – серьезно похвалил Колыванов. – Саксаганский за шкатулку двадцать кусков отдал, и никто чинить не брался. Даже в Швейцарии. Я всегда говорил, что славянским самородкам все заграничные светила в подметки не годятся. Сколько талантов хоть бы за этим столом! – Колыванов обвел взглядом присутствующих. — Вот этот уважаемый человек, Дмитрий Потапович – профессор физики. А также знаток любой самой тонкой электроники. Без помощи Дмитрия Потаповича этот дом давно бы пришел в упадок…
Седой старик в очках с круглыми и толстыми, словно две сосульки, линзами вежливо кивнул мне с другого конца стола.
— А тот приятный молодой человек в белом пиджаке — специалист, так сказать, по мозгам, — продолжал хозяин представлять гостей. “Специалист по мозгам”, действительно очень приятный белокурый парень, который сидел напротив, приветливо помахал рукой.
— Называйте меня Макс.
— Уж, извините, перенял я на Западе привычку постоянно пользоваться услугами психолога, — вежливо пояснил Колыванов.- – Дело Макса — предупреждать конфликты, выслушивать жалобы, следить за здоровьем обитателей этого дома… Ну, Виталия Янчина все знают, — магнат повернулся к нашему бывшему преподавателю, который сидел слева от него.– Организатор гениальный…
Янчин немного неискренне улыбнулся — конечно, я бы тоже обиделась: ни слова о творческих способностях.
— А таланты этих молодых людей я никому не советовал бы испытывать на деле, — Колыванов указал на охранников, что выстроились у стены почетной стражей, словно хвалился очередной коллекцией.
Магнат подождал, пока официант (или как он там в барских домах называется, может, как при королевском дворе, подчаший?) разольет по бокалам напитки, и поднял свой бокал.
— За ваши успехи! Завтра утром снова беритесь за часы, друзья. Заставьте их заговорить. У вас для этого есть все — талант, время, деньги… Профессор рассказал мне, что возникли сложности с ремонтом, какие-то там древние секреты, но я верю, что вы справитесь. На сорочинах по моему другу часы должны работать точно так же, как в пятнадцатом веке! Точно так!
Кажется, ничего удивительного не было сказано. Только я заметила, как профессор скривил губы — ехидно так, нехорошо скривил. И мне стало снова тревожно. Я взглянула на Юрася и встретила его спокойный взгляд. И чего я так взволновалась? Дают хорошую работу — делай. Что я, про те часы не напишу, про башню? А про Аркадия, бедного, так просто грех не написать. Но постукивание посуды о металлический стол не успокаивало, а скорее напоминало неприятное — например, как зубной врач перебирает в маленькой блестящей мисочке инструменты. Мне почему-то подумалось, что свои две тысячи мне придется отработать по полной программе.
…………………………………………..
Армия Великого князя въезжала в город не спеша, без особой торжественности. Может, с сотню человек молча наблюдали за конницей, стоя у домов, окна которых были забиты крест-накрест. Яркие наряды пришельцев словно унижали траурную темную одежду горожан. На девственно белой поверхности первого снега оставались черные следы, и казалось, что чужаки несут с собой эту черноту, ведут ее в опустевший город, чьи улицы были еще нетронуто белыми. Слышно было только, как стучат по мостовой подковы лошадей да позванивает упряжь. Да еще — безумное “Хе-хе-хе” княжеского шута Корейвы, худощавого, безобразно согнутого в крюк — шут и на коне сидел не по-людски, а почти лежа, в специальном седле, похожим на золоченое корыто. Все княжество знало, что Корейва посмеивается постоянно, словно лягушка квакает. Согнуло Корейву после того, как побывал в подземельях замка одного из магнатов, да не как гость. За что беднягу так искалечили, никто не знает. Ум острый, насколько может быть острым у неимущего юродивого, и шут умел развлечь своих хозяев. Но, может, именно это похихикиванье вконец надоело Великому Князю, который подарил бывшего любимца пану Лаврентию Роже — новому войту Старовежска. Вот и он, Рожа, в серебристом жупане, в горностаях и алмазах. Лицо широкое, сплошь в шрамах. Пробился к высокой должности нелегко, не из богатых. От простого воина путь прошел. Княжий пес: готов перегрызть горло за хозяина даже святому. Рядом — его верный пес, сотник Баркун, похожий на медведя. Этот не имел милосердия, наверное, даже к собственной колыбели.
Чужаки ехали через город. Некоторые старовежцы шептали сквозь сжатые зубы проклятия… Летят ястребы на падаль… Другие — их было больше — смотрели с надеждой. Разве хуже будет? А вдруг — к лучшему новая власть? Самим все равно не оправиться.
Перед въездом на площадь с ратушей, там, где начиналась охрана, выставленная Гервасием Бернацони, гостей ждали. Уцелевшие от напасти и плясок смерти родовитые горожане хотели переговоров. Лаврентий обвел глазами тех, кто преградил ему путь: дюжины три… Немного вас, господа. Взгляд привычно выделил тех, кто заслуживал внимания. Молодой шляхтич с черным чубом, что выбился из-под шапки с бриллиантовым “гузом”, смотрит дерзко и непокорно; кряжистый пан с длинными седыми усами и прищуренными, словно от ненависти, глазами. Рука упирается в бок, другая на рукоятке сабли…
— Приветствуем в нашем городе посланников Великого князя!
Ишь, хозяева объявились! Лаврентий грозно нахмурился.
— Я ваш новый войт. Вечером я вас выслушаю. А теперь — уйдите с дороги.
Глаза молодого шляхтича горели синим холодным пламенем, будто звезды в мороз.
— Наш город еще жив! И его магдебургское право не отменено! Есть семь человек из городского совета. Вот –бургомистр, пан Варрава Лескевич.
Седоусый гордо кивнул головой.
— Лескевичи всегда избирались в совет. Его же выбирала капа, вече… А совет выбирал войта. И не иначе.
Знать за спиной седоусого одобрительно загудела.
Лаврентий усмехнулся в усы. Ишь, задираться вздумали… Но покамест вступать в драку не следовало. Рожа был старый вояка, при княжеским дворе за тридцать лет насмотрелся всякого… Умение вести переговоры не менее важно, чем железная перчатка на руке, которой держишь тяжелый меч. Рожа медленно слез с коня — пусть видят, что он не враг. Но унижаться тоже нельзя — затопчут сразу.
— Разве в Старовежске так принято приветствовать гостей? – Теперь голос нового войта звучал мягко, как поступь кошки, что подбирается к птице. — Великий князь хочет помочь вашему городу в беде. У него нет иных целей.
Хриплый смех шута Корейвы нарушил благостность слов.
— Хе-хе-хе! Подожмите хвост да под мост, паночки! Важные у вас гости! Одари, Боже, панов, что нет ни коней, ни коров, одни миндали небесные, да и те землей пахнут. А мы вам пряников привезли. Вкусные, княжеские! Хе-хе-хе!
Новый войт сердито взглянул на шута — что с дурака возьмешь.
— Мне приказано его величеством всячески спасать и отстраивать город, способствовать, чтобы он снова населялся и торговал, и приумножал славу княжества.
— И поставлял князю воинов для нужных только ему войн! — выкрикнул синеглазый рыцарь. — И отдавал на княжеский суд, кто князю не угодит! В холопы горожан запишете.
— Магдебургское право у нас никто не заберет! — крикнул старый шляхтич.
— А зачем князь своего епископа прислал? — отозвался еще один. — Мы не паписты! Это только князь может веры менять, как гадюка — кожу. Позор!
Рожа даже бровью не шевельнул на дерзость. Еще не время. Между тем где-то в конце улицы послышались радостные выкрики. Лаврентий удовлетворенно усмехнулся, даже не оглядываясь, знал: горожане увидели обоз, который ехал за армией — телеги, груженные мешками с зерном, бочками с медовухой… Сейчас город предан князю. И горделивые шляхтичи, которых обошла своим вниманием даже смерть, останутся при своих обидах и бессилии. Такие есть в каждом городе, который принадлежит князю. Это даже хорошо — вот они, горлодеры, кричат, пустословят, а великодушный владыка им простит от мощи и справедливости своей. И простой немудрый человек знает: беда, если эти задиры власть получат. И еще больше любит мощного справедливого князя. И всегда есть кого обвинить в нуждах и бедах государства. Вслух Лаврентий сказал, однако, другое.
— Мы — один народ, панове-братья. Слово чести — я буду защищать свободу Старовежска так же, как вы, господа.
— Хе-хе-хе!– снова зашелся хриплым смехом крючок-Корейва, и эхом прозвучало карканье ворон, что кружили над площадью, будто черные боги смерти нежных снежинок, опускавшихся на город.
Нет, действительно, от этого дурака следует избавиться…
— Каждый росток свободы дорог литвинскому сердцу, — сурово произнес седоусый. — Поэтому без сопротивления не вытопчется ни один. Почему присланный князем врач Бернацони не пускает нас к ратуше?
— Италиец — колдун! — выкрикнул кто-то из старовежцев. — Это из-за него началось безумие! Он дьявольские ящики сюда привез!
Пан Лескевич поднял руку и прекратил крики, что начались при одном упоминании о лекаре.
— Мы не можем обвинить пана лекаря в наших бедах, так как доказательств не имеем. Мы знаем только, что в последнее время пан Бернацони спас много больных, что милосердно навещает дома, помеченные смертью, куда многие не осмелились бы принести и капли воды или кусок хлеба даже ради спасения собственной души. Но оказалось, что врач насильно держит в башне девицу… Возможно, это моя дочь Анета.
Голос Лескевича дрогнул. Рожа недоверчиво хмыкнул.
— Откуда такие сведения?
— Пан Богуслав Радчиц видел девушку в окне ратуши.
Синеглазый шляхтич шагнул вперед.
— Это была она, Анета! Моя невеста! Я узнал бы ее даже тогда, если бы она превратилась в облако или в птицу!
Рожа примирительно поднял ладони.
— Хорошо, хорошо, не горячитесь, дорогие братья! Здесь выяснить нужно. Что за девица, своей ли волей там, есть ли она вообще… Конечно, насилие над паненкой — позор. Князь такого не простит. Если лекарь в подобном виноват — ответит жизнью. Будете иметь его голову на колу. А пока прошу вашу милость уступить дорогу.
— Мы пойдем с вами в ратушу! — это крикнул Богуслав. Рожа, не спеша, сел на коня и только тогда ответил, почти ласково, как несмышленым детям объясняют, почему нельзя ходить далеко в лес.
— К сожалению, пока не прибудут в Старовежск мощи святого мученика Витта, пока на площади наш уважаемый епископ не проведет обряд изгнания диавола, пока не пройдет крестный ход вокруг ратуши и всего города, — Великий князь приказал никого из старовежцев на площадь не пускать. Чтобы не пробудилось снова безумие. Да, панове, подумайте сами, что, если вы снова помчитесь хороводом? Вы ведь могли подхватить то наваждение! Приблизитесь к башне, здесь ваш морок и усилится.
— Хе-хе-хе! И будут панове скакать, скакать, плясать, как куколки на веревочках…– пронзительным голосом прокричал Корейва. Старовежские шляхтичи, почти все, опустили глаза, согласно закивали, и застарелый страх лег тенью на их лица. Как легко управлять теми, кто однажды смертельно испугался. Молодой Радчиц и седоусый Лескевич еще что-то кричали, возмущались, но сотник Баркун подал знак, и старовежцев вежливо, но решительно отодвинули в сторону. Часть княжеских воинов осталась, чтобы усилить охрану, а новый войт со свитой двинулись к башне, над которой все еще развевался флаг независимого города — с алым всадником на белом поле.
— Хе-хе-хе! — безумный смех шута стелился над площадью вместе с вонючим дымом от костров. Черные следы разрезали надвое ослепительно белый покров первого снега.
— Ане-ета! — отчаянно кричал молодой шляхтич, который рвался сквозь охрану к ратуше. — Ане-ета!
…………
— Ане-ета!
В дверь настойчиво стучали. Я вскочила с кровати. Сердце бешено билось. Понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, что я нахожусь в имении Петра Колыванова, а за дверью слышится голос Юрася.
— Анета, вставай! Через пять минут завтрак!
Мог бы и раньше меня разбудить… Хорошо, что я давно уже не трачу время на косметику. Заплела косу, влезла в джинсы и свитер… И, вместо того, чтобы рвануться к светской жизни, медленно подошла к окну… Внизу чернели деревья старого парка. Ночью первый снег припорошил землю, и ветви скрещивались на белом фоне, как покрытое ржавчиной оружие. Но в этом чувствовалась не злость, а какая-то безнадежность, как будто сами деревянные воины знали, что их битва давно не имеет смысла, и победителей не будет. Но однажды данное слово заставляло их вновь и вновь сходиться в сражении.
Когда-то это был очень красивый парк. Тропинки между ровно подстриженными кустами образовывали ромбы и виньетки, и легко было представить, как по ним движутся-плывут пани и паненки в длинных платьях, похожих на перевернутые бокалы из цветного стекла. Хорошо, что новым хозяевам хватило вкуса не искоренять старые аллеи. Кстати, вряд ли обрадовались бы бывшие хозяева, инсургенты и патриоты, что в этих стенах обосновался московит, замешанный в грязные политические дела… Колыванов как раз и уехал заниматься политикой, губернатором нацелился стать.
Часы стояли в помещении цокольного этажа, никак не похожим на музейный зал. Скорее на огромную лабораторию. По крайней мере, непонятной мне аппаратуры здесь имелось много. В другом конце комнаты, где темнели большие, словно гаражные, двери, сверкнул лаковый бок старого автомобиля… Ах да, Виталий говорил о мастерской по ремонту антикварной техники…
Часы Аркадия я узнала сразу — они стояли у стены и напоминали сейчас не рыцарей, а пленных. Профессор Дмитрий Потапович чуть ли не носом тыкался в каждые из них, осматривая. Остальных часов было десятка три… Одни похожи на маленькие храмы, другие — простые и мрачные, как гробы, третьи — словно детские игрушки. Юрась так и бросился к ним, словно ко вновь обретенным сердечным друзьям. Я всегда завидовала тем, кто занимается своим любимым делом, хотя и сама когда-то была среди таких счастливцев. Сейчас — только наблюдать… Вот Юрась нежно дотрагивается до старого дерева… Вот он что-то заметил на боковой стенке, и взгляд стал, как лезвие. Приговаривает сквозь зубы… Уверенно открывает дверцу механизма, осторожно трогает что-то внутри… Присутствующие, вся “команда” во главе с Янчиным, молча наблюдали за его движениями, словно родственники больного ждали приговора чудо-врача. Даже профессионально-ироничный “псих” Макс посерьезнел. Наконец Юрась повернулся к нам. Лицо его сияло, как у удачливого рыбака.
— Можем поздравить друг друга! Часы из башни — все здесь! Вот этот, с кораблем… Этот, с крестом и розами… И тот, черный, с рыцарем… Колыванов все в Польше за один раз купил, да? Я каталог аукциона видел. Не успел Аркадий поучаствовать… Насчет часов с луной я не уверен, слишком повреждены, но скорее всего — и они принадлежали таинственному Бернацони…
Охранники, уже знакомые нам Игорь и Анатолий бросились по указаниям Юрася переставлять нужны экспонаты. Лишние часы бережно и поспешно, как уважаемых, но надоедливых гостей, отправляли за дверь. Наконец в комнате их осталось двенадцать… Виталий Янчин обнял бывшего ученика.
— Дружище, ты гений! Если бы ты знал, какой кусок работы теперь одолел!
Юрась осторожно освободился из объятий.
— Это мог сделать для вас любой антиквар.
— А нам любого не надо! — Янчин захихикал, но оборвал смех и почти строго добавил.
— Сейчас профессор объяснит вам кое-что. Даст, так сказать, общее направление.
Дмитрий Потапович наставил на нас свои очки-линзы, будто сомневался, что мы можем что-то понять из его слов, и заговорил таким же занудным, как весь его облик, голосом.
— Выводы носят пока гипотетический характер. Так вот… Перед нами доказательство того, что стереотипы по поводу прогресса — всего лишь иллюзия. Наши предки владели такими секретами техники, которые нам только снятся. Ничего нового, господа, мы не изобретаем. Только вспоминаем то, что было хорошо известно пращурам. Эти часы имеют секрет, который пока я объяснить не могу.
Профессор поставил на маленький столик напротив часов “Черный Ганс” обычный стакан, перемерил рулеткой расстояние, подвинул стакан на пару миллиметров, еще… Что-то покрутил внутри часов. Металлический звонарь поднял свой молот и ударил в колокол… Звук был неожиданно пронзительный, неприятный, даже зубы заныли… Звонарь ударил еще раз, еще… Вдруг стакан на столе начал тонко вибрировать.
— Вот так, — профессор победоносно обвел всех взглядом, словно доказал сложную теорему.
— Ну и что? — сердито проговорил Янчин.
Профессор насмешливо взглянул на Виталия сквозь свои линзы.
— Для вас, может, и ничего удивительного, а вот для ученого — чрезвычайно. Вот что про эти часы говорится в одном древнем документе… — профессор достал из кармана засаленный, сложенный вчетверо листок, похожий на письмо от бывшей возлюбленной, которое носят при себе и перечитывают, ностальгируя. Дмитрий Потапович развернул письмо и зачитал: “И какой бы сосуд, стеклянный, или фарфоровый, ни поставить в их круг, он будет разбит их голосом”.
— Ну, это сказки… — прокомментировал Юрась. Профессор, однако, не рассердился, только улыбка сделалась высокомерной.
— Уверяю вас, что это абсолютно возможно. Я вижу в этих механизмах множество приспособлений для регуляции высоты звука, образования различного вида вибраций. Это все равно как оркестр из неизвестных нам инструментов. Великие певцы могли голосом стакан разбить… Шаляпин, Карузо… Вот такая наша задача — чтобы часы и сегодня могли разбивать стекло.
Янчин шумно обрадовался.
— И правда, какая реклама! Туристы валом повалят, чтобы посмотреть на такой фокус!
— А поможет нам господин Юрий, который отладит древние механизмы, и уважаемая Анна, — белокурый психиатр отвесил мне галантный поклон. — За эти дни мне удалось раздобыть кое-что по истории Старовежска и личности Бернацони. Да еще Лилия Петровна передала документы и книги, которые собирал ее муж. Мы попросим вас, Анна, как можно быстрее просмотреть бумаги и выбрать все, что касается необычных событий в Старовежске и вокруг часов. И — начинайте писать свой текст. Игорь проводит вас в кабинет.
Чернявый охранник любезно указал на дверь в другом конце мастерской. На пороге я обернулась. Юрась стоял на коленях перед часами с деревянным грифоном, рассматривая их нутро… Я вспомнила, как бывший муж не так давно стоял на коленях передо мной…
Комната, которая должна была временно стать моим кабинетом, была великолепна. Компьютер с выходом во всемирную сеть, полки, заставленные энциклопедиями и справочной литературой на любой вкус, на столе — тоже бумажная гора. Что значит — большие деньги! При одном взгляде на стопку ксерокопий и рукописей у меня забилось сердце, будто я догнала сорванную ветром шляпу. Людвисаровская летопись в польском переводе! Оригинал уже два века считался пропавшим, и даже его перевод, сделанный в конце 18 века варшавским археографом, который хотел, чтобы ценный исторический документ принадлежал исключительно польской истории, был редкостью. По крайней мере, старовежские краеведы рассказывали мне о книге, где написано много чудесного про их город, как о мифе.
О Старовежске в летописи действительно упоминалось часто. Правда, составлялась эта летопись уже в 16 веке, и о том, что было раньше, передавалось по слухам. Первое упоминание касалось того, что в 1423 году на город обрушилась “Божья кара”, и половина горожан вымерло от чумы. Я вспомнила гравюру, которая висела у меня дома. Что ж, в это время подобное происходило по всей Европе… Старовежск так и не оправился после беды. Хотя перед Великим мором соперничал с самыми мощными городами мира и фактически представлял из себя государство в государстве — было время, когда перекраивалась карта континента, более сильные владыки подминали под себя маленькие независимые княжества, и наоборот, князья, которые почувствовали силу, отделялись от сюзерена, образовывались лилипутские королевства и новые империи… Шанс давался каждому.
Старовежск исторически, по-видимому, был обречен стать частью великой державы. Но горожане, жившие в богатом свободном городе, наверное, об этом не знали, и вряд поверили бы, если бы кто-то начал им объяснять. Интересно, что свобода и мощь Старовежска основывалась не на самомнении удельного князя, который берется “в рожки” с более могущественными. Город представлял из себя что-то похожее на аристократическую республику — самый плодотворный для торгового города уклад. Но с середины 15 века начал переходить из рук в руки любимцев Великого князя. Ну а в Речи Посполитой, а после — Российской империи историки почти перестают упоминать об унылом городке и его былой славе.
Нашлась и легенда о ратуше.
Пришла в город Смерть. А чтобы никто ее не узнал, приняла облик красивой девушки с волосами, как золото. И все, кто видел ее, бежали за ней “неистово” и умирали, и большой “лупеж”, добычу золотоволосая смерть собрала в Старовежске. И только в полночь заходила она отдохнуть в башню. Ровно на одну минуту, пока бьет колокол на церковной колокольне. Тогда поставили в башню двенадцать “дзыгаров”, часов, которые могли звучать, как церковный колокол. И, как только смерть в очередной раз зашла на отдых, “с апостольским благословением” стали они звонить друг за другом, и со смертью “бешенство сильное приключилось”, и не знала она, когда минует полночь, и не могла выйти, пока часы бьют. Вход в башню с молитвою и освящением замуровали.
Легенду эту слышала я и раньше, хотя с меньшими подробностями. Каким-то древним ужасом веяло от нее… Были здесь некоторые детали, что не соотносились с отвлеченным полетом народной фантазии. Золотые волосы смерти, “дзыгары”, которые существовали, как выяснилось, вполне реально… Не стоит забывать, что ратуша — это символ свободы, магдебургского права… Минскую ратушу снесли по личному приказу российского царя Николая II именно для того, чтобы не напоминала горожанам о былых вольностях и независимости.
Реально существовал и знаменитый предок Аркадия, сотник Баркун. Он приехал в Старовежск вместе с войтом со смешной фамилией Рожа, которого назначил править городом Великий князь. Было это сразу после Великого мора. Я быстренько начала набрасывать для статьи родословную Аркадия, не жалея романтических оттенков. Добавляла и сведения из биографии однокурсника, заботливо распечатанной в нескольких экземплярах — меценат и финансовый гений. Что ж, святое дело — сказать доброе слово о покойном. Надо же такому случиться: только встретились через одиннадцать лет — и некролог пишу. Бедный Аркадий. Юрася поддерживал, мне помощь обещал. Да и так, считай, помог, хотя и вот в таких трагических обстоятельствах — столько денег заработаю, живу на всем готовом в неслыханно шикарных условиях… Я вспомнила, сколько раз Аркадий, когда был старостой нашего курса, помогал мне скрывать “сачкование” с лекций, как угощал меня на каждом перерыве булочками — пока я не связалась с Юрасем… И в моем тексте появился еще один изысканный эпитет про благородного мецената.
А вот следующая папка заставила меня вздрогнуть. Это была переведенная на современный немецкий язык стопка протоколов Пражской инквизиции 1437 года. Судебное дело Гервасия Луиджи Бернацони, обвиняемого многими свидетелями в колдовстве. Владелец часов!
Я никогда раньше подобных документов не читала. Даже в исторических романах типа “Тиля Уленшпигеля” “садистские” страницы пролистывала. Что ж, работа есть работа… Но уже через двадцать минут я чуть не потеряла сознание. Показания свидетелей напоминали бред. Хотя подсудимый никого не назвал своим смертельным врагом — это был единственный способ отвести чьи-то показания, — но животная ненависть, возможно, порожденная страхом, лучилась из каждого слова. Не удивительно — свидетели, по-видимому, искренне верили, что несчастный лекарь может одним взглядом отдавать человека во власть нечистого. Даже на суд его привели с черной повязкой на глазах.
“Мы, судьи и советники, учитывая результаты процесса, который ведется против тебя, Гервасий Бернацони, докторского звания, флорентиец, живущий в Праге, пришли к выводу, что имеется достаточно доказательств того, что ты занимался волхвованием и волшебством, и противными Богу чарами, с помощью колдовских машин заставлял людей служить себе и Дьяволу и был верным последователем ересиарха Яна Гуса, проклятого Святой Церковью. У нас есть также свидетельства, что пятнадцать лет назад ты, Гервасий Бернацони, был обвинен в волхвовании и колдовстве святой инквизицией города Флоренции, но сбежал от расследования и справедливого суда. Поэтому властью, данной нам Господом, постановляем, чтобы отдать тебя допросу под пыткой. Мы провозглашаем и постановляем, что ты должен быть пытаем сегодня же, в три часа пополудни”.
Протоколы фиксировали все ненормально подробно. Так же, как будет делаться на нашей земле через пятьсот лет. Перед допросом подсудимому три дня давали только святую воду с каплей воска от сретенской свечи. Потом раздели и осмотрели его тело в поиске знаков дьявола, которые наделяли колдунов силой выдержать пытки. Монахам показались подозрительными несколько пятнышек на плечах, и их сразу проверили раскаленным железом. Лекарь почувствовал боль, и подозрения насчет пятнышек были признаны безосновательными. Потом подсудимого побрили — считалось, что через волосы дьявол также поддерживает связь с жертвами. Чтобы избавиться волос до самых корней, голову облили спиртом и подожгли. Потом положили под мышки и на спину подсудимого кусочки серы и также подожгли. Затем палач связал ему руки за спиной веревкой и подвесил его за ту веревку к потолку… Это у славян называлось “дыба”. А поскольку на все уговоры лекарь “неистово упрямился”, изверги привязали к его ногам чугунные грузы и оставили висеть на вывернутых руках до вечера… Но, пожалуй, достаточно… Вопросы типа “Признаешь ли ты, Гервасий Бернацони, что в третью ночь после Пасхи пролетел в большом черном горшке над домом почтенного купца господина Гомулки, и от того у пани Гомулковой начались преждевременные роды, и родила оно чернявого дьяволенка, похожего на тебя” перемежались цитатами из Библии (“чья душа склоняется к магам и волхвам, и с ними плутает, против того хочу я поднять меч свой и низринуть из стада народа своего”). А также деталями о вывернутых суставах, струйках крови из-под ногтей разбитых пальцев и стонов пытаемого. От которого, однако, не добились ни слова признания вины. Как несомненное проявление дьявольского влияния было отмечено, что допрашиваемый не кричал и не плакал, только “стонал, подобно зверю”.
Этот Бернацони был, видимо, сильной личностью. О Яне Гусе, своем бывшем патроне, да Иерониме Пражском, сожженном ученике Гуса, повторял — “Они были Божьи люди”. Представляю, как свирепствовали палачи. Обычные, перепуганные людишки, которые искренне верили, так же, как их последователи последующих веков, что делают святое дело и единоборствуют не с измученным истощенным узником, а с мощным тайным врагом. В камеру к Бернацони монахи заходили обязательно по нескольку человек, причем спиной вперед, имели при себе соль, освященную в Вербное воскресенье, и поминутно крестились и читали молитвы.
Бернацони сожгли только через год после начала процесса. Он так и не раскаялся.
Я пролистала свои выписки. Самое интересное для меня касалось показаний секретаря Бернацони, некоего Энрике, который, “посмотрев на инструменты для вразумления”, полностью признал и свою вину, и своего хозяина, и наговорил столько, что костер должен был разжечься от одного дыхания Божьего гнева. Особенно про “дьявольские машины, которые господин кощунственно уподобил апостолам”, и которые “звонили голосом дьявольским”, и господин возил их за собой повсюду, а потом потерял по воле Божией в далеком варварском городе.
Наверное, это и были старовежские часы. Энрике утверждал, что хозяин-колдун никого до тех машин не допускал, настраивал их сам. Ставил в круг, “апостолами называя”, и таким образом открывая “вход в чистилище”, и оттуда вылетала нечистая сила, которая уничтожала все вокруг. В те моменты господин приказывал всем, кто был в доме, закладывать в уши восковые шарики. Но все равно “тоска на душе” вынуждала лить слезы раскаяния. Бернацони несколько раз приказывал своему секретарю садиться посреди часов, но тот всякий раз терял сознание от их “дьявольского звона”.
Секретаря приговорили только к пожизненному заключению. По праздникам он должен был “ходить в те дома, где грешил, и бичевать себя”, а также бичевать себя перед входом в каждый храм, и носить на одежде нашитые “шафрановые кресты” в знак своего колдовского прошлого.
Я не очень верила в зловещую силу механической коллекции лекаря. Еще недавно на улицах Европы прохожих охватывала массовая истерия от зрелища страшного устройства — зонта, или женщины в брюках. Ну а паровоз или автомобиль вообще могли напугать до смерти. Лекарь просто опережал свое время. Конечно, фокус с сосудами, которые сами по себе разлетаются на куски, мог напугать кого угодно. Хотя так ли уж это невероятно? Моя подруга, солидная семейная женщина (в отличие от меня), жена военного и мать двоих сыновей-богатырей, рассказывала, как ее младшенький любил в детстве барабанить. Стучал однажды палочкой по столу, на котором красовалась ваза, купленная хозяевами во время службы в Чехии, стучал, стучал… А ваза вдруг и разлетелась на мельчайшие осколки — как рассыпалась! “Резонанс…”, — объяснила подруга, подрастающий сынок которой барабанит уже в самодеятельной рок-группе.
Я отодвинула бумаги и в изнеможении опустила голову на стол. Почему люди так злы друг к другу… Как мне теперь избавиться от страшных картин, что терзают воображение? Зрелища средневековой инквизиции менялись сюжетами из подвалов НКВД. Ян Гус, Иероним Пражский… Белорусские поэты Алесь Дударь, Валерий Моряков, Кузьма Черный, Владимир Дубовка… Пятьсот лет — и все то же: жертва корчится в невыносимой муке, палачи непринужденно обедают в соседней комнате… Даже пытки не изменились. Боже, будь милостив к моему разуму… Мне казалось, подниму голову — а надо мной, как на рисунке Гойи, громоздятся чудовища прошлого…
— Ну что, Аннушка, начитались?
Психолог Макс стоял прямо за моей спиной и белозубо улыбался. Вот болван, должен же понимать согласно своей профессии, что нельзя так к людям подкрадываться, словно мифологический кадук в полдень… Макс, однако, погасил мой гнев тем, что поставил передо мной чашку кофе и соблазнительный бутерброд. Я вдруг почувствовала, что ужасно голодна — часов пять, наверное, прошло!
— Подкрепляйтесь… Я знаю, документы не из простых. Позвольте, присяду?
Серые глаза психолога смотрели очень серьезно и доверительно.
— Интересно, какие сны вам снятся? Наверное, часто видится море?
— Почему вы так решили? — удивилась я, отпивая кофе, совсем неплохо сваренное.
— Море — символ инициации личности, желание принять себя таким, каким есть, узнать о себе все, и боязнь этого. Мне кажется, в вас еще много от подростка, Анна. Поиски места в жизни…
Наверное, это были обидные слова, но Макс говорил так искренне, мягко… Я только буркнула:
— В последнее время не запоминаю своих снов. Помню только, что снится башня. Но если вы сейчас начнете мне объяснять, что, по Фрейду, башня — фаллический символ, то…
Макс беззаботно рассмеялся. Интересно, он моложе меня или ровесник? По крайней мере, Юрась выглядел старше его лет на пять.
Я понемногу успокаивалась. Матово-розовые стены, с потолка льется ровный яркий свет, тихонько гудит компьютер, на интернетовском сайте бьется смешное маленькое сердечко какой-то рекламы… “Кликай сюда!” От средневековья — дальше не придумаешь. Даже не верилось, что эти стены хранили память о трех столетиях. Я рассказала Максу о прочитанном и еще раз почувствовала его невысказанное недоумение — почему это я при своих умениях сижу без работы. Видимо, он все-таки неплохой психолог, если не выражает свое удивление вслух. Только с уважением прокомментировал:
— Сегодня вам должны присниться горы. Символ жизненного успеха.
Интересно, наверное, жить со специалистом по психологии. В их семьях бывают ссоры или нет?
Юрась обнимал часы с кораблем… Выглядело это немного смешно, будто он собирался с ними танцевать. На самом деле, конечно, Юрась пытался закрепить внутри какую-то детальку … По-видимому, это удалось, так как когда он отошел, часы вдруг ожили… Желтый плоский металлический корабль на них шелохнулся, закачался, и раздался звон… Пронзительный, грустный… Неприятный голос у этих часов. Неудивительно, что у них недобрая слава. Но на лицах профессора и Макса было написано умиление, как будто они слушали соловьиное пение.
Реставратор устало провел рукой по лицу.
— Ну вот и все… Откуда можно позвонить? Мне срочно…
Макс услужливо предложил свой сотовый, и Юрась чуть ли не бегом ринулся за дверь. Я поняла, кому он будет звонить… И, глядя на ссутуленую спину реставратора, что исчезала за дверью, наконец призналась самой себе, призналась тоскливо, с раскаяньем, почему так легко согласилась сюда поехать.
И еще раз вспомнила об этом вечером, когда бывший муж пригласил меня на прогулку. Конечно, ему понадобился “доктор Ватсон”, чтобы высказать свои гипотезы.
— Не думаю, что милиция раскроет, кто убил Аркадия. Видишь — я как будто главный свидетель, а меня ни разу больше не вызывали… Уехать сюда разрешили. Ясно, что за убийством Аркадия — огромные деньги. Я не верю, что это — Колыванов, так было бы слишком просто. Дарит коллекцию Лиле, да и Аркадий перед ним соломой стлался, — рассуждал Юрась. А тяжелый туман, которому не хватало холодной силы стать инеем, плыл в сумерках над кустами, запутывался в голых ветвях деревьев, и как будто следил за нами тысячами седых глаз. По крайней мере, мне все время хотелось оглянуться. А может, тут есть привидения? Интересно, что за люди ходили несколько сотен лет назад по этим дорожкам, и были ли они счастливее, чем мы?
— Часы, конечно, необычные, — продолжал думать вслух мой бывший муж, как будто сам себя убеждал. — Но разве настолько, чтобы ради них убивать? А что у Колыванова оказались все остальные часы из башни, меня не удивило — его посланник тогда закупил все лоты, выставленные в Варшаве, от ларца до фамильных портретов. Даже часть настоящих башенных часов — циферблат в два человеческих роста! Новое имение в Закопане обставляет “под древность”, но с местным колоритом. Очередная магнатская закупка. К тому же, Аркадий должен был понимать, что сам все часы выкупить не сможет. Не важно, что они без ценных украшений, но счет — на миллионы идет.
— А не подозрительно, что изучать часы пригласили настоящего профессора? — заметила я, вынуждая себя не смотреть на лицо Юрася, подсвеченное низкими фонарями. В такой подсветке отчетливо виделись шрамы, происхождение которых я теперь знала.
— Какое там «настоящий профессор»! — вздохнул бывший муж. — Я спрашивал у Янчина … Действительно, когда-то дед был “светилом”, но давно умом повредился и лекций не читает. Кажется, что-то похожее на вечный двигатель изобретал. В тонкостях разных там процессоров или эквалайзера разбирается, как паук в паутине, живет здесь “с подачи” Янчина уже несколько лет, в перерывах между “дурдомами”. Устроил Колыванову специальную сигнализацию… Правда, кажется, в механике я лучше профессора разбираюсь…
Я не скрыла иронии.
— В академики метишь?
Юрась не обиделся.
— Я просто чувствую древние вещи… Как будто вижу, как их делали старые мастера. Эти часы не одного владельца сменили. Их пытались реставрировать, позаменяли детали… Корпуса переделали. Все равно что паззлы рассыпали. Тут интуиция нужна, чтобы восстановить, как было.
Мы шли по призрачной аллее в тумане, разделенном фонарями на светлые и темные пятна, и разговаривали, как когда-то. Такая встреча давних, потрепанных жизнью друзей, которая ни к чему не обязывает, не становится ни продолжением, ни началом новых отношений, а просто — приятная ностальгия, все равно как полистать запыленный альбом с фотографиями…
— Она несколько раз была почти свободна! — это Юрась рассказывал о Стелле — начал сам, я, конечно, не спрашивала. Видно было, что он вообще о своих проблемах не привык разговаривать. Поэтому я просто молча слушала, опустив глаза и боясь спугнуть столь нужный ему момент откровенности.
— Я не знаю, откуда она брала ту дрянь… Наркотики… Клялась, что — все, больше никогда… И следил я за ней, даже запирал… А приду после работы — у нее уже глаза блестят таким водянистым, неестественным блеском, и зрачки — с маковое зернышко… А она такая доверчивая, такая талантливая… Вот — оставил ее одну, теперь не могу… Волнуюсь… Может, стоило попробовать ее сюда привезти? И деньги срочно надо — договорился с одним врачом, положит ее на месяц в свою клинику, какой-то новый аппарат изобрел для очищения крови… Как все далеко… Мои мечты, глобальные проблемы – судьба Беларуси, «матчына мова», спасение исторической правды… Господи, а ведь я готов был жизнь отдать за такие смешные и ненужные большинству вещи, как родной язык – словно после моей смерти люди сразу начали бы понимать, что он прекрасный и единственный. Или чтобы крест Евфросинии Полоцкой вернулся на Беларусь — настоящий, а не восстановленный… Как будто не известно, что он где-то в спецхранах, в России… А сейчас меня волнует только одно — что я отвечаю за чью-то бедную больную душу, и не могу ее спасти… Может, мое “частное” существование и правильное? Чего бы я стоил, если бы вел к свободе свой народ и забывал, что моя любимая женщина остается рабыней? Тем более разочаровался я в политических играх, увидев вблизи… Красивые лозунги не гарантируют совести. А когда я спасал старую вещь, возвращал ее вместе с частью нашей истории — это был мой вклад… Но слишком часто я чувствую себя предателем…
Когда мы приблизились к усадебному дому, который в полумраке казался угрожающе мрачным, словно потревоженный от векового сна зачарованный богатырь, Юрась вдруг поцеловал мою руку.
— Спасибо…
— За что? — прошептала я.
— За то, что слушала. За твое внимательное молчание — оно иногда более дорого, чем пустые слова жалости и советы. За то, что после всего, что я с тобой сделал, ты еще не ненавидишь меня…
И пошел в свою временную комнату, несчастный, тревожный, чужой… Господи, он все еще корит себя за нашу юношескую игру в брак… А я?..
…………………………
— Ты с ума сошел, лекарь! — Лаврентий Рожа сердито расхаживал по комнате с белой розой над входом. – Это пускай в твоей Флоренции шляхтянку можно притащить за волосы на свою кровать. Но в нашем государстве за это животом карают!
Бернацони сидел в кресле с высокой деревянной спинкой, скрестив на груди руки, унизанные драгоценными перстнями, и спокойно смотрел на нового войта.
— Я не сделал этой девушке ничего плохого. Наоборот — спас ей жизнь. Но она была в безумном хороводе, ее разум поврежден. Возможно, она до сих пор одержимая.
— Так зачем она тебе сдалась? — выкрикнул Рожа, остановившись прямо перед итальянцем. — Сейчас же отошли ее прочь, в монастырь!
От крика Рожи, казалось, всколыхнулась даже вода в чаше на столе. Но Бернацони и бровью не шевельнул.
— Государь дал мне поручение… Знаешь, какое… Привести этот город к покорности. Любым способом! Любым! Понимаешь, Рожа? Ради великой цели, которую раскрыл передо мной Великий князь, можно переступить многое. И я буду служить ему, что бы для этого ни потребовалось. Я видел свою любимую Италию, которая лежит на перекрестке мира, разбитая на мелкие осколки надменностью ее князей. Каждый город стремится к вольности, каждый князек хочет стать королем… А враги приходят и уничтожают страну по кусочках, не встречая сопротивления. Более того — всегда находят помощников в соседних городах… Дичают умы, черствеют сердца… В Италии пока нет великого человека, который объединил бы ее, замесив, как тесто, в один кусок, из которого получится хлеб — пусть испеченный на крови и слезах. Вам, литвинам, повезло.
— А при чем здесь Лескевичева девка? — Рожа приблизился к лекарю вплотную, перешел на доверчивый шепот. — Ну послушай… Мы друг друга не первый год знаем. Тебе что, так вдруг захотелось женской плоти?
Бернацони холодно рассмеялся.
— Я давно уже взял под узду своего Амура, и похоть никогда не заглушит во мне голос разума. Просто эта хрупкая, больная девушка обладает мощью, которую я не мог найти и в крепких мужчинах. Она помогает мне… в моих опытах.
— Отлаживать твои чертовы часы? — криво усмехнулся Рожа. — Я слышал, что для дел тьмы требуется чистая душа девственницы. Никогда не понимал, почему князь снисходителен к магам.
Бернацони резко поднялся.
— Я не колдун, Рожа. Я тебе уже сколько говорил. Я — христианин, просто Бог дал мне больше предвидений и знаний, чем тебе. И на девушке я испытываю отвар, который, может, спасет когда-то и твой разум от помрачения. Мои часы жертв не выбирают, как не выбирает наводнение. Поэтому не повредит иметь от них… противоядие.
Лицо Рожи скривила застарелая ненависть, но войт сдержался.
— Хорошо. Князь приказал мне быть рядом с тобой и слушаться твоих советов. Я объявлю, что девушки в башне нет. А ты позаботься, чтобы мои слова оказались правдой. Меня не касается, как ты это сделаешь. Здесь глубокие подвалы, в каминах можно разжечь большой огонь. Если тело изрубить…
Бернацони сверкнул глазами.
— Я не хочу убивать ее!
Рожа сжал челюсти.
— А я больше всего хотел бы поднести факел к твоему костру, колдун, так как из-за тебя рискую своим вечным спасением. То, что ты сделал этому городу, не может быть ничем иным, как делом тьмы. И только ради своего князя я терплю… Но мое терпение не вечно. Девушки — в башне — нет! Ты понял?
Сказал, будто обрушил могильную плиту — и вышел.
…Анету разбудил чей-то издевательский смех прямо над ухом. Она открыла глаза и вскрикнула: над ней склонилось чье-то уродливое лицо. Впалые щеки, покрытые темной щетиной, рот, оскаленный в дикой усмешке, запавшие глаза… Но не насмешливые, а скорее тоскливые…
— Хе-хе-хе…
Анета вскочила, прикрываясь одеялом.
— Кто вы?
Мужчина в странной пестрой одежде отошел от кровати, но остался с низко склоненной спиной, согнутой калачом.
— Привет, девушка, которая плясала со смертью… Хе-хе-хе… А ты смелая, белоголовая…
— Разве может чего-то бояться тот, кто плясал со смертью? — Анета гордо взглянула на гостя. — Но кто вы?
Пришелец, все так же не разгибаясь, голова почти у колен, странной подпрыгивающей походкой прошелся вправо, влево, поглядывая на девушку.
— Кто я? Ответить на этот вопрос не так просто, паненка. Каждый из нас в этом мире имеет много личин. Видела, как на карнавале: теперь ты — король, через мгновение — шут, а после — сама смерть… И твоя личина падает в сундук вместе с алой юбкой акробатки и бичом для усмирения плоти… Я — никто, моя панна, и поэтому я могу быть всем. Хе-хе-хе…
Анета смотрела на худое лицо гостя, на котором, словно волны, менялось выражение. Что он — плачет? Смеется? Гневается? Что означает его пришествие? Несмотря на гордые слова, страх невольно заползал в сердце, шевелился острой льдинкой…
— Тебя прислал пан Бернацони?
— Бернацони? — насмешливо переспросил незнакомец. — Нет, моя милая. Твой хозяин только думает, что его колдовство всемогуще… Но и за ним присматривают незаметные глаза и уши. Как за каждым, кто имеет хоть маленькую — но власть. Теперь от меня осталось мало, барышня. Я — смех, глаза и уши властителей. Но что властители — без меня? Хе-хе-хе!
Анета гневно взглянула на пришельца.
— Пан Бернацони не хозяин мне. Я — свободная шляхтянка!
— Разве? — иронически проговорил гость. — И ты можешь идти, куда хочешь? Боюсь, что тебя нету более, чем меня, ясная панна.
Губы девушки дрогнули, словно она сдерживала плач.
— Когда приедет новый войт, я попрошу у него защиты!
— Хе-хе-хе! Новый войт уже приехал. Думаю, он вряд ли поможет тебе. Разве ты не служишь вместе с колдуном-лекарем его темному господину? Другому князю?
Глаза гостя исподлобья пристально всматривались в глаза девушки. Та достойно встретила его взгляд.
— Я никогда не буду служить тьме. Скорее умру.
— Что ж, возможно, тебе придется ответить за свои слова, паненка… Возможно…
Что-то похожее на сожаление мелькнуло в темных глазах мужчины, он отвернулся… Спина его все так же была согнута в крюк, и Анета поняла, что он и не может ее выпрямить. Девушке показалось, что незнакомец сейчас исчезнет так же таинственно, как и появился. И она навсегда останется в этой комнате с закрытым ставнями окном, во власти страшного лекаря. Анета отбросила страх и схватила пришельца за костлявую руку.
— Послушайте… Умоляю вас именем Господа нашего, Иисуса Христа… Помогите мне выйти отсюда! Я могла бы отправиться в монастырь… Все равно мои близкие умерли. Я буду молиться за вас всю жизнь!
Вдруг за дверью послышались шаги. Кто-то приближался к двери комнаты, в которой теперь была замкнута Анета. Неожиданно согнутый в крюк незнакомец ловко подскочил, как кошачий царь Варгун, устроился на небольшом выступе над сводчатой дверью, словно безобразная скульптура, и приложил к тонким губам палец в знак молчания. Анета легла на кровать и закрыла глаза. В дверях повернулся ключ… Марцеля принесла завтрак. Анета не шелохнулась, пока та ставила на стол принесенное. Мгновения, пока ключница чего-то ждала — возможно, хотела убедиться, что девушка спит, — показались вечностью… Наконец Марцеля что-то прошипела сквозь зубы и вышла. Снова звякнул замок. Незнакомец легко спрыгнул на пол, опершись о него руками, как будто действительно кошачий царь.
— Хе-хе-хе… Ну и женщина… Она похожа на Марену… Ее стоит, как пугало Марены-смертушки, утопить в первой луже за деревней. А ты, паненка, похожа на Ядерку… Слышала — есть такие морские королевны, с золотыми волосами, идут — перед ними катится бриллиантовая роса. Моя девушка тоже была похожа на Ядерку. И тоже вместо росы были слезы.
— Лескевичи не плачут! — сказала Анета. Но пришелец продолжал, как не слыша.
— Когда-то моя спина не была согнута, паненка. И меня любила самая лучшая девушка в мире. Но у нее имелось семеро братьев. А наследство на всех — одно! По закону сестре выделяется четвертая часть наследства в приданое, независимо от того, сколько братьев. Представляешь, как обеднели бы они? Агата должна была оставаться старой девой… Но если бы не предательство слуги — мы уехали бы, и нас обвенчали бы, и… Хе-хе-хе! Мою спину ломали целый год, паненка… Целый год я каждое мгновение молил о смерти. Сейчас могу сказать, что и я танцевал с костлявой. Почему она выпустила мою руку? Не знаю… Но мне все еще иногда кажется, что я пляшу в ее хороводе.
— Ты поможешь мне? — с надеждой спросила Анета.
Странный гость только оскалился в безумной улыбке.
— Как можно помочь тому, кто так близко познакомился со смертью? Ты просишь свободы… А ты знаешь, что такое свобода? Пес, который лижет следы своего хозяина, считает себя свободным… И покусает каждого, кто освободит его от хозяйской палки… Где твоя воля, паненка? Тебя нет.
Гость достал какое-то приспособление, ловко повернул в замке и — выскользнул из комнаты. Анета смотрела на вновь закрытые двери, и отчаяние сжимало ее в своих холодных объятиях.
— Отпустите меня! Откройте!
Анета стучала в дверь, не слыша собственного крика.
— Я хочу домой!
…..
— Я хочу домой!
Пронзительный женский крик заставил меня подскочить на кровати.
Какое-то время я, онемев, сидела, прислушиваясь к шуму в коридоре. Наконец подошла к двери, осторожно приоткрыла… Красавица с черными волосами, разбросанными, словно в них жил ветерок, раздраженно дергала Юрася за рукав свитера. Лицо мужчины не был ни разгневанным, ни раздосадованым… Просто печальным и безнадежным, как отблеск фонаря в осенней луже.
— Ну что ты молчишь, как идол!
Он все-таки привез сюда жену…
Я закрыла дверь и прижалась к ней. Что я должна делать? Выйти, мирить, утешать? Никогда не лезу в чужие дела. Но Юрася было так жаль…
— Мадам, я могу вам помочь? — голос Макса звучал и жизнерадостно, и сочувственно, и доверчиво… Я с облегчением вздохнула. Пусть профессионалы занимаются своим делом. А я могу снова остаться в своей ракушке.
Но во время завтрака никто не сказал бы, что с женщиной утонченной красоты что-то не так. Кормили нас сейчас не в шикарной хозяйской гостиной, а в комнате для обслуживающего персонала на первом этаже, за серыми пластиковыми столиками. Я оказалась рядом со Стеллой и Юрасем. Беседа за столом порхала, как бабочка. Стелла вежливо улыбалась, остроумно подавала реплики… Она была безупречной. Вначале я невольно бросала взгляд на длинные рукава ее черного платья, элегантно-артистического, и с ужасом представляла на белой, нежной коже следы уколов… Но скоро я про эти ассоциации забыла. Есть люди, которых мне легко признать значительнее себя. Они, не замечая, превращают пространство в миллионы тоненьких паутинок, которые сходятся на них. Талант, которым я не владею. А Стелла — обладала в полной мере. Когда она смотрела на меня, в ее глазах не было и тени злобы или снисходительности… Может, разве немного отчужденности. Я гадала, знает ли она, что Юрась когда-то назывался моим мужем…
А потом я шла коридором и услышала, как кто-то весело смеется. Перед одним из эркерных окон имелась небольшая круглая гостиная, словно беседка – большой диван, журнальный столик, пальмы. Хорошее место для свиданий… Юрась и Стелла стояли на диване на коленях, Юрась был раздет до пояса, а жена старательно рисовала на его теле сложный тонкий узор. Реставратор мешал, стараясь поцеловать руку, что держала кисточку. Беззаботный смех словно обволакивал пару прозрачной паутиной нежности. Я застыла, спрятанная в сумерках коридора, и мое сердце неожиданно для меня разбивалось на маленькие осколки, словно тонкий лед, по которому трудно шагать прохожему. Неужели я такая завистливая к чужому счастью? Тем более знаю, насколько оно у этих людей хрупкое и минутное, как жизнь попавшей в дом снежинки.
«Ты марыш пра шчасце, якога здабыць не ўдалося?
Упалі гады на зямлю, як пустыя калоссі.
І што засталося? Паперы не вартыя вершы,
І вечная прага быць першым, і вера – я першы…”
А потом я стояла на площади Старовежска, перед восстановленной ратушей, словно из диснеевского мультика — белая, блестящая, с новенькими пластиковыми окнами и красной металлочерепицей, и Петр Филиппович Колейко, бывший учитель истории, кричал на меня, срывая голос:
— Как вам не стыдно! Вы — и на стороне тех, кто уродует последнее, что осталось от нашей истории! Бывшее начальство хотя б не разрушало, загибалось потихоньку здание в ожидании лучших времен. А Баркун ваш приказал даже фундамент разобрать и заново, из какой-то синтетики сложить. А здесь каждый камешек — ценность! А может, вам это нравится, как оболтусам из райисполкома? “Красивенько”?
Колейко ткнул тросточкой в направлении башни, туда, где над дверью сиял всеми красками герб Баркунов.
— Позор! Да за такое убить мало! И из музея ваш хозяин все забрал — за копейки… Магазины для туристов строят, рестораны… Последнюю часовню вчера снесли. Планировку площади необратимо нарушили. Где кладбище было, может, тысячу лет — подземный гараж… Подростки черепами в футбол играют. Люди гибли, чтобы этот город защитить! А он сам под ноги ложится. Баркун, Колыванов… Этому сброду одно нужно — деньги заработать. Баркунов в этом городе никто добрым словом не вспомнит. Дед этого вашего богача Аркадия успел еще до войны врагов народа наизобличать. Директор школы, праведник, белорус искренний, из-за него в Сибири сгинул. А теперь внучок своих благодеяний Старовежску добавил, пусть Бог ему на том свете простит. Не хочу с вами больше разговаривать! Сами ищите сведений для лживых статей.
И поковылял в своем длинном сером пальто, в шляпе с обвисшими полями, рассекая влажный воздух, словно потрепанный в бурях, но все еще воинственный корабль…
— Мы просто делаем свою работу, — убеждал меня и себя угнетенный Юрась, пока мы возвращались обратно в поместье. — Аркадий, конечно, совершил настоящее варварство. Если бы я знал, вмешался бы… А я уперся в свои дела. Знаю, не оправдание… Но… я же как в аквариуме живу, пропускаю через себя все ту же воду, в которой меньше и меньше кислорода. Аркадий уверял, что стройку выдающиеся иностранные специалисты ведут. Я верю, он считал, что делается как лучше.
Я молча смотрела, как за окном машины мелькают голые деревья, словно наказанные грешники. А ведь я думала, что за святое дело взялась… Что Аркадий действительно городу помог… Как же теперь быть? Статью переписывать? От работы отказаться? Ну… Может, не так все страшно, как дед на площади кричал? Все-таки… туристический бизнес… Богаче станет местечко… Я сама себя презирала за трусливые мысли и попытку уклониться от необходимости принимать неприятные решения. Отвыкла я от такого максимализма. Вот Колейко и его единомышленники – сохранили былое упорство… А может, к смерти Аркадия и причастны те, кто считал его способ обращения с историей преступлением?
— Читал я один белорусский детектив, в котором убивают ученого за то, что намеревался написать книгу с разоблачением народной белорусского мифологии, — мрачно отозвался на мою гипотезу Юрась.– Но в жизни убивают из-за того, что украл бутылку водки, поцарапал авто, не одолжил деньги… А вот из-за разрушенной башни или уничтоженного кургана — даже морду не набьют.
А в бывшем владении Людвисаров Стелла, такая чужеродная в черном костюме на фоне добродушно-розовых стен коридора, совсем не похожая на ту утонченную женщину, с которой я разговаривала за завтраком, и на озорную художницу из гостиной перед эркерным окном, из-за чего-то ругалась с Янчиным. И Виталий, покраснев, пытался скрыться за дверью своей комнаты.
— Ты же был его приятелем! Ты знаешь, что мне нужно!
И Юрась снова бросился успокаивать, уговаривать, страдать… А я опять смотрела в окно, на голые деревья и неверный снег, и хотелось немедленно уехать. Спрятаться, уединиться, чтобы ничего не видеть и не слышать… Что я здесь делаю? Зачем сюда приехала?
Да ради денег, дорогая… Признайся наконец самой себе, что просто продалась. Месяц работы — за целый год беззаботного существования…
— Не трогайте меня! Пустите!
Голос Стеллы срывался, как струны скрипки, которая целый век пролежала в каких-то подвалах.
Сумасшедший дом! Но ведь я ничего не изменю… Скорее сделать то, что от меня требуется… Тысяча долларов на дне чемодана, мой аванс — чем не повод для терпения?
Но терпения мне всегда не хватало…
И утром я взялась за бумаги, как заботливая хозяйка за сорняки — только шуршали… Биография Баркуна вырисовывалась на дисплее компьютера, как фасад дворца с мраморными колоннами. Я успокаивала свою совесть тем, что ничего не написала о “прекрасной реставрации”… Что ж, сколько людей считали себя честными только потому, что промолчали, не присоединились к общему одобрительному хору. Вот только время их молчания не услышало.
Затем строка за строкой складывалась пестрая история Старовежска с его легендами… А вот что касается коллекции часов, здесь понятно не до конца.
Я представила ту эпоху. Позднее средневековье. На самом пороге Возрождения… Чума, опустошив почти всю Европу, лишила человека страха смерти, наполнявшего сознание прежних поколений. Недавно я была на рыцарском фестивале, молодежь воссоздавала старинные танцы… Среди них “танец смерти”. Красивый. Медленный… Один за другим танцоры выходят из круга… Должно представляться, что живые в этом танце чередуются с мертвецами… Но очаровательные дамы и рыцари в сшитых из портьер костюмах, с мобильными телефонами в карманах довольно улыбались, видимо, не особо вдумываясь в устрашающий смысл танцевальных фигур. А между тем когда-то эти танцы были обязательным и нелегким ритуалом. Человек приучался жить со своей смертью. Чувствовать рядом с собой отвратительного мертвеца, в которого в любой миг превратится сам. “Каждый учится танцевать этот танец. Неизбежна для мужчин и женщин эта судьба. Смерть не щадит ни больших, ни малых”, — с мрачной иронией писал средневековый теолог Герсон. Он насчитал двадцать пять персонажей в этом танце… Король, шут, монах, благородная дама, купец, рыцарь, школяр, врач, епископ, шлюха…
— Просто мы очень мало знаем о психических заболеваниях, — объяснил мне Макс, который заявился в мой кабинет с неизменной чашкой кофе. — Я убежден — они заразны… Как грипп. Еще поклонницы Вакха бегали по улицам Афин и Рима в священном безумии, они могли растерзать на куски прохожего… Так и поступили с Орфеем, кстати.
— Мифическим певцом?
— Ну почему же мифическим…– Макс доверительно положил свою руку на мою. — У каждого мифа — реальная основа.
Что он, ухаживать за мной вознамерился? Я без особой деликатности убрала руку. Макс не выказал обиды, даже немного отодвинулся и непринужденно продолжал:
— Орфей был реальной личностью, последователем культа Аполлона, языческим священником… Культы Аполлона и Вакха-Диониса не то что враждовали, но были двумя противоположностями. Аполлоническое вдохновение — дионисийское безумие… Просветленное сакральное раздумье — и инстинктивная страсть… В средние века эпидемии психических заболеваний охватывали не то что тысячи — сотни тысяч людей, целые города. В 1374 году в итальянском городе Аквисграна в хороводах смерти, то есть во время эпидемии хореи, плясали все: и старики, и дети, и беременные женщины. Те, кто плясал, имели одинаковые видения — например, святых, или раскрытое, как синие ворота, небо… Появлялось отвращение к красному цвету, к острым предметам… Эта мания распространилась по всей Европе, дошла до Кельна, Страсбурга, Меца… Те, кто выжил в плясках, шли к могиле святого Витта, за исцелением… А мания путешествий! В 1212 году маленький пастушок из Ванда объявил, что к нему явился Бог. Кроха увел за собой в крестовый поход 30 тысяч взрослых мужиков! А мания пророчества среди детей! Представляете – пострелята по восемь-девять лет сотнями пророчествуют и произносят такие поэтические и возвышенные слова, что доступны редкому философу. А эпидемия флагеллантов – толпа людей, которые бредут по улицам и бичуют себя! День, два, месяц! А охота на ведьм — она ведь не просто так возникла. Тысячи женщин сходили с ума от того, что чувствовали общение с нечистой силой. И в основе всего — страх… Страх смерти…
— Все, хватит… — я даже чашку отставила. — Хорошо, что мы не в средневековье живем.
— Вы так думаете? — Макс весело прищурил серые глаза. — Человек не изменился с тех пор, как откусил от известного яблока. Что с ним происходило — то и происходит, только в другом виде. Разве не напоминает средневековые эпидемии хореи поведение толпы где-нибудь на рокерском фестивале? А вспомните концерты “Битлз”, или какой “Аббы”… Или политические митинги… Включите сегодня телевизор — и перед вами результаты массовых психозов.
— И, возможно, их причины, — подала я реплику, решительно поднимаясь со стула.– Извините, я устала…
Юрась и профессор стояли перед часами с деревянными фигурками Адама и Евы и чего-то напряженно ждали. Вместо яблока Ева протягивала своему невзрачному мужу, завернутому в виноградную ветвь с гигантскими листьями, металлический кубок… Такой большой по сравнению с маленькой фигуркой Евы, что в реальности мог раздавить ее. Вдруг из кубка выглянула змея…
— Боммм…
Мужчины победно заулыбались, я даже позавидовала, что не имею отношения к их победе.
Макс обнял за плечи исследователей.
— Самое время сообщить — Петр Афанасьевич звонил из Швейцарии, просил передать — за каждые отремонтированные часы вам премия по пятьсот долларов!
— Спасибо…– смущенно произнес Юрась, а профессор расплылся в улыбке.
— Привет Петру Афанасьевичу! Это великий человек, друзья! Великий! За ним — будущее! Если бы вы знали…
— Профессор, мы же договаривались… — укоризненно произнес Макс, и старый чудак смутился и послушно замолчал.
Часы продолжал тикать, громко, натужно, как будто их железное сердце преодолевало с каждым ударом сопротивление пяти с половиной веков…
— Всего четверо часов осталось неисправных! — радовался Макс. — Завтра будут готовы все детали, что вы, Юра, заказали… И замену веревкам из овечьих кишок привезут… Не сомневайтесь — не хуже будут!
Но Юрась печально вздохнул.
— Что-то “затормозил” я с ремонтом…
— А что случилось? — заволновался Макс.
— У моего молодого коллеги интересная теория, — немного ревнивым голосом произнес профессор.
— Ну какая там теория… — сказал Юрась. — просто я понял, что каждые часы били как бы на своей ноте, они — как музыкальная гамма, от самого низкого до самого высокого звука. Но крепления пятнадцатого века остались только в трех часах. Если бы мне знать, в какой последовательности они стояли, — я бы мог вычислить, как было устроено в остальных…
Макс заволновался.
— Сейчас я распоряжусь, чтобы привезли еще кое-какие документы… Все, что можно, что касается часов того времени…
И убежал. Профессор двинулся за ним, что-то недовольно бормоча.
Я приблизилась к Юрасю, который молча, как-то тоскливо всматривался в фигурки Адама и Евы. Я заметила, что в черноволосой Еве, с длинными, разбросанными, словно от ветра, волосами было какое-то сходство со Стеллой… Интересно, почему она так тихо сидит в своей комнате? Может, выпросила … “дозу”?
Я обвела глазами комнату — что здесь было при прежних хозяевах? Помещение для прислуги? Оружейная? А может, тюрьма? Вон какой сводчатый потолок, окна — маленькие, в самом верху, через такие не убежишь… Последний из Людвисаров, который жил здесь, был повстанцем Калиновского, а после заключения сошел с ума. Не потому ли эти толстенные стены пронизаны безумием, и даже из-под современной акриловой краски словно тянет запахом плесени, прелости, застарелого ужаса и тоски? Душевные болезни заразны… Может быть, и Юрась…? Я заговорила на более интересную тему, постаравшись, чтобы мой голос звучал как можно более по-деловому.
— Послушай, часы и в летописи, и в пражских протоколах сравниваются с апостолами. Наверное, потому, что их двенадцать. Предки много значения придавали магии цифр. Еще, похоже, что часы лекарь ставил в круг. Может, попробовать соотнести их с именами апостолов? Тогда и догадаемся, как были расставлены.
Юрась вздрогнул и отвел взгляд от фигурки Евы, что так же, как и Адам, была целомудренно закутана в раскрашенные зеленым виноградные листья.
— А это очень похоже на правду! Ты молодец, Анета. Действительно, на часах столько различной символики…
Я присмотрелась к черноволосой деревянной фигурке.
— Послушай, а почему в руках Евы — кубок со змеей? Может, это что-то означает?
Юрась задумался.
— Змея — разумеется, из библейской легенды… А кубок — может, символ утраченной чистоты? Или женского начала?
Я с сожалением увидела, что глаза моего бывшего мужа еще не потеряли выражения мировой тоски, потому заговорила почти насмешливо.
— Ты же увлекался древней мифологией… Ну, напряги мозги — кубок со змеей… Что-то из алхимии? Знак золота? Ртути?
Юрась тряхнул головой.
— Погоди… Как-то же я реставрировал икону… Там было такое… Ну да, кубок со змеей — символ апостола Иоанна! Ты понимаешь — апостол Иоанн! А ты же сказала — Бернацони называл часы именами апостолов!
Я вдохновилась, получив неожиданное подтверждение своего интеллектуального блеска.
— А так было в традиции. Каждый колокол храма имел свое имя, полученное от священника во время обряда освящения. В начале 18 века в минский Мариинский костел из Королевца привезли колокол, который имел даже имя и фамилию — Иван Сологуб, такой огромный, что не могли втащить на башню. Из него отлили два колокола, один назвали Якуб — в честь епископа Якуба Дедерко. А в костеле Святого Роха на Золотой горке были колокола Леонард, Стефан и Бронислава…
— Откуда ты знаешь? — удивился Юрась.
— Да писала как-то статью о реставрации старого города… А у меня же память “стенографическая”.
Юрась подошел ближе к часам, присмотрелся к чаше в руках Евы.
— Значит, имя этих часов — Иоанн… Нужно срочно найти какой мифологический словарь, посмотреть символы других апостолов…
Словарь мы нашли на полке в моем временном “кабинете”, даже страницы были еще склеенные — не имелось в этом доме тех, кто хотел бы узнать, что такое Гадес или Уроборос. Помогала и книга Владимира Короткевича “Христос приземлился в Городне”, которую мы с Юрасем знали чуть ли не наизусть. Ненавижу тех, кто пытается представить нашего великого романтика слабовольным пьяницей. Вы напишите столько, сколько он, без наличия, кроме таланта, стальной воли! А удержите столько энциклопедических сведений в пропитых мозгах! Как там у Пушкина… “Врете, он и низок не так, как вы…”. Корабль со скрещенными мачтами оказался символом апостола Фаддея. А вот пока мы догадались, что на часах со Святым семейством символом апостола является пила, прислонившаяся возле Святого Иосифа как знак его плотницкого дела — пришлось основательно помучиться… Хорошо, что пила была позолоченной и слишком старательно сделанной для второстепенной детали. Если наши предположения верны, эти часы назывались Иаков Алфеев.
Под ногами Смерти, которая отрубала голову царю Ироду, находились позолоченные изображения трех ножей — один под двумя; они символизировали апостола Варфоломея.
Луна и солнце плыли по жестяному щиту, его разделяло пополам высокое копье, внизу которого был треугольник… Мы решили, что он похож на плотницкий угольник и вместе с копьем указывает на апостола Фому, который не поверил в Божье Воскресение, пока не сунул пальцы в Его рану.
Крест, обвитый розами и окруженный ангелочками, мы долго не могли объяснить. Пока не отождествили два круга внизу с буханками хлеба. Крест и два каравая указывали на апостола Филиппа.
Зато изображения трех ракушек под ногами Черного Рыцаря бросались в глаза сразу: удивительное сочетание, при чем к рыцарю ракушки? Правда, потом мне пришло в голову, что средневековый человек видел бы здесь логику: рыцарь — пилигрим крестового похода, таких узнавали по ракушкам, прикрепленным к шляпе… А в апостольской символике три ракушки означали Иакова Зеведеева.
Чтобы понять символику бронзового звонаря, не надо было лезть в энциклопедии. Колокол, в который должен был бить маленький звонарь, украшался символом “Х”. Косой крест, символ Андрея Первозванного.
Грифон караулил три кошелька, которые мы сразу приняли за бутоны цветов. Привет от апостола Матвея, который, как известно, был мытарь… Сборщик налогов.
Льва я объяснила как символ евангелиста Марка, но Юрий заверил меня, что Марк не был среди двенадцати апостолов… Деревянный лев, угрожающе подняв остатки широкой лапы, караулил книгу и рыбу, символы апостола Симеона…
Скульптура ангела с трубой была сильно повреждена. С трудом понималось, что два непонятных крючка, что висели на кольце на фоне позолоченного облака — это обломки от двух ключей апостола Петра.
Наконец остались последние часы. Можно было и не осматривать их. Вырезанная из дерева костлявая фигура в рясе, с низко наклоненной головой и скрещенными на груди руками, стояла на рассыпанных монетах… Иуда-предатель.
— Владелец не хотел, чтобы символы сразу читались, — отметил Юрась. — Главные украшения — совсем другие… Но мы молодцы! Аркадий был бы счастлив! Хотя… Я верю, что теперь он видит нас и радуется.
Мой бывший муж даже стал похож на прежнего юношу, в глазах запрыгали шаловливые огоньки. Он галантно поклонился часам:
— Приветствуем вас, господин Иаков! Простите, что до сих пор не смог справиться с вашим устройством… Но ваше цевочное колесико, которое самым коварным образом треснуло пополам, завтра же будет верно и усердно служить вам. Это обещаю я, пан Юрий Домогурский, мастер часовой, и всякого антикварного дела знаток…
А дальше, под мой хохот, подошел к следующему экспонату:
— О достопочтенный Иоанн, позвольте заметить, что госпожа Ева, которой вы доверили почетное дело держать ваш святой символ, кубок с мудрой змеей, самым неприличным образом потеряла половину одного из виноградных листов, что скрывают от похотливых глаз ее соблазнительную, хотя и вырезанную из дерева, плоть… Конечно, особа такого почтенного возраста, как достопочтенная пани, вряд совершила так по легкомыслию, скорее на добродетель почтенной пани посягнул какой-то злоумышленник, пройдоха и плут. Но не беспокойтесь, уважаемый господин Иоанн, я, антикварных дел мастер, самым деликатным образом и не медля прикрою прекрасные колени госпожи Евы починенным виноградным листом…
Я радостно включилась в игру, но дверь распахнулась, и в комнату вошел Макс.
— Приятно слышать ваш смех, друзья! Совершили очередное открытие, правда?
Я была уже готова поделиться “апостольскими сведениями”, но Юрась почему-то поспешил сказать:
— Что-то вырисовывается, но мы пока не готовы высказаться конкретно. Нужно додумать, сформулировать…
Я растерялась. Ну что ж, если Юрась пока говорить не хочет, видимо, стоит помолчать и мне… Макс был настоящим профессионалом — его улыбка не потеряла искренности. Разве тень раздражения мелькнула в глазах.
— Что ж, работайте… Будем ждать. Петр Афанасьевич вернется через две недели, ему и расскажете… Тогда и Лилия Петровна приедет — полюбоваться на коллекцию.
Когда я шла в свою комнату, увидела в конце коридора, перед окном, фигуру в черном… Стелла что-то быстро рисовала на листе бумаги, закрепленном на маленьком этюднике. Я тихо приблизилась… Это был рисунок пастелью. Аллеи, что напоминали седых ведьм с всклокоченными волосами, ряд мраморных колонн, подпирающих небо… Необычные цветовые сочетания, отменный вкус… Рука художницы водила по бумаге цветным мелком уверенно и резко, словно стирала какую-то пленку, что прятала иной, прекрасный и удивительный, мир… Я незамеченной тихонько ушла в комнату. Услышала еще за спиной тихий нежный голос Юрася, который обращался не ко мне:
— Ну как ты, Звездочка?
Правильно, Стелла переводится как “звезда”… У меня даже ревности больше не было. Нельзя же ревновать к звезде! Тем более если ты сама — стеклышко, способное лишь отражать… Но изысканные сравнения не пришли мне в голову, когда я вечером зашла в комнату с небольшим бассейном — надо же было воспользоваться шикарными условиями дома, — и увидела Стеллу на полу возле душа, в самом углу. “Звезда” Юрася сидела, запрокинув голову, и ее мелко трясло… Глаза страшно впали, на лице блестели капли пота, как будто она только что убегала от собственной смерти… Я растерялась:
— Стелла! Вам нехорошо? Позвать Юрия?
Глаза женщины остановились на мне, но меня она не видела.
— Аркаша! Дай мне это! Аркаша! Ну хоть одну! Сволочь, я же знаю, что ты хочешь! Но сперва — дозу… Ну хоть одну! Юрка отработает… Он у нас хороший…
Этот хриплый голос было невозможно слушать. Я потрясла Стеллу за худое плечо:
— Я не Аркаша… Я — Анна Борецкая. Помните меня? Постарайтесь встать… Я провожу вас до вашей комнаты.
Стелла опустила голову, будто сломанная кукла, казалось, рядом упали невидимые нити, за которые водил ее злой кукловод. Проще всего было позвать охранников или Юрася… Но мне не хотелось, чтобы эту женщину увидели в таком унижении. Возможно, ей было все равно… Но я не хотела с этим смириться. Бросила на какой-то пуфик прихваченное с собой пушистое розовое полотенце и пакет с резиновыми тапочками и неуклюже подхватила жену Юрася под мышки… Какой она была худенькой и легкой, словно лесная птица…
Больше всего я боялась, что она начнет отбиваться и кричать. Но Стелла послушно шла, и даже пыталась это делать без моей помощи. Юрася в комнате не было. Часы ремонтирует… Я опустила Стелу на диван… А что сейчас? Я читала о поведении наркоманов… Стелла, видимо, почувствовала мой страх и подняла глаза — я с облегчением увидела, что сознание хоть немного вернулось к ней.
— Спасибо… Вы не бойтесь… Сейчас — это не самое худшее…
Я понемногу начала отступать к двери — возможно, мне еще удастся поплавать в бассейне до ужина…
— Чем вам еще помочь?
— Мне мог помочь только один человек… Когда было совсем плохо — он появлялся, словно чувствовал… Его больше нет… Хотя иногда мне самой хотелось убить его…
Голос Стеллы звучал так сонно, словно вот-вот перервется. Но меня вдруг бросило в жар от догадки:
— Вы про Аркадия Баркуна? Это его вы звали?
Стелла попыталась пригладить рукой растрепанные волосы, но непослушные пальцы только запутывали черные пряди.
— Да, Аркадий Баркун… Добрый такой друг… Богатый… Душевный… — голос Стеллы звучал горькой иронией. — А Юра совсем не разбирается в людях, его только ленивый не обманет. Кто-кто, а вы же должны это знать, Анна… Дурак он, Юра… Из самой худшей разновидности — старательных дураков. Вот и прилипает к нему всякая сволочь. Хотя мне грех осуждать — на моем пути сброда попадалось еще больше… Мне было шестнадцать, а отцовскому дружку, известному художнику — за сорок… Он предложил помочь “открыть ворота вдохновения”. И сделал мне первый укол с “вдохновением”… А потом потащил в кровать. А я долго еще верила, что так становлюсь великой художницей! Но вы меня жалеть не вздумайте — вам недоступны те вершины и те глубины, которые открылись мне! Я ни за что не отказалась бы от этого познания! — на лице Стеллы вдруг загорелся болезненный румянец, глаза фанатично засветились, голос возвысился. — Знаете, я — Ева, которая тщетно протягивает надкусанное яблоко испуганному Адаму… Как на картине Святослава Рериха… Вы любите Рериха-младшего, кстати? Я так люблю больше, чем старшего, Николая, тот в своих картинах скрывал знания за очертаниями гор и облаков. А Святослав высказывается открыто, пусть наивно, где-то — языком кича. Но его послания вразумительны и конкретны! Не надо бояться откусить от яблока! Не надо бояться свободы!
Вдруг лицо Стеллы стало серым, как мокрый гипс. Она вяло махнула рукой в сторону двери.
— Идите… Сейчас начнется не очень эстетичное зрелище…
С меня было достаточно. Я бегом направилась в подвал, где у часов с тайным именем Филипп хлопотали Юрась и пан профессор. Реставратор только взглянул на меня, на мое смущенное лицо, и сразу побежал к своей “звездочке”.
Я встревожено гадала, знал ли Юрась, кто давал Стелле наркотики? Он же говорил мне, что не знает. Но если она бредила при мне, наверное, случалось и при муже. Для чего Баркун это делал? Разве был этим… Как его… Дилером? Диггером? Не похоже… Из сострадания? Но ведь он являлся в те моменты, когда Стелла, по словам Юрася, была почти готова “завязать”… Скорее, просто хотел сильнее привязать к себе доверчивого друга. Юрась брался за любую работу, чтобы получить деньги ради спасения жены… Ну исцелилась бы Стелла, зажили бы они более-менее счастливо, родили ребенка, и Юрась посылал бы к пану Хуту всякие сомнительные заказы и сомнительных клиентов… Похоже, что Баркун еще и определенную плату с красавицы брал… Так сказать, “натурой”. Я вспомнила круглое, оптимистичное лицо Аркадия, его красные, жирные губы, и мне стало нехорошо… Словно открыла любимую шкатулку с украшениями, а там — уродливый паук. А если Юрась об этом знал, не мог ли он сам покарать друга? Служил в армии, значит, стрелять научился… Или заплатил за чей-то выстрел?..
Невыносимо так думать… Я накинула на себя куртку и, забыв про ужин, выбежала из дому, объяснив чернявому охраннику Игорю, что устала и хочу прогуляться. Странный взгляд Игоря в мою сторону объяснился, когда я выскочила за услужливо распахнутую передо мной дверь. Холодный дождь, украшенный хлопьями умирающего снега, обнял меня, казалось, с искренней радостью — видно, и не надеялся, что какое-то существо в такой промозглый час захочет поделиться с ним своим теплом. Сразу же со мной свел знакомство и ветер — возможно, он считал это поцелуями, но получились настоящие оплеухи, от которых мои щеки горели. Я подняла воротник своей курточки и быстрым шагом двинулась меж белых пятен фонарей, лишь бы дальше, лишь бы никто не видел…
Почему-то я сворачивала на тропинки, по которым мы с Юрасем не ходили — словно не хотела встречаться с его следами… Росло раздражение — ну зачем он снова появился в моей жизни! Помочь захотел… Правильно Стелла сказала — старательный дурак… Быстрее, быстрее закончить свою работу — и выбираться отсюда! Осталось всего ничего — сфотографировать часы, расставив по кругу. А был у них какой-то секрет или нет, и какой — ну кому дело через пятьсот лет! Я уже не та девочка, что готова была сразу же ехать в глухую деревню, спорить, уговаривать, доискиваться — ведь там могло сохраниться письмо расстрелянного поэта… Сейчас я работаю на людей, которым наша история — только коврик под дверью респектабельной фирмы… Когда-то я с пеной у рта доказывала, что никогда не напишу того, чего не думаю, что у меня есть принципы и духовные ценности… А вот теперь написала двадцать страниц о том, каким благородным меценатом был человек, который разрушил древнюю башню и давал наркотики жене друга… А Юрась? Насколько изменился он? На что он способен сегодня? Вот еще недавно я думала о нем с сожалением, с каким-то волнением, а стоило заподозрить в преступлении — и я внутренне отделила себя от него, изменила ему… Не любила я никого в жизни, и, наверное, этого и не произойдет. Не владею я таким талантом… Чтобы — “и ложе, и горе, и болезнь одни на двоих”…
В полумраке что-то белело. Я поняла, что добралась до колонн, оставшихся от разрушенной части дворца. Спотыкаясь о камни и корни, я пошла к этим свидетелям былой славы имения… За колоннами светлело нечто, похожее на маленький храм. Беседка! Также с колоннами, только меньшими, а главное — с крышей! Одинокий фонарь освещал ее призрачным, слепым светом. Круглая, словно шкатулка, и даже остатки стен есть — между колоннами когда-то были витражи… Я поднялась по разваленным ступенькам, чуть не упав. Укрытие от ветра и дождя ненадежное, но все-таки — защита… Интересно, кто сидел в этой беседке пару веков назад? Мне не на что было присесть, я просто прислонилась к одной из колонн и попыталась вслушаться в себя…
— Бомммм!…
Что это? Звук доносился со стороны дома. Как будто сотни маленьких колоколов играли пьесу сумасшедшего музыканта. Это же часы! Юрась почти все наладил… А часы все били и били, и даже здесь, в беседке, за стеной ветра и дождя, от этого звона становилось несказанно тоскливо, будто ты оставил где-то дорогое, последнее, и если немедленно не помчишься туда, оно исчезнет, уже исчезает, и вся оставшаяся жизнь будет пустой, как мертвый улей…
Часы замолчали… Но из дома раздался жуткий крик – то ли человека, то ли зверя… Я еще плотнее прижалась к холодной колонне. Крики повторялись через равный промежуток. Да что же это такое? Казалось, прошла вечность, пока они затихли. Я осторожно двинулась в сторону дома… И как раз успела увидеть, как охранники и Макс сажают в джип профессора Дмитрия Потаповича. Профессор двигался, как заводная кукла, я только заметила, как в свете фонаря блеснули его очки… Джип уехал, и вокруг воцарилась жуткая тишина. Только дождь барабанил по навесу над подъездом, да стучало мое сердце, как часы со слишком туго накрученной пружиной.
Из двери моей комнаты выходила тонкая фигура, закутанная в черный шелковый халатик с красными драконами. Стелла искала меня? Что случилось?
— Просто мне стало страшно… — тихо объяснила художница, придерживая на груди халат. — Этот чудовищный звон… Юрий куда-то побежал…
Стелла выглядела напряженной. Зрачки ее глаз были так увеличены, что глаза казались черными. Древние римлянки специально для этого капали себе в глаза аконит, сок беладонны. Наверное, считали, что это добавляет им таинственности. Мне же казалось признаком болезни.
— Ну так заходите ко мне, — пригласила я. Но в конце коридора послышался голос Юрася.
— Стелла! Почему ты вышла из комнаты?
Художница раздраженно скривилась, но покорно пошла к мужу. Что его теперь ждет — истерика или… очередной сеанс боди-арта? Чтобы немного перевести мысли на другой лад, я сбегала в вестибюль, к стеклянным шкафам, набитым иллюстрированными журналами. Хватанула стопку с самого верха… Самое время начать знакомиться с бульварной, чисто женской, прессой. Лежала в кровати, листала пестрые, блестящие страницы… Меня настолько не касался мир, который на них представал — косметика, чулки, упражнения для фигуры — что даже возвращалась ирония… Вдруг я замерла: где-то я видела эту модель с ногами длиннее осеннего вечера, обтянутыми чулками в черную сеточку, в озорной юбке не больше листа кувшинки, в шляпке и полосатом мужском галстуке на голое тело… Да это же Лиля! Вдова Баркуна! Вот тебе на… Баркун женился на модели… Ну, по крайней мере, похоже, что он не ошибся так, как Юрась.
Хотя кто сказал, что любовь, пусть с примесью горечи и безнадежности, это ошибка?
………..
Звезда Миловица сияла над темным острым силуэтом храма, словно опьяненный битвой воин пустил стрелу в небо, и она прорвала черный бархат завесы, за которой пылает вечный голубой огонь. Совсем не похожий на губительный огонь, подаренный смертным… В отблесках факела, который держал Богуш, лица людей казались зловеще мрачными, как будто это была очередь к переправе Харона, когда гнев, слезы, как и былая радость, уже даже не вспоминаются. Но Богуш не верил, что души последних старовежцев стали гнилой листвой, спешащей спрятаться под холодным снегом времени.
— Панове, мы должны взять с боем ратушу! Это наш город, наша вольность. Неужели шляхта допустит, чтобы чужаки насиловали наших невест и дочерей! Мы нападем врасплох, и разбросаем этих ублюдков, как шелуху, и вернем нашу честь!
— И все погибнем, — подал голос рыжий молодец с перевязанной платком щекой. — И ради чего? Конечно, ты за невесту хочешь мстить. Но войт сказал — ее там нет! И я ему верю.
— И я верю! — отозвался старый шляхтич в жупане, отделанном полысевшим лисьим мехом, с мечом, рукоять которого украшали диаманты, большие, как глаза серны, за каждый из которых хозяин мог приобрести дюжину собольих шуб. — Не станет Лаврентий покрывать итальянского нехристя. Мы с Рожей рядом под Грюнвальдом бились. Это — рыцарь!
— Пан Рожа может и не знать, что Бернацони держит в неволе Анету! — возразил Богуш, и его глаза — даже в тусклом свете факела было видно – зажглись гневом. — Слово чести — я видел Анету в окне башни! Завтра же я пробьюсь туда с мечом и вырву правду из поганых ртов чужаков! Двинемся! Нас не так уж мало — здесь может быть с полсотни, а если собрать всех, кто может оружие держать — сотни две наберем…
— Ты думаешь, все, кто остался жив, пойдут за тобой? — иронически спросил старый шляхтич. — Ошибаешься. Посмотри — в город съезжаются новые жители. Едут мастера, едут купцы… Пустые дома очищаются от заразы и встречают новых хозяев. Если мы начнем новую войну, что будет? Опять опустошение? Ты забыл, что на Старовежск в любой день могут напасть татары, что карачунский князь уже присылал своих разведчиков… Говорят, в пуще видели их отряд. Выжидают, как ястребы. Кто защитит город, если внутри него друг друга перебьют? Не разжигай распрей, Радчиц… Радуйся, что Бог сжалился над тобою и дал пережить напасть…
— А та напасть не при помощи поганого лекаря началась? — гневно вскрикнул Богуш.
Шляхта загудела…
— Правда, как приехал нехристь — сразу безумный хоровод заплясал… Без колдуна не обошлось…
— Ну так что, панове, — отчаянно спросил Богуш, — мы пойдем на башню?
— Нет… — прозвучал грустный голос, и все пораженно умолкли. Бургомистр — пан Варавва Лескевич, подошел к Радчицу, положил ему на плечо тяжелую, натруженную в многочисленных битвах, руку. — Прости, сын… Да, я был бы рад назвать тебя сыном, — голос старого рыцаря дрогнул.– Но, видно, уже не смогу… Ты так и не научился думать о последствиях своих дел. Не всегда первый порыв — истина! Я верю Лаврентию Роже. Я тоже был на Грюнвальде. И, если Лаврентий клянется… Мою дочь призвал к себе Господь. Поэтому не стоит добивать город, Богуш. Мы должны остаться в живых, и в свое время прийти на сейм, и чтобы наши снова попали в совет и там боролись за вольности города.
Паны одобрительно зашумели, не слушая более отчаянных призывов молодого рыцаря.
— Панове… Ваша свобода… Ваша честь… Слово мое… Анета жива! Анета в башне!
Миловица невозмутимо сияла над темными острыми крышами города, не обращая внимания на редкие огни внизу, которыми люди пытались отвоевать у ночи кусочек своей жизни.
— Конечно, паненка в башне… Хе-хе-хе… Где же ей еще быть?
Гость подошел так тихо, будто не на человеческих ногах. Старовежцы раздались в стороны, пропуская в круг, освещенный факелом, сгорбленную, худую фигуру.
— Ты видел ее? — голос Радчица звучал почти умоляюще.
— Видел. Сейчас лекарь держит ее в маленькой комнате по левую руку от сеймового зала.
Тому, кто брошен во тьму, приятно иногда оказаться камешком, от которого идут большие круги по воде. Корейва, оскалившись, слушал крики вокруг.
— Значит, Рожа солгал мне? — сурово спросил Лескевич. Корейва покачал головой.
— Хе-хе-хе… Войт ничего не знает. Ведь девица — одержимая.
При последних словах шута люди встревоженно умолкли.
— Ты лжешь! — Радчиц сунул кому-то свою факел и схватился за рукоятку меча. — Ты лжешь, как испорченный орган!
— Хе-хе-хе! — в смехе Корейвы звучала угроза. — Не забывай, достопочтенный, я — рыцарь. И шляхетства меня никто не лишал. И хотя твоя спина прямей моей, меч я выхватываю быстрее, чем ты, сопляк.
— Пан Радчиц, остынь! — старый шляхтич отодвинул Богуша от пришедшего. — Говори, как есть, шут!
Корейва осмотрел темные лица старовежцев, на которых плясали багровые отблески пламени.
— Я видел девушку, которая танцевала в безумном хороводе и выжила. Она уже не такая, какой вы помните ее. Лекарь вылечил ее тело, чтобы сделать помощницей в своем колдовстве. И войта не просите… Кто знает, возможно, лекарь превращает паненку в кошку или в птицу… Прикажет пан Лаврентий обыскать покои — а девицы нет… Хе-хе-хе… Против лекаря войт без разрешения Великого князя не пойдет. Решайте сами, что будете делать, господа… Я — сказал…
Темная фигура исчезла в ночи.
— Кто пойдет со мной утром на башню? — закричал Богуш.
— Я, конечно… — пан Варавва стал рядом с молодым рыцарем. — Кто с нами?
Отозвалось с десяток шляхтичей. Но большинство не хотело биться за одержимую. У каждого имелись свои умершие, свои близкие, что не могли оправиться от болезни… А бороться с чарами — дело священников. Звезда Миловица лила холодный голубой свет на немногочисленную кучку людей, что не хотели расставаться со смертью. Пан Варавва печально обвел их глазами. Самые лучшие и честные… Это значит, что скоро на этой земле таких останется еще меньше.
— Благодарю, панове… Как рассветет, мы пойдем на площадь и потребуем от Рожи отдать мою дочь и покарать лекаря. А если он не послушает… Нам останется славно умереть.
Богуш сурово свел брови и поднял на Миловицу глаза, такие же синие, как ее свет, словно призывая в свидетели.
— Я обещаю, пан Варавва, что войту придется прислушаться к нашим словам. Любой ценой! Но прошу подождать еще день.
— Что ты задумал? — спросил пан Варавва. Но Радчиц только упорно сверкнул глазами.
— Через день, на рассвете, мы соберемся здесь и вернем свою вольность!
Молодой рыцарь резко повернулся и ушел. Миловица смотрела ему вслед.
……….
— Их будет три дюжины… Не более…
Две фигуры шептались у окна башни. В призрачном свете далеких звезд видно было только, что один из собеседников — коренастый, большой, другой — согнутый в крюк.
— Зачем ты это сделал?
— Тс-тс-тс… Забыл, что тебе сказал Великий князь?
— У меня память не отшибло. Я должен выполнять все, что ты говоришь. Но я не понимаю…
— Хе-хе-хе… Зачем тебе все знать и понимать, войт… Для этого есть я… Смешной, безобидный, вездесущий… Князю не нужны колдуны, которых все ненавидят, Лаврентий. Князь хочет стать королем, ему нужна благосклонность папы… А Бернацони, если ты не знаешь, бежал в Прагу из Италии, потому как его обвинили в волшебстве. Еретики и волхвы, даже если они сослужили свою службу, должны уйти в темноту, не пятная светлый облик повелителя. Пусть бунтовщики войдут в башню… Хе-хе-хе… Пусть убьют лекаря… А твои люди убьют их.
Коренастая фигура отстранилась.
— Я знаю многих старовежцев. Это славные рыцари…
— Хе-хе-хе! Каждому был дан выбор! Те, что придут — сами выбрали смерть и путь предательства. Гнилой зуб следует вырвать. Князь наш создаст большое и сильное королевство, на века. А я — князев недостойный слуга. Если бы не он — я сгинул бы, искалеченный, ограбленный, без смысла в жизни… Ты поколебался в верности своей, Рожа?
— Скорее умру.
На какое-то время воцарилась тишина, словно двое прислушивались, поглотила ли ночь безропотно произнесенные слова, не превратились ли те слова в нечто отдельное, живое и отвратительное, как гадюки…
— А что делать с девкой, если лекарь ее не убьет?
— Хе-хе-хе… Ты отдашь ее мне…
Коренастая фигура угрожающе шевельнулась. Шепот едва не превратился в крик.
— Ах ты похотливый урод…
— Тихо, тихо … — зашептал сгорбленный. — Никому не дам убить беднягу. И сам не обижу. Я отвезу ее в Вильно, в монастырь. И имение паненки не трогай! Князь покровительствует сиротам…
………
Анета в который раз читала псалом… “Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся… Воздаждь ми радость спасения Твоего и духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся…”.
Лучи болезненного ноябрьского солнца, что пробивались сквозь щели меж досок, закрывавших окно, едва могли осветить старый пергамент. Буквицы, выведенные где-то в монастыре неспешной рукой монаха, еще сияли багрянцем и позолотой, словно осенняя листва. Анета не хотела думать, что пройдут годы, а может, века, и эти краски поблекнут, выцветут, как та листва, и святая книга также превратится в прах. Страшно было об этом думать… Но смерть все еще танцевала вокруг, и напоминала — нет ничего вечного на земле. Слова, что ты произносишь — останутся. А губы, которыми ты их произносила, буквы, по которым скользили твои глаза, ты сама, эта башня, этот город превратятся в прах. Как все, кого любила…
В мае они с Богушем сговорились и убежали в лес на тайное празднование Клескуна. Священник говорил на проповеди в церкви против того, чтобы горожане ходили на языческие праздники. И отец запрещал. Но Анета и Богуш были такие молодые, это казалось озорной игрой, которую всемогущий Господь простит… Когда Анета была маленькой, нянька рассказывала ей про Клескуна, веселого и разгульного парня, он жил когда-то на небе и водил месяц, сидя на нем верхом. То светлой стороной повернет его, то темной… Но как-то отлучился Клескун к любимой девушке, и Перун обрушил его за это на землю… Только отпечаток лица юноши на Луне можно рассмотреть.
Как было договорено, Анета вылезла через окно, и они с Богушем побежали, выбирая неприметные тропинки, замечая поодаль в ярком свете луны одинокие фигуры, что так же, скрываясь, направлялись к лесу. Голубой свет заливал ветви сосен и высокую траву… И, конечно, именно Богушу надели на голову венок из майских цветов, и он на целую ночь стал Клескуном, и ни одна девушка не могла ему, поводырю Луны, в эту ночь отказать… Но Богуш смотрел только на Анету. Они кружились в хороводе, и не имело значения, кто ты — князь или холоп, крещеный во имя Святого Духа или язычник, и пели: “Клескун, Клескун, клясь, клясь…”. Свет месяца и запах трав, звезды в траве или роса… Сплетаются руки, сливаются тени… И сплетается рядом в траве клубок золотых змей… Не стал ли безумный хоровод смерти расплатой за тот, в майском лесу? Как потом ругали их, непутевых, родители — не удалось скрыть свой поступок. Анета две недели просидела дома, взаперти, в молитвах… Окропи мя иссопом, и очищуся… Как расплатился за свое легкомысленное поведение Богуш — Анета никогда не расспрашивала. Но, наверное, ему пришлось хуже, чем ей. Сама она искренне покаялась, и с ужасом представляла, как непоправимо для нее могло закончиться участие в языческом празднике, и кому служат на самом деле во время таких игрищ… Она старалась не вспоминать о том мороке… Только иногда, по ночам, далекая майская ночь отзывалась сладкой греховной тревогой.
Теперь у Анеты есть хотя бы на память отпечаток лица прекрасного юноши на Луне…
Дверь комнаты распахнулась. Лекарь кутался в зеленый плащ, подбитый собольим мехом, словно ему было холодно. Анете вдруг стало страшно — ведь гость смотрел куда-то сквозь нее, словно она была прозрачным куском льда.
— В этом городе больше нельзя оставаться, — Бернацони поджал губы, и Анета вдруг поняла, что он встревожен и взволнован, как никогда. — Звезды расположились так, что предвещают несчастье, огонь, боль…
— Так отпусти меня! — девушка не прокричала эти слова, а прошептала, и они словно сразу бессильно упали на пол, как мокрый снег.
— Вокруг меня пляшет смерть…– горько произнес Бернацони, снова обращаясь будто к самому себе. — Я превратил ее в свою слугу, посадил на цепь, как злого пса, и она добывала мне нужное… А может, это она держала меня на цепи? Сколько можно безнаказанно служить смерти? Переступить через тысячи тысяч навьев — и о какого-то, тысяча первого, споткнешься. Я прикажу упаковывать мои часы, донна. Благодаря тебе, они больше никогда не собьются. Ты поедешь со мной.
— Куда? Зачем? — Анета чувствовала, что начинает мелко дрожать, словно стакан на столе от боя часов, и, ища помощи высших сил, положила руку на раскрытое Евангелие.
— В большой мир, маленькая дикарка… К большим знаниям.
— Я не поеду, — Анета старалась, чтобы в голосе не прозвучало и тени боязни.– Ты страшный, жестокий человек, лекарь… Ты уничтожил свободу моего города. Ты уничтожил мою волю…
Бернацони грустно улыбнулся.
— Воля, воля… Ты опять говоришь о том, чего не знаешь. Вспомни оборонительные валы вокруг твоего города… Мощные, высокие… А ты знаешь, кто их насыпал? Кого магистрат насильно посылал на “валовые работы”? Бедняков, что не могли выплатить “подымное”, непотребных женщин, которые пошли в шлюхи, когда их дети с голоду пухли, бродяг, строптивых ремесленников… Придет нищий в ваше славное место — а его “на вал”, копай землю под дождем да кнутом тиуна… Возразит сапожник или шорник цеховому мастеру — на вал… Как ты думаешь, для этих людей твой Старовежск также — свободный город?
Анета растерянно молчала. Бернацони легко прошелся по комнате, как будто лемпард.
— Свобода… Откуда ты можешь знать про свободу, живя в этом забытом Господом угле… Здесь тебя одно что убьют, как одержимую нечистой силой. А ты можешь мне еще помочь.
— Я не хочу помогать тебе в твоих чарах! — воскликнула Анета.
— Опять ты про волшебство, маленькая дикарка… — раздраженно сказал Бернацони. — Мне нужен отвар, который я еще не составил до конца. Моя работа не закончена, и твоя тоже. Я выведу тебя отсюда незаметно. Готовься…
— Я останусь!
Но дверь уже захлопнулась.
…………………………….
Я сидела, бессильно опустив голову на стол, заваленный бумагами. Тиканье отреставрированных Юрасем часов в соседней комнате создавало в моей бедной голове четкую картину: минуты падают железными каплями на каменный пол, подпрыгивают, катятся, сталкиваются, как бильярдные шары, и вот уже весь пол усыпан ими, блестящая звонкая гора вырастает до потолка, вот-вот засыплет меня холодным тяжелым весом… Так и у бедного профессора мозги “поехали”… Как пояснил за завтраком Макс, очередное обострение шизофрении. А теперь со мной неладное…
Психические заболевания действительно заразны…
— Что с Вами, дорогая барышня?
В голосе Макса, казалось, звучала неподдельная тревога… Это было намного лучше, чем его обычно бодрый тон. Я подняла голову, провела ладонями по лицу, стирая ночные ужасы. И неожиданно заговорила о том, что никак не хотела с кем-то обсуждать.
— Скажите, это правда, что когда сны повторяются, это признак шизофрении?
Если Макс и удивился, то смог это не показать. Он присел рядом на офисный серый стул и иронически улыбнулся.
— Если бы вы знали, сколько в каждом из нас того, что врачи в разное время считали симптомами шизофрении, вы бы удивились. Люди просто боятся всего, на их взгляд, необычного, особенно что касается собственных ощущений. А есть такое явление, как галлюцинации у совершенно здоровых — например, когда просыпаешься… Открываешь глаза, а узоры на обоях оживают, видишь в них чьи-то лица… Я, кстати, часто сню одни и те же сюжеты. Правда, если верить Юнгу и его последователям, то тех сюжетов всего несколько на коллективное подсознание человечества.
Макс дружелюбно посматривал на меня, покручиваясь в кресле. Взгляд серых глаз с длинными ресницами то озорной, то доверчивый… Светлые волосы уложены в художественном беспорядке с помощью геля. Серый гольф, светлый пиджак, брюки с аккуратно отглаженными стрелочками… Стильный мужчина. Умный и ироничный. Невольно вспомнился Юрась в его протертом на локтях свитере, вечных джинсах и с вечной несчастностью. Как хорошо, что бывший муж так и останется для меня бывшим… Вместе со всеми своими жизненными неудачами.
— Анна, извините за наглость, но что за сны вы видите?
Макс, не дождавшись от меня добровольной исповеди, побуждал к искренности. Что ж, он, видимо, не такое слышал…
— Снится средневековье… Как будто я — девушка, которую заперли в башне. Но все так стерто… Как в скверном фильме. Дешевые декорации, дешевая романтика… А моментами — реально, прямо до жути. Помню, в моих снах есть шут с согнутой спиной… Он все время смеется. Злая женщина с темным, сухим лицом… Красивый рыцарь, которого ко мне не пускают. А еще какой-то то ли доктор, то ли астролог в темном… Иногда это все привязывается к реальности — доктор кажется мне тем самым Бернацони, которому принадлежали часы… Башня — Старовежской ратушей… Правда, в последнее время забываю, что снила. Только впечатление остается — мрачная готика. Просыпаюсь вся измученная…
Я замолчала, боясь глянуть на господина психолога. Его веселый смех заставил меня поднять глаза. Макс наклонился ко мне.
— Ваши сны — просто подарок… для учебника по психоаналитике. Такие… типичные. Точнее — архетипичные. Не буду нагружать вас терминами, но, скажем, шут похож на Трикстера, одного из архетипов, описанных Юнгом. Он все время кривляется, не добрый и не злой, но может посоветовать, помочь… Или подстроить пакость. Так?
Я молча кивнула головой. Макс улыбнулся и продолжал.
— Доктор в черном — безусловно, это Персона… Та часть вашей личности, которую вы считаете главной, и которая на самом деле — ваши предрассудки, ваше неосуществленное честолюбие, желание хорошо выглядеть в глазах других. Он вами командует, вы — в его власти, хотите освободиться, но вам не хватает силы… Так?
Я поспешила высказать самое сокровенное, что меня мучило.
— Ну, если я не сошла с ума… Может, я вспоминаю что-то… из прошлой жизни?
Макс заговорил неожиданно сердито.
— Вот не ожидал от вас такого… Сразу выбросьте подобный бред из головы. Реинкарнация… Душа послушного баобаба переселяется в креветку. Как вы можете в такое верить? Вот же на вас серебряный крестик… Вы христианка?
Я виновато опустила голову.
— Христианка… Но мне страшно… Я не понимаю, что со мной происходит.
— То, что со всеми, кто долго прячется от своих проблем, — так же сердито сказал Макс. — Эти проблемы находят другую форму, чтобы достучаться до сознания. В вашем случае — через сны. В их неузнаваемо меняется знакомая реальность, синтезируется из нескольких образов — один. Вы видите себя замкнутой в башне… Это из-за статьи о ратуше у вас начались неприятности? Простите, но мне кое-что о вас рассказывал господин Янчин.
— Да…
— И в жизни вы не нашли достойного выхода из ситуации. Вот вам и символика… Вечером приходите ко мне в кабинет, что на втором этаже. Поговорим, подумаем… Игорь, наш охранник, проведет ко мне.
На второй этаж после торжественного обеда в день приезда мы никогда не ходили. Наше место — в бывших комнатах для прислуги. Но даже из-за любопытства попасть на “господский этаж” к “психу” идти не собираюсь. Вот закончу свою работу — и домой… Пусть Юрась один возится. Интересно, он правда, как сказал мне за завтраком “человек опасной профессии” Игорь, поехал вместе со Стеллой в церковь на воскресную службу? Такой верующий стал… Что ж, пусть Господь поможет им обоим. И мне бы не повредило поехать с ними. Когда я последний раз была в церкви? На Пасху, наверное. Не удивительно, что тьма собралась на душе…
Так, решим последнюю загадку. Пусть Аркадий оказался циничным негодяем, но — бросить работу, отказаться от денег? Когда-то я бы так и сделала, даже из-за одной изуродованной башни. Но сейчас не находила в себе стержня, который бы удержал меня от желания склониться перед обстоятельствами. Хотя мне все меньше нравилось, что хозяева интересовались прежде всего часами, тем, что я о них переводила, переспрашивали, торопили, контролировали, а про Аркадия будто и забыли.
Я разложила на столе бумаги с записями. Мы имеем двенадцать часов. Каждые названы во имя одного из двенадцати апостолов. В какой очередности обычно упоминаются ученики Господа? Так, как их призвал Господь? Первыми были Петр и его брат Андрей, рыбаки… После — снова братья, Иаков Зеведеев и Иоанн. Потом — Филипп, Варфоломей, Фома, мытарь Матвей, Иаков Алфеев, Фаддей, Симеон, и последний — Иуда… Могла быть другая очередность? Я еще раз прошлась по интернетовских сайтах, попадая то на форум поклонников готики, то к аквариумистам: “Моя золотая рыбка лежит на боку, глаза выкатились на лоб, а хвостик поджат…”. И, наконец, на сайте любителей эзотерики нашла таблицу, где каждый апостол связывался с определенным знаком Зодиака. Очередность была немного другой… Петр — Овен, Андрей — Телец, Иаков Зеведеев — Близнецы, Иоанн — Рак, Фома — Лев, Иаков Алфеев — Дева, Филипп — Весы, Варфоломей — Скорпион, Матвей — Стрелец, Симеон — Козерог, Фаддей — Водолей, Иуда — Рыбы… К тому же все увязывалось со стихиями, веществами, цветами, драгоценными камнями… Это, конечно, кощунство. Особенно для средневекового христианина. Что было важнее для Бернацони — слова Священного Писания или астрология? Я вообразила лекаря… Похожего на того, черного лекаря моих снов. Пронзительный взгляд черных глаз, строгие губы… Почти Колывановский облик! Представила, как он стойко держался во время допросов инквизиции… Средневековая Прага — город магов. Врач на то время обязательно должен был быть и астрологом. Как там в стихотворении Максима Богдановича:
«Скарына, доктар лекарскіх навук,
У доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры.
Яны спрыяюць! Час! З рухавых рук
Скарыны п’е адвар пан земскі пісар хворы».
А Бернацони был не рядовой врач… Значит, и известный астролог. И наш Великий князь наверняка заинтересовался умением пражского итальянца читать звезды. Поэтому, если уж Бернацони дал часам имена апостолов, мог привязать их и к знакам зодиака…
Стукнула дверь. Юрась зашел в мой кабинет. Синие глаза из-под прямых бровей смотрели прямо, открыто… Нет, не может быть, чтобы этот человек был убийцей! Домогурский лгать не умел. Если бы действительно пришлось совершить смертный грех – извелся бы, как Родион Раскольников… Хотя что-то его мучает… Но сейчас, насколько я его знаю, он мне об этом расскажет.
— Тебе много осталось работы? — он ждал ответа с непонятной мне тревогой.
— Считай, закончила! — торжествующе заявила я и рассказала о своей зодиакальной гипотезе. Юрась кивнул головой, но как-то без особого энтузиазма.
— Так и было… Ты молодец! Знаешь, Стеллу отправил домой… Сама попросила. Даже согласилась в клинику завтра же пойти. Я заплатил за первый курс лечения, мать проводит ее… И тебя хорошо было бы домой отправить…
Я раздраженно смотрела на его склоненную голову с темным ежиком, присыпанным на висках сединой, на сплетенные руки со сбитыми на косточках пальцами — механик…
— Я не бандероль, чтобы меня отправлять.
Юрась подошел к двери, почему-то заглянул за нее — что, думает, будто нас подслушивают? — и тихо проговорил:
— Знаешь, что Дмитрия Потаповича вчера забрали в клинику?
— Знаю. Очередной приступ шизы. Ну и что?
Домогурский тревожно вздохнул.
— Профессор все говорил, что близок к разгадке, что господин Колыванов будет доволен, нес какую-то ахинею про мировой порядок, который без Колыванова пропадает… Кстати, я давно заметил, что ни профессор, ни этот кукольный Макс мне много чего не рассказывают… Я отремонтировал почти все часы. Так вот, Дмитрий Потапович и решил, что уже можно проводить эксперимент. Пришел сюда вечером, один, никому ничего не сказав, поставил часы на бой, вокруг себя стаканы, рюмки… Здесь, в подвале, его и нашли. Мне это не нравится. Не для доброго дела Бернацони устраивал свои дьявольские машины.
Я пожала плечами.
— Звуки от них неприятные… Но ведь не здоровый человек от них сошел с ума. Не преувеличивай.
Юрась снова потупился.
— Знаешь, дай мне твой список, как часы расставлять…
Я рассмеялась.
— Хочешь за Дмитрием Потаповичем отправиться?
Но бывший муж шутки не поддержал, взял из моих рук листок и пошел копаться в старинных железках.
В моем так называемом кабинете окон не имелось, и от того мне все время чудился поздний вечер и сумеречная усталость и безнадежность… Поэтому в светлом коридоре усадьбы ноябрьское солнце казалось неожиданно щедрым, как скупой перед смертью, — я чуть не засмеялась от радости. Свобода! Макс тоже радостно улыбнулся, беря папку с моими статьям и дискету.
— Теперь дело за лучшими дизайнерами! Я сейчас же отошлю этот текст Лилии Петровне, думаю, она почитает, не медля. Так что подождите с отъездом до завтра — может, будут какие замечания. Кстати, та литература, что вы пользовались… Вы оставили последние переводы отрывков, касающихся Старовежска, Бернацони и часов?
— Да. Все в отдельном файле, и распечатки есть.
— Тогда отдыхайте, дорогая! А вечером все-таки зайдите… Поговорим. Поверьте, я неплохой специалист!
Макс на мгновение приобнял меня за плечи и ушел, оставив на память запах дорогого парфюма… По-видимому, и с клиентов берет дорого… А тут — халява. Но я все-таки не собиралась ею воспользоваться. Если мне захочется исповеди, я лучше в церковь пойду.
Я никогда не отличалась аккуратностью, поэтому за две недели моя комнатка смогла достаточно ко мне приспособиться. Интересно, какая-нибудь горничная или лакей, которые жили здесь в прежние времена, имели право вот так бросить мокрую куртку на кресло или загромоздить бумагами стол? Я сбрасывала в сумку вещи, раздумывая, снять мне по возвращении в столицу новую квартиру, или заплатить прежней хозяйке, а может — если вдруг заплатят больше, чем обещали — выкупить какую-нибудь квартирку? Можно денег доодолжить. Мать отдала бы накопленное, тетка… А я на постоянную работу пойду… В какое-нибудь захудалое переводческое бюро, где не посмотрят, что у меня нет лингвистического образования.
Я начала нащупывать конверт с заветной тысячей, по-старославянски, кажется, “тьмой”, это же надо — тьма денег! Но моя тьма куда-то завалилась. Что ж, сама виновата… Запихала вещи кое-как. Я вываливала по частям содержимое сумки, повторяя постмодернистское стихотворение Андрея Вознесенского: “Матьматьматьматьма…” Наконец все мои вещи оказались на кровати. Куда же я задевала конверт? Более-менее терпеливо пересмотрела все — пустую сумку, вещи, комнату… Со мной это не может случиться — сколько раз приходилось повторять себе эту фразу. Помню, на занятиях изостудии в доме культуры моего городка я целый месяц вырезала из черной бумаги кружевной узор — русалки, водоросли, рыбки. Оставалось эту красоту приклеить на светлый фон. Руководительница раздала нам банки, будто со сметаной — специальный клей… И предупредила, что в одной из банок может быть краска. Как мы смеялись над потенциальным неудачником! Как это перепутать краску и клей! Пока я, промазывая в который раз свою аппликацию непослушным белым веществом, не осознала, что смеяться теперь будут надо мной…
Помятая, испачканная аппликация оказалась в мусорке. В изостудию я больше не ходила.
Теперь, похоже, мне оставалось сделать вид, что никакого аванса я не получала. Воображение рисовало невероятные картины моей рассеянности, в которые сразу же верилось. Я случайно выбрасываю конверт с тысячей долларов. Я засовываю его куда-то и забываю куда… Растяпа…
В дверь постучали. Ну что вам нужно? Меня нету… Юрась за дверью произнес:
— Анета! Выходи, надо переговорить… Ну, пожалуйста…
Этот, похоже, не отстанет. Я открыла дверь. Юрась только взглянул на мое лицо:
— Что случилось?!
Из меня никогда не выйдет ни светская дама, ни солидная чиновница. Я читала про какого-то моллюска, у которого все внутренности снаружи. Так же и все мои эмоции. Не очень эстетично. Но я постаралась произнести как можно более весело — что, наверное, выглядело жалко:
— Да вот, сунула куда-то свой аванс… Не могу найти.
Юрась внимательно посмотрел на меня и недоуменно переспросил:
— Ты что, привезла сюда деньги, что тебе заплатила Лиля?
— А куда мне было их девать? — разозлилась я. — В чужой квартире оставить? И вообще я об этом не задумывалась.
Домогурский постарался скрыть неодобрительное удивление — в конце концов, сам такой! — и захотел подробностей… Когда последний раз видела конверт, кто ко мне заходил, закрывала ли дверь… Лицо его все мрачнело и мрачнело.
— Прости, мне надо позвонить…
И побежал куда-то. Я чуть не заплакала от обиды — и на его невнимание, и на свою судьбу… Бросилась на кровать, накрытую одеялом из белого атласа, и начала жалеть себя. Не знаю, сколько времени мне удалось отдаваться этому плодотворному занятию, кажется, закончила на мысли об уютной хибаре кладбищенского сторожа, как возможном месте работы, — но вдруг дверь без стука распахнулась, и в комнату ввалился Юрась. Бывший муж, напряженный, как будто его кто-то собирался ударить, смотрел в пол.
— Не переживай, Анна. Деньги тебе вернутся в ближайшее время. Увидимся завтра, а пока выбрось это из головы. Все, до свидания.
Я ничего не понимала.
— Ты что, уезжаешь?
Юрась по-прежнему смотрел в пол.
— Надо в Минск подскочить. А ты иди, поужинай. Поверь, все будет хорошо. Это просто… недоразумение.
И пошел. Я в растерянности сидела на кровати. Юрась что, знает, куда делись мои деньги? Почему он возвращается в Минск? Вдруг мне стало жарко от внезапной догадки. Стелла! Она же однажды выходила из моей комнаты. Женщина, у которой две личности — темная и светлая… Да, она могла взять конверт. И, видимо, подобное случается не впервые. Вот досада…
Мы ужинали в маленькой комнате с эркерным окном. Макс, которому Юрась, видимо, что-то объяснил, выбрал для меня из репертуара своих улыбок самую доброжелательную. Я обвела глазами компанию. Охранники, чернявый Игорь и рыжий Анатолий, в одинаковых коричневых свитерах, ели молча, ни на кого не глядя. Третий охранник, толстый, словно борец сумо, видимо, был “в карауле”. Я знала, что в доме есть еще люди — две горничные, немолодые женщины, похожие на учительниц, шофер, который привез нас сюда, прилизанный молодой человек с тонкими черными усиками, как у артиста немого кино Макса Линдера. Еще какой-то мужик, по виду отставной военный, следил, чтобы лампочки горели и картины висели на своих гвоздях… Кто-то готовил нам еду, мыл белье… Только сейчас я начала осознавать, как это сложно — иметь усадьбу. Как там “Литовская хозяйка” советовала: “Каждый из лакеев и слуг должен выполнять определенную часть работы. Например, один отвечает за буфет… Второй лакей должен убирать комнаты, подметать и натирать пол. Когда в доме гости, каждую гостевую комнату поручите одному из челяди…”. Короче, мы были “экономки, девки и челядь в усадьбе”. Но у обслуги также была своя иерархия, и “низший” ее класс питался от нас отдельно. И в этом доме явно не поощрялась “болтовня”. Мои попытки заговорить с кем-то из “персонала” на более личные, чем грязный пододеяльник, темы вызывали лишь вежливую улыбку. Сейчас поведение шофера, который во время драматической сцены между Юрасем и Стеллой и рассказа Янчина держался как буддистские обезьянки — “Не вижу, не слышу, не говорю”—виделось мне вполне соответствующим. Обслуга была вышколенная. Могу поспорить на свою рыжую косу — все, за исключением, пожалуй, охраны, от которой требовались совсем другие качества, — с высшим образованием и знанием языков.
После ужина Макс снова пригласил к себе на сеанс халявной психотерапии. Но я и так уже перед ним слишком разоткровенничалась…
Я бродила по темным аллеям Людвисаровского парка, расплескивая ногами позднюю осень, воплотившуюся в колотушу их гнилой листвы, грязи и мокрого снега, и чувствовала себя речной рыбешкой, которую добросердечные дети выпустили в синее море. Как будто и воды много, и еды… А нет в моей крови жгучей соли, к которой привыкли все тамошние… Хотя я должна Юрасю быть благодарной. Где бы еще такую выгодную работу нашла? При воспоминании об Юрасе мне стало как-то тоскливо. Я не сомневалась, что он вернет мне деньги. Одолжит, свои отдаст, но вернет. А что, если его “звездочка” их потратила? А ей же на лечение нужно… Обойдусь я без тех денег, если что… Скажу — подожду, пока разбогатеет…
Я направлялась к беседке с колоннами. Но из сумерек ко мне выплыл светлый силуэт. Макс, в белом стильном пальто, держал над собой огромный зонт, который в свете фонарей казался серебряным.
— Вы всегда бродите под дождем без зонта?
Я неохотно остановилась.
— Разве это дождь? Скорее, влажный туман. Я и не заметила…
Макс галантно заслонил меня от мелких, как комариный дыхание, капель.
— А вы так и не пришли ко мне на прием… Ну что ж, добровольность здесь — святое. У меня для вас хорошие новости. Лилия Петровна прочла вашу статью. Ей все понравилось, есть только несколько незначительных правок. Посмотрите, возле вашего компьютера папка… Кстати, а почему вы про часы написали так коротко?
— Коротко?! — возмутилась я, — Да у меня про эти часы десять страниц!
Макс как-то слишком искренне рассмеялся, беря меня под руку и направляя в сторону дома.
— Вы все прекрасно сделали! Просто когда в древней вещи спрятан некий секрет, это всегда привлекает туристов. А у Лилии Петровны и Петра Афанасьевича большие планы насчет туризма. Профессор, жаль, не успел разобраться… Вот вы бы и написали все, что думаете. Пусть домыслы. Разве Юрий не рассказывал вам ничего о своих предположениях насчет секретов часов?
Я осторожно освободилась от нежного прикосновения “психа”.
— Думаю, о возне Домогурского с механизмами вы знаете больше меня. Я все равно в этом ничего не понимаю.
— Ну, может, наш мастер фантазировал при вас, рассказывал о вековых тайнах?
Я начала злиться.
— А вы спросите у него самого. Тикают ваши часы, фигурки движутся… Что вам еще надо? Сказки все это — о стаканах, которые разбиваются.
Мы подошли к мраморным скульптурам, которые выстроились вдоль дороги. Античные герои плохо выдержали битву со временем. Скульптор был не настолько талантлив, чтобы безрукие, безголовые фигуры сохранили достоинство. Правда, было этого достоинства здесь все равно несравнимо больше, чем в гипсовых скульптурах пионеров и физкультурников в парке моего родного городка. Хотя — если повезет простоять тем физкультурникам еще сто лет, неизвестно, с каким чувством будут смотреть на них наши потомки. Может, тоже с ностальгией и уважением?
Мы поравнялись с пустым пьедесталом, на котором остались только мраморные ступни в сандалиях. Макс остановился.
— О чем вы думаете при этом зрелище?
— Это какой-то тест? — отозвалась я.
— Ну, скорее личное любопытство.
Я всмотрелась в изувеченный мрамор.
— Я думаю о том, что мы — однодневки, люди мира одноразовой посуды и одноразовой культуры. Предшественники, куда более значительные, чем мы, отдавали жизнь, чтобы обрести глоток свободы. А их оболгали и забыли. Думаю о том, что так и не написала книгу исторических эссе, как намеревалась. О старовежской ратуше, с которой Баркун сделал то же, что здешние варвары — с этим памятником. И о том, что от нас не останется даже такого пьедестала.
— Ничего себе! — Макс иронически покачал головою.–Романтика и озабоченность глобальными проблемами чаще всего сочетаются с инфантильностью и неспособностью решать проблемы личные.
— Это мой диагноз? — холодно спросила я.
— Это ваша неосведомленность, — улыбнулся Макс. — Ну куда вы вышли из-под зонтика? Скульптуры эти бывший хозяин поместья, последний из магнатов Людвисаров, приказал поставить в честь себя самого. Все статуи имели его лицо. Вот такой… римский Цезарь из-под Старовежска.
— Этот человек, какие бы ни имел смешные слабости, участвовал в восстании, рисковал жизнью… Не для себя — они, инсургенты Калиновского, знали, что их дело безнадежно. Ради чести, исторической справедливости, ради свободы…
— Вот вы какая пассионарная, — спокойно произнес Макс.– Но свобода — это только мечта. Вы осознать не можете, насколько человек лишен свободы самим собой. И освободиться от себя очень тяжело. — Макс говорил без насмешки, даже с грустью. — Я знаю это на собственном примере. Моя мать работала уборщицей в школе, в которой я учился. Мне оставалось либо заставить всех уважать меня через агрессию, через дерзость, или смириться, стать вечной “шестеркой”…
— И какой путь вы выбрали?
— Я начал изучать свои страхи и уничтожать их один за другим. Заговорить на равных с богатым мальчиком… Покорить самую красивую девочку… Ответить веселой шуткой на обидную дразнилку… Я сам себя сделал, отбивая по куску от панциря, в который заковала меня судьба. И я знаю, что это возможно, хотя и очень трудно. Перестаньте же и вы бояться самой себя настоящей. Дайте себе волю.
Макс нежно дотронулся до моего плеча. Серебряный зонт над нами был похож на беседку для романтических свиданий… А почему бы и нет? Я не святая… Хотя воспитание в семье, где никогда не было мужчин — мать, бабушка и я (мужчины считались чем-то враждебным и ненужным) отразилось… Молниеносный брак с Юрасем еще более укрепил убеждение в ненадежности “двуногих петухов без перьев” и желание “серьезных отношений”. Не удивительно, что серьезных отношений не получалось. Роман с малоизвестным поэтом длился пять лет… Поэт требовал рыбных блюд и тишины, когда приходит вдохновение. А потом ушел к дамочке, которая выгоняла его писать вдохновенные стихи на кухню. Художник-маринист продержался со мной год. Между художником и поэтом был еще поляк, приехавший сюда изучать белорусскую филологию. Я даже поселилась вместе с ним в общежитии… Может, и зря не уехала за тем Гжесем в Польшу? Хотя не так уж он и уговаривал. Наверное, не мог простить моей зацикленности насчет белорусской принадлежности Адама Мицкевича, Яна Борщевского и других исторических персон, заядлые споры по поводу которых стали для нас столь же привычными, как ужин. А зачем связывать жизнь с человеком, который обеспечит ежедневные профессиональные дискуссии дома, где хочется не только ноги, но и душу всунуть в мягкие теплые тапки? Ну а теперь, похоже, моим очередным “увлечением” может стать психотерапевт…
Макс придвинулся ближе, так что я почти слышала, как стучит его сердце… Ровно оно стучало. Я всем своим ненормально эмоциональным существом почувствовала внутренний покой моего спутника, словно большую льдину. Он же на самом деле мною вовсе не заинтересован, как изображает! Зачем я ему нужна? Психотерапевт наклонился близко-близко… Сейчас я почувствую прикосновение его губ… Нет! Я оттолкнула “психа” и решительно вышла из-под зонтика в мокрый туман.
— Простите, но я хочу как можно скорее доработать свою статью…
Макс не выразил неудовольствия и не пытался меня задержать.
— Что ж, одобряю… Лилия Петровна будет вам благодарна.
И уже когда я бегом отправилась в сторону усадьбы, закричал вслед:
— А чтобы о снах не забывать, нужно их записывать. Как только просыпаешься!
Но в эту ночь мои сны были, по-видимому, такие грустные, что от них в памяти осталось только ощущение неисправимой потери…
А утром снова выпал снег. Белый, пушистый, он больше не собирался таять и выпускать на волю черноту земли и ветвей. Да еще сонное ноябрьское солнце время от времени выглядывало из-за хилых туч, словно пан, проезжая нищую деревню, бросал в окно кареты, завешенное занавесками, горстки мелких монет.
Я последний раз прошла через мастерскую со старыми часами. Они снова молчали, остановленные волей их нынешних хозяев, и в этом молчании ощущалась угроза. Рыцари смерти… Зашла в кабинет, который две недели был моим. Замечания, которые оставила мне вдова Баркуна, касались только текста про часы. Точнее, подробнее… Переводы дать отдельно, слово в слово. Ну что они к этому антиквариату прицепились? Я и так написала все, что знала. Перечитала еще раз свой текст… Сусального золота на портрете Баркуна хватало, и я утешила разбуженную совесть тем, что, во-первых, о мертвых — или хорошо, или ничего, и, во-вторых, по поводу восстановления башни я высказалась достаточно лаконично. Ну, вот и все… Я собрала бумаги. Но не успела уйти, как появился Юрась. Вместо приветствия он протянул мне тяжелый конверт:
— Вот твоя тысяча, Анета. Прости, пожалуйста, что пришлось попереживать. Я же говорил — это недоразумение.
Я молча смотрела на бывшего мужа. Что-то появилось в его лице такое…
— Что произошло?
Юрась, кажется, попытался улыбнуться. Но притворяться он никогда не умел.
— Потом как-нибудь расскажу…
И собрался уходить. Я преградила ему дорогу.
— Подожди… Мне не очень нужны сейчас такие большие деньги… Может, одолжить? Стелле на лечение…
Лицо Юрася странно передернулось.
— Спасибо… Ты — лучшая в мире… Но нам пока хватает.
— Нехорошо со Стеллой? — догадалась я. — Она где, в клинике?
— В реанимации,– глухо ответил Юрась.
Оказывается, художница, случайно разбогатев, сразу же бросилась покупать “вдохновение”… И, конечно, “перевдохновлялась”. Ее успели отвезти в больницу, но пока она в коме. Юрася даже не пустили к ней. Только через стеклянную перегородку увидел, как лежит под капельницей.
— Звонил Янчин, говорил, привезет чудо-лекарства, клиника — под контролем Колыванова, так что все, что возможно, сделают… Состояние опасное, но пока она в той клинике — будут спасать. Какой-то новый очиститель крови ей вводят. Лекарства дорогие, врачи тоже… Все мои сбережения… Родительские… Я же думал сегодня уезжать… Все равно больше, наверное, ничего не изобрету. А тут… Эти люди — без сантиментов. Перестану на них работать –отдадут Стеллу в обычную больницу… Проклятая работа…
— Почему? — удивилась я. — Ты же всегда радовался, когда удавалось вернуть к жизни старинные вещи, тем более — это часть нашей истории. И всего одни часы осталось отреставрировать…
— Да разве это реставрация? — с горечью воскликнул Юрась. — Мне же не дают восстановить резьбу, изумительные украшения… Главное — чтобы часы могли разбивать стаканы и рюмки на потеху туристам. Глупости какие-то… Знаешь, это же я нашел Дмитрия Потаповича, когда… когда он заболел. И я подобрал документ, который он потерял. Документ на немецком языке. Я не могу прочитать…
Юрась протянул мне сложенный вчетверо листок, пожелтевший на сгибах. Я развернула… Ксерокс письма, написанного, видимо, пером на пергаменте. Это отсюда профессор в день нашего приезда зачитывал фразу насчет стеклянных сосудов… Старонемецкий язык, буквы, словно островерхие колпачки гномов. Половину слов не разберу. Но подпись понятна: “Гервасий Бернацони”.
— Похоже, пятнадцатый век! Чтобы перевести, нужно к знатокам сходить. Но почему же ты мне раньше не показал? Я бы, может, добавила что-то в свою статью!
Юрась нахмурился.
— Знаешь, не надо, чтобы знали, что это письмо у меня. Просто… по старой дружбе… переведи его, пожалуйста. Я тебе позвоню завтра вечером.
— Лучше дня через три, — уточнила я.– Могу не успеть…
Юрась молча кивнул головой и посмотрел на меня синим тоскливым взглядом, словно прощался навсегда.
— Прощай, Анета. И прошу тебя — никогда сюда не возвращайся. И с этими людьми больше не связывайся. Ни за что. Что бы тебе ни обещали, слышишь? Я уж сам… расхлебывать буду.
И ушел, не объяснив свои странные предосторожности. Да чего ждать от человека, у которого жена умирает?
Плату я получила “с верхом” — полторы тысячи. Плюс аванс… Но радости не чувствовалось. Эти деньги были причастны к беде со Стеллой… Это были деньги за договор с совестью, к ним будто прилипла моя ложь. Притом, как ни странно, я так и не уяснила главный смысл моей работы. Ведь то, ради чего меня нанимали — скорее издать книжечку памяти Аркадия Баркуна — хозяев будто перестало интересовать. На мои расспросы, когда я увижу изданную брошюру, кто ее оформляет, в какой типографии напечатают — звучали невразумительные отговорки. И теперь, уезжая, я вдруг поняла, что эта книжечка никогда не будет выдана.
И, глядя из окна шикарного “джипа” на высокий бетонный забор, который все удалялся, удалялся, я не хотела думать ни о тайне, ни о людях, которые остались за ним… Но не могла избавиться от тревоги.
……………………..
За городской стеной кричала сова, словно проклинала мрачный ноябрьский рассвет. Сразу же в стене открылась маленькая незаметная дверца, для шпионов и поздних гостей. Для безопасности она была выкована из сплошного железа и сделана так высоко, что приходилось опускать лестницу. Молодой рыцарь спрыгнул на деревянный помост по ту сторону дверцы.
— Хвала Господу, панове! Сегодня мы победим!
Десятка два вооруженных людей, которые ждали его возвращения, одобрительно откликнулись. Но их приветливые крики смолкли… Вслед за рыцарем из проема в стене показался бородатый воин в странном остроконечном шлеме, с двусторонним топором, похожим на оружие Перуна. Пришелец показал редкие зубы в улыбке, что должно было означать приветствие. За ним из ворот выбрался еще один в таком же шлеме, его русоволосая борода была длиной в локоть… Потом еще… Еще… Чужаки один за другим выползали из проема в стене, как будто их порождало пекло.
— Богуш, кто это? — гневно спросил старый рыцарь.
Молодой человек гордо выпрямился.
— Это карачунцы. Они помогут нам прогнать войско Великого князя.
— Что ты наделал, глупый, безмозглый молокосос! — горько проговорил старый рыцарь. — Вот теперь — конец свободы Старовежска… Нет больше нашего города…
Но молодой только пожал плечами.
— Великий князь с татарами союзничал, с крестоносцами, а эти все же — единоверцы.
— Не время балакать. Побъем псов неверных! — рявкнул вождь карачунцев, подняв свой топор. Чужие воины ответили радостным криком. Богуш достал меч.
— К башне! Во имя святого Юрия!
— Измена! Позор! — кричал седой старовежец, но его никто не слышал.
Рожа тряхнул Корейву за грудки:
— Смотри, что из твоей хитрости получилось! Карачунцы в городе!
Шут скривил бледные губы в улыбке.
— Разве первый раз ты бьешься против них?
— Не первый… Но я не хочу, чтобы — последний, — глухо произнес Рожа. — Их не три дюжины… Они уже на площади! Слышишь? Может, дать знак воинам, что в засаде за церковью?
Из окон доносился гул неистовой битвы. Крики боли, крики ненависти, лязг оружия — язык, на котором разговаривает во время своего пиршества Смерть. Шут помотал головой, колокольчики на его шапке зазвинели нелепо весело.
— Пусть все идет как замыслено. Пусть войдут в башню. А мы двинемся поземными ходами…
— Подземными ходами? Какими? — растерялся войт.
— Хе-хе-хе…– засмеялся Корейва, и колокольчики тоже засмеялись. — Иди за мной, пан Лаврентий… Мне все тайны этого здания в Вильно еще открыли. Честью Корейвы клянусь — через час поведешь свое войско на пришельцев, и исчезнут они вместе с предателями-бунтовщиками в аду, только ключики огненному морю отдадут. Хе-хе-хе…
Лекарев секретарь Энрике что-то горячо объяснял Анете на итальянском языке и тянул в зал с часами. Девушка зашла и окаменела от удивления: в центре зала стоял, преклонив колени, лекарь. Он низко опустил голову, и, похоже, молился. Анета смотрела на его согбенную спину и не могла поверить, что это — тот самый властный колдун, которого все так боялись. Но когда Бернацони поднялся с колен и повернулся к девушке, на его лице не было отчаяния. Только решительность.
— Будь рядом, донна. Я не знаю, что здесь происходит, чья злая воля мне противостоит — но, поверь, я смогу защитить нас.
И сказал горько:
— Пресвятая Дева, сколько раз я давал себе слово, что эти часы будут молчать…
— Почему на площади бой? На город напали? — Анета не хотела показывать страха, но голос дрожал.
— Карачунцы, — коротко ответил Бернацони. – О них доносили. Их прислали на разведку. Отряд небольшой, может, сотня. Свержень были разграбили, в Волотовне двух человек убили. Так, стая падальщиков. Но они попали за городские стены, у них есть в городе союзники…
— Ищи в своем войске! Среди старовежцев предателей нет, –возразила Анета. — А почему ты не вооружен, почему — не там, где бьются? Наши рыцари никогда не отсиживались!
— Мое оружие — при мне…— рассеянно ответил врач, оглядываясь по сторонам. — Хорошо, что не успели положить часы в ящики.
Снизу доносились вопли чужаков: “Бей! Бей! Не пускай! Давай!”. Бернацони властно крикнул:
— Анета! Открывай окно! Скорее! И двери раскрой!
Лескевичанке не раз приходилось быть вместе со своим городом в осаде, когда на стенах нужна помощь всех — женщин, стариков, детей. Она привычно, не переспрашивая и не медля, бросилась выполнять приказ, на первый взгляд нелепый — в раскрытые окна могли влететь стрелы. Но во время битвы слова тех, кто руководит обороной, не взвешиваются. И не вспоминаются старые обиды. Если выбирать между армией Великого князя и отрядом карачунцев — так лучше князь… Анета знала, что ее отец сказал бы именно так.
— Все готово…
Бернацони поправил стрелку на каждых часах, разговаривая с ними, как с живыми.
— Вы первый, господин мой Петр… Вы — второй, пан Андрей… Третье слово за вами, господин Якуб…
Теперь все часы показывали разное время. Лекарь открыл деревянную шкатулку и бережно вынул круглую стеклянную посудину. Анета только сейчас заметила, что пол разрисован мелом — от часов к часам шли ровные линии, пересекаясь в подобие звезды. Бернацони бережно поставил свой шар в точку, где встречались они все. Потом осторожно опустил в стеклянный шар небольшой полумесяц из серебра, похожий на серп русалки.
— Пока часы повернуты от нас, здесь, в середине — самое безопасное место. И не шевелитесь, пока часы не смолкнут.
Лекарь стоял, побледневший и суровый. Энрике торопливо что-то засовывал в уши, бормоча молитвы. Анету начало колотить от предчувствия опасности… Она понимала, что сейчас станет свидетелем могучего колдовства. Не погубит ли это ее душу? Кого, из каких бездн вызывает на помощь лекарь? Бернацони, видимо, понял ее опасения:
— Выкинь из головы все мысли о колдовстве, маленькая дикарка… Это всего лишь оружие… Правда, мощное, смертельное оружие… Страшнее, чем греческий огонь. Потому что бьет не по телах — по умах. И не разбирает, кто — враг, кто — друг.
— Так все-таки из-за тебя — хоровод смерти? Ты уничтожил наш город? — закричала в ужасе Анета.
— Я сделал то, что должен был сделать… — спокойно ответил Бернацони. — Голос моих часов может только поторопить тех, кого ненависть или страх привели на грань безумия. Тысячи людей тонут… Кого-то из них столкнули в воду… Кто-то из тех, кого столкнули, не умел плавать. Человек может лишь немного, на полшага, помогать Божьей воли. Я тоже помогаю Божьей воле. Тихо! Начинается! Приветствую тебя, госпожа Смерть!
Ангел с темным деревянным лицом на одних часах поднес к губам позолоченную трубу, серебряные облака за ним шевельнулись.
Звонкие заунывные удары… Вторые часы… Третьи… Удары, как будто и не очень громкие – колокол на церковной колокольне бил куда сильнее — словно сыпались в один железный сундук. Анете показалось, будто все вокруг нее мелко дрожит, на какой-то момент она перестала слышать — только это мелкое дрожание да удары собственного сердца. Хотела двинуться, убежать — но тело словно попало в густой мед.
— Господи, спаси! Пресвятая Богородица, помоги! Святой Юрий, по-мо-ги! Святой Юрий, ис-це-ли!
Анета осознала, что ее губы снова начинают выкрикивать молитву безумного хоровода. Руки заледенели – словно за них снова ухватились сумасшедшие-смертники… Вдруг серебряный серп в стеклянной сфере шевельнулся и подвинулся вправо. Еще, еще… Медленно, потом все быстрее завертелся, словно щепка попала в водоворот. Глаза Бернацони горели победой отчаяния – лекарь торжествовал, как раненый воин, к которому подошли, чтобы взять в плен, а он в последний момент обманул врагов — загнал себе под ребра осколок, казалось, уже бесполезного, бессильного меча…
Вот очередь дошла до последних часов. Фигура смерти на них приподняла сложенные в молитве руки, будто готовилась ударить невидимым мечом в монеты, что были рассыпаны под ее ногами… Тридцать серебряных монет.
— Ане-ета!
Девушка упала на колени… Она сходит с ума!
— Анета! Это я, Богуш! Я привел войско освободить тебя! Где ты, Анета? Отзовись!
Голос звучал рядом, где-то в здании.
Это не сон… Волшебник обманул ее! На ратушу напали не враги, это идут свои, старовежцы! Богуш жив! Но теперь он сойдет с ума… С ним случится то, что с тысячами других…
С нее словно упали цепи. Девушка молниеносно бросилась к сфере, в которой вращался серебряный полумесяц, подняла и с силой бросила ее о каменный пол. Осколки брызнули серебряным дождем. Лекарь гневно закричал, но Анета уже бежала по коридору ратуши, выкрикивая имя, которое не осмеливалась повторять даже в мыслях, чтобы не бередить боль.
Она подбежала к винтовой лестнице, снизу по ступенькам порывисто взбежал рыцарь… Ее рыцарь… Он схватил ее в объятия. На секунду для них перестало существовать все.
— Я знал, что ты жива… Что я освобожу тебя… Никакие чары нас не остановят. Ты знаешь, минуту назад мне показалось, что настала огненная ночь! Я даже забыл, кто я…
За спиной рыцаря нависли тени. Анета испуганно отшатнулась.
— Богуш! Карачунцы!
Рыцарь погладил девушку по золотым волосам рукой, на которой запеклась чужая кровь.
— Не бойся, они — наши союзники.
Анета с недоумением смотрела на бородатых людей в островерхих шлемах.
— Союзники? Так это — твое войско, Радчиц?
Богуслав нахмурился.
— Не хуже других. Старовежцев осталось мало… И не все, кто выжил, сохранили мужество воина. Почему бы карачунцам не помочь нам изгнать войско Великого князя? А ты похудела, любимая… Измучилась… Покажи, где лекарь! Я убью его!
Анета смотрела на Богуслава, и боль разрывала ее сердце.
— Богуш, погоди! Кому будет принадлежать город после того, как твои союзники прогонят княжескую армию?
Богуслав нахмурился.
— И ты, как твой отец… После будем думать. Главное — победить! Где лекарь?
— Пан Радчиц! Его дьявольские ящики — там, в зале!–отозвался один из воинов. — А лекарь, видно, сбежал.
— Найдем подлеца. Пошли, Анета…
Богуш ласково положил руку ей на плечо. Но девушка в ужасе смотрела на одного из чужаков, который засовывал за пояс отобранный у кого-то меч, украшенный диамантами, большими, как глаза серны… Анета рассмотрела выбитый на острие рисунок — всадник… Герб Старовежска… Что творится в ее городе! Добро и зло перемешиваются в страшном водовороте времени, но все-таки не становятся одним, как не становятся одним вода и воск. Великий князь прислал лекаря с его дьявольским машинами, чтобы тот помог привести город к покорности… Богуш привел карачунцев, чтобы изгнать лекаря… Кто-то из старовежцев стал на сторону Богуша, другие, видно, бьются рядом с воинами Великого князя против карачунцев… И в результате — свои убивают своих. Неужели это из-за нее, Анеты? Господи, как понять, где — правда?
И девушка вдруг оттолкнула своего жениха и бросилась вниз по лестнице. В этот миг с площади донесся мощный крик:
— Святой Юрий! Бей, бей! Святой Юрий!
Армия Великого князя вышла из засады.
— Из башни никого не выпускать! — кричал голос Лаврентия Рожи. — Изменников и колдунов не жалеть!
Над Старовежском снова полз горький дым, как будто он никогда уже не уйдет из этого города.
……………………..
Я съездила к матери — наконец могла позволить себе приличные гостинцы. И хотя бесплатные лекции о том, как нужно жить, и за кого мне лучше выйти замуж, были хуже, чем прежние лекции политической экономики, но при каждом взгляде на поседевшие мамины волосы у меня сжималось сердце от неисправимого чувства вины, и я откладывала отъезд. Может, и правда — бросить тот город, где я так и не научилась выживать, перебраться сюда, попроситься в районную газету…
Нет, невыносимо вернуться неудачницей. Да и мать сама по-прежнему имела планы относительно переезда — сколько себя помню, еще бабушка была жива, длилась игра в обмен нашей квартирки в одиноком двухэтажном панельном доме среди картофельных “соток”… Искались по объявлениям варианты. Да не в столице или каком областном городе — а поэкзотичней… Например, в молдавском Тирасполе, или в украинском Николаеве. Дело заканчивалось маминой поездкой — посмотреть квартиру. Но на месте непременно обнаруживался какой-то недостаток — рядом заводская труба, или аэропорт, или дом криво сооружен… Я догадывалась, что мы никогда никуда не переедем. Но у нас всегда была надежда на Великие Перемены в жизни.
Может, поэтому я и не люблю сейчас никакого планирования.
После того, как бывшая одноклассница пришла ко мне с бутылкой “чернила” восстановить прежнюю дружбу и продемонстрировала в приветливой улыбке золотой зуб, и начала рассказывать о побоях мужа, и как на танцах в клубе пырнули Анькиному парню под ребра шилом, я решила, что время съезжать…
И в очередной раз дала себе слово — найти хорошую работу, приобрести в Минске большую квартиру, перевезти туда маму…
И уже когда мы ждали автобус на остановке под перекошенной, поржавевший вывеской, на которой еще красовались останки прошлогодней листовки с кусочком глянцевой физиономии районного кандидата в депутаты, — одна улыбка, как от Чеширского кота, — мать сказала:
— Ты, видно, влюбилась…
Я растерялась. Почему она так решила?
— Не перечь, разве я не вижу… Влюбилась по уши. И, как всегда, неудачно. Да плюнь ты на него, кто бы он ни был! Найдешь лучшего. А то вздыхает, переживает… Жалко смотреть.
Я начала возмущенно объяснять, что все не так, но, лязгая ржавыми боками, подошел автобус.
А вечером позвонил Юрась. Весь встревоженный — где я делась? Было неудобно — я же забыла про его бумажку со старонемецким текстом. Ничего, завтра же переведу… О том, что происходит в Людвисарово, из Юрася оказалось вытащить так же легко, как отобрать у ройтвеллера свою перчатку. “Нормально”, “Работаю” — и все…
— Послушай, а в какой больнице лежит Стелла? Может, навестить?
Юрась, кажется, обрадовался и разволновался от моих слов — чудак, не мог сам попросить. Название клиники я слышала в какой-то рекламе — “Медсервисцентр “Гиппократ”. Здание на окраине, возле недавно основанной “резервации для богатых” — поселка шикарных коттеджей.
Из трубки уже минуты три пищали сигналы, будто вся телефонная сеть пыталась докричаться до моего сознания. Но сознание была замкнуто на философском вопросе, спровоцированном маминым “прогнозом” о моем эмоциональном состоянии: “Чем являются мои чувства к Юрасю?”. Винегрет исключительный: жалость, интерес, некоторая ревность (да, да, признайся же), раздражение, тревога… Бог знает, что еще. Только не любовь! Нет, никак не любовь! Как там у Стендаля: период кристаллизации, голая ветка, опущенная в соляной раствор, обрастает чудесными украшениями… Так должно происходить с образом любимого. Поскольку я Юрася не кристаллизую, нет непреодолимого желания бежать к нему, быть рядом, то…
Просто больное воображение — мне все чудится, будто он топится в каком-то болоте… Сам же туда вскочил. Да еще меня тянул…
Да какое мне дело до чужого мужа? Жила как-то без него одиннадцать лет, и почти не вспоминала.
А тут еще позвонил бывший однокурсник, который сейчас работал в заброшенной белорусской газетке, и предложил работу… Видимо, дела у них были совсем плохи — ведь меня предполагалось заманить на должность не рядового журналиста, а сразу — ответственного секретаря. Зарплата небольшая…
— Зато все произведения твои напечатаем! — горячо обещал однокурсник. — Сделаем из тебя известную писательницу! Пользуйся моментом…
Бедная литература, когда писателей можно делать из такого… материала. А видимо, делают.
Но я обещала подумать.
А пока поехала проведать “звездочку”-Стеллу. Здание клиники все в черных зеркальных стеклах, как будто вход в другое измерение. Казалось, через это стекло можно пройти, как через переливчатую, упругую пленку, и оказаться в мире, где нет настоящей боли… Но в этих стенах царила боль. Боль и страх пропитали светлые чистенькие коридоры, источались из галогенных светильников, выползали невидимыми слизняками из палат, оснащенных по последнему слову…
К Стелле Домогурской меня не пустили. Реанимация, тяжелое состояние… Пост номер четыре. Но я представила, что мне не о чем будет рассказать взволнованному Юрасю, кроме сухих слов регистраторши… И пятьдесят долларов вдовы Баркуна нашли себе лучшую хозяйку. Я всегда удивляюсь — как у меня просыпаются деловые способности, когда нужно решить чужое дело… И насколько я растерянно чувствую себя, когда нужно решить свое. Как-то на первом курсе мы с подругой со странным именем Пелагея стояли в очереди за какой-то косметикой — я еще застала эпоху очередей. Желающих было как мака, начали поговаривать, что на всех не хватит…
— А ты помолись, попроси Бога, чтобы тебе хватило туши и помады! — искренне посоветовала Пелагея. — Я всегда так делаю…
Я представила, как обращаюсь к Господу с просьбой о помаде… И мне стало так стыдно! Ну, здоровья просить… Терпения… Мудрости… А то — упаковку иностранной помады! И вообще, ради такой недостойной вещи я теряю свое время, злюсь, бросаю тень на душу… Короче, ушла я из очереди. Так и живу… Очереди минуя.
Молоденькая медсестра, соблазненная моей полусотней, дала мне белый халат и шапочку и даже заставила нацепить марлевую повязку. В коридоре я осознала, чем все-таки отличается частная клиника от государственной. Не чистотой и оборудованием, а… запахом. Видимо, здесь специально применяли ароматные моющие средства, потому что в коридоре пахло сосной. Я вспомнила свои пребывания в больнице, огромные кожаные туфли, похожие на раздавленных черепах, с написанным масляной краской номером отделения… Фланелевый халатик “экономического цвета”… Вонь хлорки и больничной еды… Фу.
— Ну вот, пост номер четыре…– прошептала мне моя спутница. — Заходить ни в коем случае нельзя. Туда, кроме главного врача и медсестры, прикрепленной к посту, никого не пускают. Посмотрите вот через стекло на вашу родственницу… И пошли, пока никто не заметил.
Стелла лежала на кровати, похожей на приспособление для пыток. Антураж был соответствующий… Сюрреалистический. Трубки, по которым в вены переливалась какая-то прозрачная жидкость… Страшная “гармошка”, похожая на чудовищно разросшуюся детскую игрушку, ритмично сжималась и разжималась, от нее шел резиновый шланг к маске, что закрывала лицо больной… Искусственные легкие, догадалась я. Сбоку на экране бежали ломаные линии.
…Черные волосы, разбросанные по подушке, оставил ветерок… Но больше всего меня поразила рука Стеллы, в которую была воткнута иголка капельницы. Кожа пожелтевшая, а пальцы даже с синевой. Ногти почернели…
— Кома,– прошептала медсестра. — Такие, бывает, годами лежат. Один наш доктор считает, что они все слышат, заставляет говорить, как будто они в сознании. А зачем? — медсестра скривила симпатичное личико, на минуту уподобившись мультяшному кролику. — Таких больных знаете, как персонал называет? “Овощи!”.
Что ж, я помочь ничем не могу.
Внизу, в коридоре, что выходил в вестибюль, я присела в самом темном углу, чтобы немного успокоиться и подождать медсестричку, которая, видимо, чувствовала, что не полностью отработала свой гонорар и предложила принести мне полезные брошюрки о наркомании и ее последствиях, коматозных состояниях и подобных скучных вещах.
В коридорах не было многолюдно, но чувствовалась привычная рабочая суета. Вдали мелькали фигуры в белых халатах, что-то постукивало.
— Тебя что, на четвертый пост назначают, Катерина? — послышались тихие голоса из-за приоткрытых дверей рядом, за которыми лилась вода и лязгали неизвестные устройства.
— Нет, на пятый.
— А-а, тогда хорошо…
— А что такое?
— На четвертом неладно…
— Больная совсем безнадежная?
— Да уж… Безнадежнее не бывает, — голос понизился до шепота. — Мертвая она.
— Что?!!
— Тихо… Точно говорю — труп привезли из больницы скорой помощи. Красивая такая девушка, с черными волосами. Наркоманка, от передозировки загнулась. Формалин ей в вены накачали. А электроника с соседним боксом спаренная.
— И зачем это?
— А ты меньше спрашивай… Кому-то нужно, чтобы эта девица считалась живой. И у меня сильные подозрения, что нужно это человечку не последнему в нашем паскудном свете. Кто на четвертом посту сидит — тройная оплата. За молчание. Но я вот что скажу — не надо мне дармовых денег, лучше в гнилые дела не лезть. Так что будут предлагать на четвертый — откручивайся. Только виду не подавай, будто что-то знаешь. А то и в нашей клинике не спасут.
— А ты откуда узнала?
— Антоновна, дай ей Бог здоровья, предупредила.
В коридоре послышались легкие шаги моего проводника по медицинскому аду, воплощенного в лице симпатичной медсестрички.
В моей любимой крохотной кафешке, похожей на шкатулку для жемчуга, вместо жемчужин находилось несколько высоких стульев, барная стойка, телевизор под потолком и бармен Женя, который прекрасно готовил кофе по-турецки. Женя даже “косил” под турка, по-пиратски повязывая голову красным платком и надевая рубашки с пальмами. Но от этого бармен — добродушная полноватая физиономия, ресницы светлые, словно выгорели, — напоминал английского пивовара. Джек Ячменное Зерно.
Здесь был уютный полумрак, спиртное не продавалось, а бармен признавал только латиноамериканскую музыку (хотя логичнее было бы — турецкую), и телевизор на полную громкость не включал. “Ай-йа-рррыба-йа-ррыба… Йо но сой маринеро, сой капитан…”. «Я не моряк, я капитан» — утверждал неизвестный латинос, совпадая в стремлении соответствовать своей выдуманной, приснившейся Персоне со всем нашим грешным миром… Только такие неудачники, как я, могут тосковать об обратном, отказываясь от лишней ответственности.
Как я и надеялась, в кафе, кроме меня, не было никого. По телевизору шел какой-то бразильский сериал, перебивая задушевными диалогами браваду самозваного капитана. Я невнимательно поглядывала на экран, где очередная Анна-Мария выясняла с очередным Марком-Антонием, что с ними было до потери памяти, и кто подменил их ребенка, и где настоящее завещание богатого дяди-плантатора. Я пила свой кофе, крепкий, словно кровь дракона, смотрела на шероховатую, стилизованную под старую древесину, стену и пыталась успокоиться. Но на глаза все время наворачивались слезы. Я вспоминала, как тонкие руки художницы реяли над картиной, которая высвобождала свои краски из первозданного белого хаоса. Как я вела почти бессознательную Стеллу из душа, а потом она мне рассказывала про картины Рерихов. И как она рисовала на теле Юрася сказочные узоры, словно хотела превратить его в сказочного героя, Юрась целовал ее, а я, незамеченная, наблюдала и страшно ревновала… Бедная Стелла… А еще в груди моей шевелился холодный страх. Я, кажется, могла ответить на вопрос из разговора медсестер — зачем скрывали, что Стелла умерла. Чтобы Юрась продолжал думать, что жену нужно спасать, и продолжал работу над дьявольским часами. Время от времени привезут его, покажут зрелище за стеклянной перегородкой… Неужели мой бывший муж такой “незаменимый кадр”? Я вспомнила слова Колыванова о том, что “нашим самородкам все иностранные в подметки не годятся». Что ж, возможно, Юрась был для хозяев чем-то вроде бабки-знахарки, к которой обращаются после того, как дипломированные врачи оказались бессильны. Я сообщу ему о Стелле… Он, конечно, сразу бросит работу и начнет горевать. Да еще разборки с хозяевами устроит. Но я не думаю, что люди, которые способны на подобные “инсценировки”, его так просто отпустят. Найдут другие “способы воздействия”. Выходит, лучше молчать…
“Вы еще кипятите белье? Значит, мы идем к вам! “–оптимистично заверещал телевизор.
По российской программе начались новости. “Олигарх Петр Колыванов баллотируется на пост губернатора”, — объявил диктор в приятных интеллигентских очках с тонкой оправой, за которыми прятались маленькие недобрые глаза. — “Колыванов — известный меценат, в его предвыборной программе много внимания уделено социальным проблемам. Но его противник, известный писатель Василий Засенин, по предварительным опросам, пользуется у населения области намного большей популярностью”. Колыванов улыбался на открытии какой-то благотворительной больницы, его соперник произносил что-то про великую русскую нацию перед кучкой очень серьезных людей рабочего вида.
Меня передернуло. Меценаты… Коллекционеры… И еще в Беларуси кусок ухватить хотят. А Стелла лежит под страшными аппаратами, и душа ее беспризорная, может, бьется в белые стены медицинской клиники, как заблудившаяся бабочка…
Почему столько возни вокруг старых часов? Неужели их средневековые тайны чего-то стоят сегодня? Из-за чего страдает Юрась? Я чувствовала, что разгадка от меня близко, буквально под носом. Я закрыла глаза и постаралась вспомнить свои сны, в которых часто являлись часы. Всплывали какие-то отрывочные картинки. Часы стоят в кругу… Лекарь говорит: “Это оружие”… Может, зря я не прислушалась к совету психотерапевта Макса и не записала своих снов? А в реальной жизни нужно было бы еще поискать документы…
А письмо, что попросил меня перевести Юрась! Как я могла забыть! Немедленно разыскать мою бывшую преподавательницу Галину Степановну…
Когда я прощалась с барменом, тот подарил мне соболезнующий взгляд.
— Что, мадам, “продинамили” вас? Не грустите, такая красавица не должна скучать. Любовь должна приносить удовольствие обоим, иначе она не стоит чашечки кофе.
Я сердито хлопнула дверью кафе. Какое ему дело…
Галина Степановна, как и когда-то, по-европейски подтянутая, в старомодных сарафане и блузке, с короткой стрижкой, только еще более поседевшая, встретила меня строго.
— Рада видеть вас, Анна Ивановна. Давно не заходили. Лет… восемь, наверное?
Взгляд сквозь очки был слишком официальный. Галина Степановна имела право сердиться. В свое время я целый год ходила на ее курсы, а попасть туда было нелегко. Галина Степановна — переводческий “ас”, часто ездила за границу, занималась художественным переводом. Я оказалась способной ученицей, и благодаря Галине Степановне участвовала в конкурсе и оказалась на студенческих курсах в маленьком немецком городке под Берлином. Год в Германии мог стать определяющим для всей моей жизни… Но я вернулась, нырнула в журналистику и про Германию забыла.
Увидев письмо, Галина Степановна смягчилась. Все-таки профессиональный интерес.
— Любопытный документ. Чрезвычайно любопытный. Кстати, скопирован с оригинала, который хранится в Берлинском историческом архиве. Узнаю уголок их штампа. Говорите, работаете над книгой? Прекрасно… Но боюсь, что точно перевести мне будет трудно. Пятнадцатый век, диалект…
Я упросила Галину Степановну, как могла, попытаться перевести сейчас же, ну хоть отчасти… Даже сделала попытку предложить гонорар — но моя бывшая преподавательница только бросила на меня суровый взгляд и начала снимать с полок словари… Видно, что-то в моем виде свидетельствовало о “деле жизни и смерти”.
Где-то через час на листке бумаги был записан текст, испещренный многочисленными вопросами и поданными в скобках вариантами слов.
— Чем так переводить, то лучше не браться… — возмущалась Галина Степановна. — Это абсолютно непрофессионально! — Бывшая преподавательница не стала менее требовательной к себе. Но прочитала, что получилось.
“Его Высочеству курфюсту Фридриху Нюрнбергскому… Достойны величайшего восторга дела (действия?) Вашей светлости… и жалости усилия (преступления? поступки?) ваших врагов… Я, доктор Бернацони, который окончил Падуанскую академию с высшими одобрениями профессоров, сведущий в лекарских науках, и науке читать (предсказывать?) звезды, и в механике, способный делать всякие механизмы и трюки (?)… ради пользы светлейших лиц… нахожусь в нужде и упадке, невинно преследуемый гонителями и клеветниками… владею, по Божией милости, секретом, как мудрому защититься от многочисленных врагов, приводя их в безумие, сужденное им их грехами (судьбой?)… Если Его высочество курфюст даст согласие выделить мне ежегодное содержание в двести дукатов, и пожертвует ради изготовления (создания?) моих дивных механизмов еще три тысячи дукатов, через два года я буду иметь честь показать, как действуют (ходят?) мои машины, которые начнут отсчитывать время смерти для врагов Его Высочества… Машины сии много чудес (творят?). Какой бы сосуд, стеклянный или фарфоровый не поставить в их круг, он будет разбит их голосом. И так будет со злыми намерениями. Я подарю моему господину власть над тысячами (язычников?), и никто не сможет зайти в замок, где будут работать мои машины, так как его будет тянуть к себе… (танец? хоровод?) Остаюсь в ожидании Вашего всемилостивейшего решения.
Гервасий Луиджи Бернацони, доктор”.
— А это достаточно типичный текст для того времени, — задумчиво прокомментировала Галина Степановна. Заметив мое недоумение, объяснила: — Таких изобретателей в Европе хватало при каждом дворе… Леонардо да Винчи на работу нанимался, также добавлял “пресс-релиз”: “У меня есть планы мостов, очень легких и прочных, весьма пригодных к переносу… Я нашел способы, как разрушить любую крепость или другое укрепление, если, оно, конечно, не возведено на скале… У меня есть чертежи для изготовления орудий, очень удобных и легких в транспортировке, с помощью которых можно разбрасывать маленькие камни подобно граду… Я могу создать катапульту, баллисту или иную машину удивительной мощи… ” и так далее. Предлагал своеобразные прообразы танков, вертолетов, подводных лодок.
— И что, Леонардо правда все это делал? — спросила я.
— Ни один властитель ему не поверил. И автору этого письма, я думаю, отказали…
На прощание Галина Степановна вручила мне новую программку своих курсов.
— Хоть на встречу с немецкими поэтами придите… Когда-то же интересовались.
И, вздохнув, нарушила европейскую этику не лезть в чужие частные дела.
— Такой серьезной девушкой вы были, Анна. Понимаю, молодость, эмоции, чувства… Но голову терять нельзя. Если, конечно, в ней все-таки присутствует некий интеллект.
Мою встревоженность, похоже, за версту видно…
Тем более полученные сведения покоя не добавили.
А вечером позвонил Юрась.
— Ну как там Стелла?
Я собралась с духом и дала совершенно правдивый ответ.
— Похоже, она в таком же состоянии, что и была…
Юрась помолчал и задал второй, не менее кризисный, вопрос.
— А письмо ты перевела?
Мне снова пришлось напрягаться.
— Перевела… Но я бы хотела рассказать об этом при личной встрече.
Юрась снова промолчал, но когда заговорил, голос его звучал совершенно спокойно.
— А я бы не хотел, чтобы ты снова сталкивалась с этими людьми.
Я заверила, что должна сказать нечто важное.
— Ну, разве на нейтральной территории? — неуверенно произнес Юрась.– Назавтра я попросился поехать в Старовежск, посмотреть, как часы в ратуше располагались. Постараюсь там остаться один. Я не имею никакого права тебя беспокоить… Но если бы ты подъехала на утреннем автобусе… Там новая кофейня есть, напротив башни, с каким-то готическим названием…
— Я приеду.
Сказала — и сама удивилась.
Тайна выглядела опасно, словно ржавый испанский сапог. Как действовали часы Бернацони? Разбивали разум, словно стакан? Был в древней Мекке колокол, с помощью которого наказывали осужденных. Привязывали к столбу на площадке колокольни, раскачивали длинной веревкой язык колокола… На десятом ударе осужденный терял слух, на сотом — у него лилась из ушей кровь. Двести ударов — и человек навсегда превращался в “овощ”, как сказала бы медсестричка из клиники “Гиппократ”. А еще один колокол, в испанском местечке Гарда, называли “тарантеллой”. Ведь когда он звонил, всем хотелось приплясывать. У древних кельтов поэты-певцы, филиды, считались магами, даже с младенчества проходили двенадцатилетнее обучение в закрытых школах… Экзамен на звание мастера — исполнить три песни: одну, от которой плачут, другую, от которой смеются, третью – которая усыпляет. Была и специальная песня-проклятие, гламдиккин. Кому ее споют — у того на лице появляются три разноцветные болячки: позора, стыда и унижения. А дальше — смерть…
Я снова и снова пыталась вспомнить что-то из своих снов. Ясно же, что мое подсознание в “сумеречном состоянии” более успешно разгадывало загадки. Как будто я и черный лекарь стояли в центре круга… Но это, пожалуй, все, что мне удалось вспомнить.
…………….
…Анета смотрит сквозь ржавую решетку на великокняжеский суд, и ей кажется, что это не она замкнута в клетку, а господа судьи, а она просто приблизилась, чтобы рассмотреть их… Епископ положил руку на сердце, будто молится… А может, слушает, есть ли оно у него, сердце? Войт Лаврентий Рожа сидит такой мрачный, словно его назначили управлять кладбищем. Зато сотник Баркун победно поглядывает вокруг, не убирая руки с рукояти меча, словно ждет нападения. Возможно, на этом мече — кровь старого Лескевича и молодого Радчица, смешанная с кровью чужаков…
— Я буду свидетельствовать против тебя, — темное лицо Марцели — рядом, по ту сторону решетки. Анета вздрагивает — не впервые ли она слышит, как Марцеля разговаривает? Девушка долгое время думала, что старуха — немая.
— Почему ты так со мной? — тихо произносит Анета. — Я не сделала тебе ничего плохого…
Марцеля смотрит на девушку почти безразлично — в ее глазах нет радости, как в глазах хозяйки, что выпалывает красивые васильки со своей нивы. Только убеждение, что так надо делать.
— Ваш род должен сгинуть.
— Почему?
Старуха некоторое время молча шевелит узкими губами, как будто слова прилипли к ним.
— Я была жрицей.
— Что? — Анета еще не утратила способности удивляться.
Марцеля жестоко кривит губы.
— Наше капище было за две версты отсюда. И молодой Лескевич приносил Ляле голубей, и молодых овец, и другие подарки, которые полагается дарить богини любви. Лель его звали… Лель голубоглазый…
Анета догадывается, о каких дарах говорит Марцеля, и не может представить отца рядом с обнаженной молодой девушкой — возможно, этой же Марцелей, — а вокруг пляшет хоровод, и играет бешеная музыка, и гудят обтянутые волчьей кожей барабаны… Нет, это невозможно… Отец — искренний христианин…
— Его завлекла твоя мать. Он принял крещение и продал старых богов. И привел на наше капище, о котором знали только избранные, христианских воинов… Я была совсем девочкой, и меня пожалели. Окрестили… Дали другое имя… И Лескевич взял меня в свой дом прислугой. А я была жрицей! Я служила только богам!
Лицо женщины исказилось ненавистью. Анета осознала, что Марцеля не такая уж старая… А та продолжала шептать, словно прошлогодний тростник шевелился от северного ветра.
— Боги не простят. Они наказали твою мать… Они — не я, так как их воля проявляется в снадобьях, насыщает их живительной или смертельной силой. Я могла легко погасить и твою слабенькую жизнь — но воли богов на это не было. Я ушла из вашего дома подальше от искушения. А сейчас — все будет завершено.
Марцеля положила руку на огромный крест, что висел на ее высохшей груди.
— Сегодня я для всех — истинная христианка, а ты — ведьма! Запомни же мое настоящее имя — и повторяй его, когда будешь умирать долго и мучительно: Марена! Я — Марена!
Одержимую девицу войт хотел отправить в монастырь. Но епископ возразил. Он приехал оттуда, где с колдунами разговаривали только на языке огня и железа. В зале войтова дома, без белой розы над входом, совсем не было видно старовежцев, которые знали бы Анету и заступились. Те, что уцелели от чумы и безумия, и не пошли на башню вместе с карачунцами, теперь сидели по домам, благодаря Господа за чудо, за подаренные годы в этом не лучшем из миров, но не страшнейшем, чем смерть. Между худшим и еще худшим всегда появляется крохотная светлая полоска выбора, которая позволяет примириться с собой и миром. Не нашлось рыцаря, который бы пошел ради колдуньи на Божий суд — на ристалище до смертельного исхода…
Но присутствующие были литвинами, а в их обычаях не значилось жаркое из человечины. Пусть приедет из Новогрудка митрополит, он и рассудит… Епископ понял, что лучше уступить. Но не в том, что служанка сатаны останется жить и осквернять своим дыханием Божий свет. Как без очищающего огня привести грешную душу на суд к Господу?
Княжеский шут Корейва предложил другое… Замуровать ведьму вместе с дьявольскими часами в башне. Некоторые говорили — лучше было бы девке просто отрубить голову и похоронить отдельно от тела, чтобы не перекинулась мертвая колдунья в вурдалака.
Башня послужила орудием лукавого. Беглый лекарь превратил почтенную ратушу в гнездо злой силы, в самих стенах поселил свое волшебство — не очистить. Кто из добрых христиан осмелится рисковать там своей вечной душой? Проклятая башня… Над ней больше не развевался флаг вольного города, закрытые ставнями окна запечатали знаками святого креста. Двери заложили кирпичами и тоже начертили кресты. Никто больше, кроме ночных теней, не должен был заходить сюда, где в подземельях спали дьявольские часы Бернацони, а рядом — замурованная заживо молодая золотоволосая колдунья.
Тьма… Окропи мя иссопом, и очищуся… Тишина…
Смерть, так долго ты бежала за мной… Теперь, когда ты не пугало, а желанная гостья, сидишь поодаль, не спешишь, и даже в отсутствии света я вижу твою улыбку.
Если долго всматриваться в темноту, в ней начинают шевелиться серые змеи… Золотистые змеи… Красные змеи… Змеиный клубок, похожий на тот, на Клескуновом празднике. Кажется, будто отблески адского огня попадают сюда. Вот эти отблески все ярче… Ярче… Как будто в каменную яму поднимается самое пекло…
Из колодца высунулась рука, держащая факел. Потом показалось уродливое насмешливое лицо. Княжеский шут Корейва ловко выскочил из каменной ямы.
— Ну, как, легче ли было умирать второй раз, Ядерка?
Анета, которая сидела, скорчившись, на холодном полу, произнесла, как во сне:
— Я не знаю, умерла ли я… Жива ли…
— Хе-хе-хе! – затрясся шут от невеселого смеха.– Что есть жизнь, и что есть смерть? Хвост и голова одной змеи. Я тоже когда-то умер для людей. Когда умираешь для мира — приобретаешь свободу, Ядерка. Поэтому выбирай. Я могу отвезти тебя в Краков. Некому узнать тебя, ты возьмешь новое имя, станешь свободной и богатой и забудешь о хороводах смерти. В моих силах сделать это для тебя — в память о моей собственной потерянной любви. Есть и второй путь — воскреснуть в Господе… Если захочешь, я отвезу тебя в монастырь, Анета, как ты когда-то просила.
Девушка медленно поднялась.
— Я выбираю путь к Господу.
Прощай, Старовежск, славный вольный город… Тебя больше нет… И меня нет.
Я никогда не вернусь сюда.
………………..
Ратуша с яркой красной крышей стояла посреди припорошенной снегом площади, как на рождественской открытке, и казалось, будто из здания сейчас выйдут “краснолюдки”, гномы в красных шапочках и весело запоют на тирольский манер…
Но у башни остановились три “иномарки”, торжественные, словно шелковый цилиндр и фрак лорда викторианской эпохи – ни царапинки на блестящей поверхности, держись на расстоянии, плебей. И действительно — у соблазнительных машин не крутилась даже вездесущая старовежская детвора. Я стояла на крыльце недавно возведенного кафе, одного из тех, что должны были обслуживать будущие толпы туристов, и из-за облицованной серым камнем колонны наблюдала за гостями, что направлялись в башню. Колыванов вел под ручку вдову Баркуна, закутанную в черный мех, отделанный белыми хвостиками не знаю уж какой зверушки. Квадратный Янчин, как всегда, энергично размахивал руками, и даже издали был слышен его низкий голос. Элегантный Макс в белой дублёнке… Конечно, были и охранники вельможных лиц, все те же Игорь и Анатолий. Их род занятий был понятен даже тому, кто первый раз их видел, как сразу узнается смертельное назначение оружия. А вот и Юрась… В невзрачной куртке с поднятым воротником, в светлой вязаной шапке… Совсем иной среди компании. Опасно иной. У меня защемило в груди. Юрась задержался перед входом в башню, осмотрел площадь… Меня он увидеть не мог, но показалось, что его взгляд остановился там, где была я.
А городок будто вымер. Никто не прокладывал следа по белому покрову, словно боялся оскорбить его чистоту. Над крышами поднимались ровненько в серое небо столбы дыма, и его неповторимый запах возвращал в местечковое детство.
А я не любила свое детство. Оно лишь считается “золотой порой”. Может, у кого так и есть … Но на самом деле дети — существа такие жестокие, что порой навсегда лишают друг друга самого главного, что нужно для счастья — чувства защищенности и самоуважения. Поэтому я придушила ностальгию, развернулась и дернула дверь под вывеской с нарисованным копьем. На копье, как бабочка на булавку, было насажено чье сердце, а под ней красовалась надпись готическими буквами: “Верный Рыцарь”.
Страна безжалостных дам.
В кафе тоже никого. Интерьер типичен: обшитые темным деревом стены, зеркала, полумрак… При желании я могла представить, что снова оказалась в моей любимой минской кафешке. Только бармен худее Женька-пирата и без платка на голове, вместо латиноамериканских ритмов наглые старлетки выводили “Ой, люли мои люли …”, а посетителей ждало несколько деревянных столиков с кружевными скатертями и искусственными фиалками в белых пластиковых вазочках. Да еще — заявка на европейскость — свечи в стеклянных круглых подсвечниках. Бармен даже не поленился зажечь свечу на моем столике… Видно, соскучился в одиночестве и без дела. Я заказала сразу две чашки кофе и уселась так, чтобы наблюдать через окно за башней. Наконец дверь под разноцветным блестящим гербом отворилась… Одна из фигур отделилась от группы и направилась в кафе. Остальные сели в машины и уехали. Юрась шел сюда.
— Спасибо, Анета, что приехала… Я того не стою, — Юрась приветливо улыбался, но я просто физически ощутила, какой он внутренне напряженный. Лицо осунулось от тревоги, между прямых бровей появилась упрямая морщинка, взгляд синих глаз жесткий и какой-то отчаянный… Как у камикадзе. Ну и сравнения лезут в голову…
Огненный карлик в стеклянном подсвечнике озорно подпрыгивал, словно пытался выскочить из своего воскового и стеклянного плена и вызвать на помощь целое огненное войско. Я молча положила на столик письмо Бернацони и листок с переводом. Юрась так же молча прочитал. Лицо его было каменное. Меня даже задело — разве не удивился? Но в любом случае мой бывший муж решил не проявлять свои чувства. Он протянул мне обратно бумажки.
— Спрячь и забудь.
Это что, я зря беспокоила Галину Степановну?
— Послушай, мне и так наша встреча напоминает встречу Штирлица с супругой в кафе “Элефант”, не хватает только соответствующей музыки.
— Кстати, о женах…– как-то неестественно легко проговорил Юрась, не обратив внимания на мое возмущение.– Как там Стелла?
Боже, что делать? Я так и не решила, как будет мудрее… Смолчать? Намекнуть на правду? Мое неопределенное мычание Юрась расценил, как плохие новости о здоровье жены.
— Надо мне поскорее отсюда выбираться. Самому проследить, как там и что… – высказался реставратор. — Но теперь вот — топчусь на месте… Я чувствую, где какое колесо было, как натягивались веревки… Там — царапинка, там – темное пятнышко… Фигурка наклонена… Все равно как изображение по фрагментам дорисовываю. Но хозяева не удовлетворятся, пока эти проклятые часы не начнут разбивать стаканы, как пьяный официант. Что-то уже получается… Резонанс сильный. Да не хватает чего-то, что должно было объединять все часы. Они очень геометрически выверены, детали находятся на определенных линиях пространства, пересекаются, требуют очередности… Мне осталось совсем немного, чтобы отгадать загадку… А сейчас не знаю, имею ли право ее раскрывать? А вдруг часы действительно — опасное оружие?
Я задумалась. Стоит ли придавать такое значение секрету лекаря? Это всего лишь легенды. Колдуны тех времен, натершись аконитовой мазью, искренне верили, что летают…
Теперь огонек свечи был так слаб, что отражался в чашках едва заметной светлой точкой… Но иногда достаточно одной светлой точки, чтобы выйти на путь. У меня пока такой не было. Все казалось нереальным. Этот город, за свободу которого гибли поколения, возможно, и моих предков… В котором предки, выжившие в безжалостном времени, чахли, словно сухие травинки, не задетые косой, срезавшей рослые сочные стебли… Нереальным был сегодняшний холодный день — будто прислоняешься щекой к затянутому грязным инеем стеклу чужого окна… И эта кофейня, похожая на провинциальный альбом, в котором вырезанный из открытки рождественский зайчик соседствует с репродукцией Хруцкого… И человек напротив, тоскливый и напряженный, как рука воина на рукоятке меча… Вот закрою глаза, все исчезнет, и я проснусь в своей временной квартире с белыми в коричневые полосочки обоями, с копиями старинных гравюр…
— Ты сильно любишь Стеллу? — дурацкий женский вопрос, за который я сразу стала себя корить. Но Юрась, помолчав, ответил с горьким спокойствием.
— Всего было… И любви, и жалости… А главное, пожалуй — чувства вины…
Я не могла промолчать.
— Перестань, ну в чем твоя вина?
Юрась серьезно, тоскливо посмотрел на меня.
— Думаю, что не мог ни при каких обстоятельствах — а они иногда были, как кипяток, — бросить Стеллу, потому что помнил, что бросил тебя. Я должен был искупить грех… До сих пор не до конца понимаю, почему у нас с тобой так все получилось?
Я отвела глаза.
— Конечно, сказалось наше общее легкомыслие и юношеский эгоизм… Но, кроме того… Вспомни, кто были мы, когда познакомились? Я — девочка из провинциального городка, для которой огромная проблема, прости, купить колготки. Ты — “мальчик-мажор”, из столичной элитной семьи, богатый, стильный… Мог апельсинами пол засыпать. А я больше всего на свете ненавидела положение Золушки. Я же читала тебе свои стихи. “Ничего мне от сильных не надо, пусть играют в холодное царство…”. Короче, мы бедные, но гордые. А ты, по терминологии моей семьи, буржуй… Человек другого круга.
Мой бывший муж растерянно провел рукой по темным непослушным волосам — этот жест у него остался еще с того времени, когда носил длинные космы.
— Я об этом не задумывался… Ты ведь такая… независимая, красивая… Я к тебе подойти не решался.
— Подошел же…
Юрась опустил голову, будто собрался подставить ее под ритуальную горстку пепла.
— Боже, какой я идиот…
Я вздохнула.
— Давай уж по-честному — какие мы оба идиоты. И хватит ностальгии. Все эти Колывановы, конечно, сволочи, но не будем преувеличивать. Часы сегодня в качестве оружия — так, игрушки… Ну, будут хозяева развлекаться, пугать гостей. Не все же законченные сумасшедшие, как профессор. Сделай вид, что ни о чем не догадываешься, отремонтируй — и беги…
Юрась задумался.
— Слушай, ты знаешь, где живет краевед Колейко? Может, он расскажет подробности, как нашли часы…
Местечко в чем-то было похоже на то, в котором выросла я — так же разделялось на район старых домишек и “элитную зону”, где соорудили несколько двухэтажных “небоскребов”. Только имелось в Старовежске и то, чего в моем городке не хватало. Мой вырос полсотни лет назад для приюта нефтяников, которые работали на сейчас мертвом заводе — бетонные мумии труб, безглазые чудовища зданий, оскалившиеся ржавой арматурой… А тут история высвобождалась из-под земли камнями со старославянской вязью, остатками кирпичной ограды, мраморными ступенями, ведущими на заснеженный фундамент… Опыт сотен поколений словно отражался в лицах горожан, которых мы встречали по дороге, проступал из-под их черт простой мудростью времени. Мне даже показалось, что, родись я здесь, не стеснялась бы своего провинциального происхождения, не было бы у меня “отвращения глухомани”, которую описывал японец Акутагава. Когда на закате вдруг схватит тебя за горло невыразимая тоска, скрутит душу, как мокрый платок — и нужно сейчас же бежать отсюда туда, где настоящая жизнь, вырваться, стрясая с себя сонную тишину, перевитую дымком из труб, пересыпанную редким собачьим лаем. Когда далекий свисток поезда — все равно что пятно света наверху, которое видит утопающий. А здесь, в Старовежске, была самодостаточность, центр, пусть он врос в землю, как эта старая часовня, только верхний ярус с обломанным крестом темнеет над сугробами…
Извилистая речка разделяла город надвое, намыв за тысячи лет высокие откосы. Дом Петра Филипповича Колейко оказался где-то внизу, над речкой, к нему нужно было спускаться извилистой тропинкой. Мои каблуки коварно скользили, я лихорадочно хваталась за голые ветви лозняка, которые сиротливо торчали из-под снега. Юрась, который спускался впереди, робко протянул мне руку. Робко — потому что помнил, на какую отповедь мог нарваться. Это мои подруги, когда мы приехали в немецкий университетский городок, удивлялись, почему приставленные к нашей группе ребята-гиды не бросаются помогать иностранным девушкам нести тяжелые сумки, открывать двери… А я всегда знала, что нормальная феминистка такие знаки внимания считает оскорблением, подчеркнутым напоминанием о своей вторичности, как слабого пола. “Сама-сама-сама!”. Дура…
Юрась помог мне спуститься, бережно поддерживая на скользких местах. Но при этом смотрел куда-то вбок. И я знала, о ком — его мысли. И не осмеливалась что-то произнести, чувствуя вину, словно даже прикосновением к его руке отбираю что-то у покойной… Которая для него — жива. Отбираю, так как мне неожиданно приятно это случайное касание… Какая я негодяйка!
Мои экзистенциальные выкладки остались при мне, Юрась, конечно, ничего не заметил… Зато нас заметил Петр Филиппович Колейко. Он молча стоял за калиткой, умудряясь в своей телогрейке, огромных валенках и шапке-ушанке выглядеть истинным аристократом. Губы, по-стариковски блеклые, строго поджаты. Смотрит из-под нахмуренных седых бровей, как на каких-то оккупантов.
Не скоро оказались мы, не прощенные, но переведенные из статуса преступников в статус подозреваемых, в доме Петра Филипповича, где удостоились чести под недовольное тиканье “ходиков” с гирей-шишкой созерцать старые фотографии, на которых ратуша была еще в первозданном мрачном облике.
— Часы нашлись глубоко в подземных ходах…– рассказывал Колейко, раскладывая фотографии, словно пасьянс, на белой клеенке с изображениями коричневых самоваров и бубликов, застилавшей круглый старосветский стол. — Время было сложное. То немцы наступают, то белые, то большевики… Как стаи волчьи — пробегут, пообкусывают все, что можно… Сегодня одного ставят к стенке, его идейный враг радуется. Завтра вешают того, кто вчера радовался. И вот они, лежат рядом, на запаханном кладбище. Наконец поляки пришли, восточные окраины укреплять. Половина поселка окатоличено. По-польски пытаются “пшекать”, на православных соседей — с презрением: “Мужичье”. Вот поляки и начали башню обыскивать. Какой-то дурак донес, что там большевики оружие спрятали. Мой отец еще подростком видел… Разломали пол, сразу думали — гробы внизу… Потом разобрались: часы. Стояли в круг, страшные, почерневшие, словно исповедальни. Башня — на холме, подвалы сухие, вот и уцелели. В 1939-м, когда Советы пришли, польский поручик те часы забрал, на телегу — и увез, как только стрельба началась. Одни только часы оставил — их Баркун, дед вашего Аркадия, присвоил, комнату комбеда украсил. На тех часах смерть королю голову отрубала. Кажется, внуку те часы перешли… Ведь навещал меня и тот внук… Также про часы расспрашивал. Да еще родословную свою уточнял.
— Так его же предок был тут рыцарем, сотником еще в 15 веке! — продемонстрировала я свою эрудицию. Петр Филиппович сухо засмеялся.
— “Рыцарь!”. Прислужники и палачи они были из поколения в поколение, в 19 веке один из Баркунов повстанцев Калиновского вешал. Род вырождался, как Богом наказанный. Никого не удивило, когда Баркун стал председателем бедняцкого комитета — щенком еще был, но уже крикун, каких мало. Так я вашему Аркадию и сказал. Он только дверью хлопнул и пошел, как мыло съевши.
— А не заметили в тех подземельях, где часы нашли, чего-то еще, пусть незначительной, странной вещи? — настойчиво спросил Юрась. — Вспомните, пожалуйста…
Колейко пожал плечами.
— Да если б я сам там присутствовал, то что-то, может, и вспомнил бы. Но я тогда еще на свет не родился. Вот колодец видел, когда однажды в детстве залез в те подвалы. Получил после дома хорошую трепку. А, еще отец говорил, серебряный серпик нашелся…
— Какой серпик? — напряженно переспросил Юрась.
— Ну, Бог его знает… Сверток возле часов валялся, отец домой тайком забрал. В свертке и был серебряный серпик и битое стекло. Обычное стекло, прозрачные осколочки… От вазы какой-то, наверное. Этот серпик потом мать в войну на овес выменяла. И хорошо… Не хотелось бы иметь в доме какую-то вещь из проклятой башни…
— А почему она проклята? Неужели вы верите, что в ней действительно была замурована смерть? — не утерпела я. Колейко помолчал, поджав губы.
— Смерть из этой башни действительно не вылезает. В войну там двух партизан расстреляли… В революцию одного пана заперли, голодной смертью замордовали… Пан, правда, лютый был, жил, будто крепостное право никто не отменял — девчонок деревенских в прислуги нанимал, запугивал, насиловал… А есть и еще кое-что, подревнее.
Колейко поколебался, его глаза подозрительно прошлись по нашим лицам.
— Вот …
Старик достал еще какую-то папку. Я увидела знакомые гравюры, а также несколько новых. Бывший учитель бережно взял одну из них в руки.
— Кому ни рассказывал из историков, на смех меня поднимают. Мол, не было такого в Беларуси… А я уверен — здесь это происходило, вокруг нашей ратуши. Сравните — то же строение, что и на фотографиях!
На гравюре был типичный мотив 15 века — танец смерти. Взявшись за руки, подпрыгивали в вычурном танце молодой монах, девушка в шляхетском костюме, немолодой толстяк со смешно выпученными глазами и скелет. Над массивной башней Солнце и Луна объединены в один равнодушный лик, расколотый надвое.
“…Раскрыліся ізноў зямлі глухія нетры.
І блазан, і кароль – у скокі смерці – кроч!
Шалёны карагод кругі кругамі мерыць.
І ўсмешкі ўсё шырэй, бяздонней погляд воч.
І біскуп, і рабін, і вулічная дзеўка —
Не выдзерці з рукі скалелую руку –
Імчаць за кругам круг. Сатлелыя павекі
Не скрыюць ад вачэй пустых – апошні круг.
Нябачны барабан прыспешвае кружэнне.
Кашчавы дырыжор з бліскучаю касой
Свой аглядае баль. Ні жалю, ні ўзрушэння.
Такі вось насамрэч на могілках спакой”.
Вдруг Юрась резко выпрямился на жестком деревянном стуле. Глаза стали совсем отсутствующими…
— Что с тобой?
Реставратор какое-то время все так же смотрел в неведомую даль, а потом начал как-то торопливо прощаться с хозяином. Я также с неловкостью поднялась. Колейко спрятал гравюры, фотоснимки и поднял выцветшие, но все еще острые глаза на гостя, что бормотал благодарности…
— Удивляюсь я вам… История — это не стопка фотографий, которые можно тасовать, вкладывать в рамочки, сжигать… История может убивать и воскрешать. А вы с ней, как с собственным блокнотом. Вписал что-то, вычеркнул…– Петр Филиппович грустно вздохнул.– Вот, что-то здесь вынюхали, будете использовать… Да может, это вас используют какие-то неподвластные вам силы, переставляют, как пешек, по клеточкам? А играете вы с такими фигурами, что вас непременно съедят. Ну, Бог вам судья… И не забудьте, Анна, как обещали — статья о возвращении площади исконной планировки! Сам в газету отнесу!
Юрась шел по заснеженной тропинке, хмуро глядя себе под ноги, и я не решалась нарушить молчание. Через час я буду ехать в автобусе, который отвезет меня к привычной жизни. А Юрась вернется в Людвисарово, за высокий бетонный забор. День медленно умирал, и удостоверить его смерть спешил мороз. Снег поскрипывал под ногами, но не озорно, а как-то тревожно… Как будто в наши следы ступал еще кто-то невидимый…
На подходе к церкви, обычной каменной с синим кокошником, из тех, что возводились на нашей земле после подавления восстания 1863 года чуть ли не в каждой деревне, Юрась резко остановился.
— Я понял, как Бернацони использовал свои часы.
В голосе моего бывшего мужа не слышалось радости. Над церковью кружили вороны, словно взлетели ржавые кресты с забытых кладбищ.
Юрась зачерпнул жесткий, как песок, снег и протер им лицо, словно в горячке.
— Вот и все… Но знаешь… Это страшно. Если то, что мне представляется, мало-мальски правда… Попробую срочно перевезти Стеллу в другую больницу! Ведь она — заложница у них… А я не могу им все рассказать… И ею рисковать не могу… Раньше в таких обстоятельствах пулю в лоб себе пускали, прости, Господи…
В его отрывочных словах были такие отчаяние и страдание, что я решилась.
— Послушай… Я не все тебе сообщила…
И рассказала Юрасю о Стелле.
Он выслушал мой неуверенный и путаный, словно вязание со спущенными петлями, рассказ с застывшим выражением лица. Только сжал ладони в кулаки, даже косточки побелели. Я думала, что он мне не поверит. А если вдруг поверит… Во-первых, люди имеют свойство ненавидеть тех, кто сообщил плохую новость. В древности гонца могли и на кол посадить… А во-вторых — горе, слезы… Я должна была удержать бывшего мужа от вполне понятных стычек с хозяевами. На какой-то момент мне показалось, что мои опасения сбудутся — Юрась страшно побледнел и проговорил сквозь зубы:
— Сволочи…
Он довольно долго стоял и молчал, уставившись в снег. Казалось, в белой поверхности теперь появится яма от его взгляда… А уж я еле выдерживала тяжесть молчания. Не хватало еще разреветься самой, когда нужно помочь человеку не выказать горе. Но Юрасю, по-видимому, удалось справиться с чувствами, он отрывисто вздохнул и поднял голову.
— Прости… Мне все-таки не очень легко после такой новости… Хотя — какая там новость. Знаешь, я… чувствовал, вот уже неделю чувствовал, что Стеллы нет. Между нами всегда тянулась какая-то тонкая нить. И вот — порвалась… Пустота. Стелла… Но я уже столько раз ее хоронил, оплакивал, прощался… Отгоревал свое, пожалуй… Все, пошли на станцию.
Автомобиль цвета мокрого асфальта остановился прямо возле нас.
— Ну что, Юрочка, отдохнул, подумал? Сейчас, я уверен, дело пойдет на лад. Привет, Анета! Не забываешь друга в трудную минуту? Молодец!
Янчин с постоянной шумной приветливостью был здесь уместен так же, как разноцветные воздушные шарики на похоронах. Он хлопнул Юрася по плечу.
— Ну, ну, не грусти… Поставим на ноги твою Стеллу. Скоро еще какие-то “продвинутые” лекарства на ней опробуют. А хочешь, съездим завтра в больницу, посмотришь на бедную нашу…
Я смотрела на смуглое лицо Янчина, на его сочувственную улыбку. И не могла поверить, что этот человек причастен к страшной мистификации. Боялась, что Юрась сорвется. Но реставратор молча стоял с застывшим лицом. Янчин все не умолкал.
— Слушай, ты уже знаешь, как работали часы? Голова у тебя светлая, догадался?
Юрась разжал побелевшие губы.
— Знаю.
Господи, он даже лгать не стал!
— Вот молодец! — Янчин взглянул на меня, словно призывая в свидетели. — Я всегда говорил, что вы вдвоем — сила.
Он явно думал, что Юрась советовался со мной насчет секретов механизма.
— Но, друзья мои, есть одно обстоятельство, о которой вам стоит задуматься …
Я удивилась. Смуглый клоун, комик-буфф куда-то делся. Сейчас Янчин смотрел строго, даже жестко.
— Слушайте меня внимательно, друзья. Фокус со стаканами, которые разбиваются — это далеко не все, что когда-то могли эти механизмы. Я знаю, вы оба — патриоты… А вы когда-нибудь задумывались, что за человек — этот Колыванов? Мы его терпим, потому что сотрудничество с его финансовой империей приносит нашему государству пользу. Здесь, в чужой стране, он ведет себя скромно, старается держаться в рамках закона, ни с кем не ссориться… Но на самом деле хищник. Не удивлюсь, если выяснится, что именно он стоит за смертью несчастного Аркадия… Это же он Баркуну модель подсунул из своего агентства, когда тот начал в силу входить. Лилька и следила за Аркадием, и о его предположениях насчет часов все докладывала, и на распродажу в Польше Колыванова навела. Аркадий, да простит он мне на том свете, масла в голове имел мало, про часы и стаканы прочитал — и решил, что это аттракцион, которым ему будет разрешено туристов развлекать. А это все равно, что бензопилой бриться. Вот Колыванов — тот знает, как подобные секреты использовать.
Мы с Юрасем ошеломленно смотрели на бывшего преподавателя, пытаясь понять его метаморфозу. А он говорил, как приказывал.
— Подумай сам, Юрий, ну разве можно такому человеку, иностранцу, отдавать секреты нашей земли? Будет какой-то конкретный результат от старых часов, нет — это наше достояние! Как вы уже поняли, я выполняю здесь определенные обязанности…
Мы с Юрасем обменялись взглядами: Янчин — шпион при Колыванове! Вот так новость!
— Я человек прямой. И скажу прямо. Вы не должны выдавать секрет часов этому магнату. Ты, Юра, скажешь ему, что ничего не получается, переутомился… В моих силах вытащить тебя отсюда.
— А дальше что? — сухо спросил Юрась.
— Дальше ты расскажешь все, что знаешь, нам… своим…
По облику Юрася нельзя было определить, что он думает.
— Во-первых, Виталий, ты напрасно решил, что Анета хоть на каплю в это посвящена. Я всегда считал, что женщины в технике не разбираются, а Анета здесь просто типичный пример. Я попросил ее приехать, чтобы она перевела для меня одну бумажку… Жаль, но и Анете она оказалась не под силу.
— Какую бумажку? — живо переспросил Янчин.
— Отдай… — приказал мне Юрась, и я послушно протянула Янчину листок с текстом письма Бернацони.
— А во-вторых, мне не понятно, для чего вам… “своим”… секрет плясок смерти? Вы что, людей собираетесь так разгонять?
Янчин хохотнул.
— Догадался, значит, насчет плясок… Людей, говоришь? А отличная была бы картинка для иностранных журналистов… Но слишком экзотичная. Нет, друг, секрет Бернацони — если, конечно, он не миф, а чего-то стоит, и наши ученые смогут его “обуздать” – может принести вполне ощутимую пользу… Например, для борьбы с международным терроризмом. В этом деле любая помощь — спасенные невинные жизни! Поработай на благородное дело — и займешь почетное место в обществе. На государственную работу тебя, как я понимаю, не соблазнишь… А вот свою реставрационную фирму будешь иметь.
Юрась не изменился ни черточкой.
— Спасибо… Но куда мне — на почетное место в обществе… Я, похоже, урожденный маргинал.
Янчин раздул ноздри, как хищный зверь.
— Не советую играть в недотрогу. Ты, парень, даже не понимаешь, в какую историю попал.
— У меня своя история, Виталий, — спокойно ответил Юрась. — И страна у меня — своя… Хотя называется так же, как твоя, но — иная.
Янчин начал злиться.
— Такие знания все равно что бомба с часовым механизмом, и на какое время назначен взрыв — ты не знаешь. Я тебе единственно возможное спасение предлагаю! Ты что, думаешь — незаменимый? Не ты — найдутся другие умники, все раскроют. Только жаль, время потеряется.
Юрась задумчиво смотрел вдаль, где над серыми крышами Старовежска, так и не познавшими благородного багрянца черепицы, угасало вечернее небо.
— Вот и опять настигла меня моя судьба… Я думал — на отмель вынесло… Водорослями обрастаю… А тут — делай, пожалуйста, очередной экзистенциальный выбор. Ну что ж, повоюем. Чисто по-белорусски — отмолчимся.
Спокойный ироничный голос Юрася разозлил Янчина.
— Не отмолчишься, парень. Садись в машину. Поехали.
Юрась не шелохнулся.
–Ну!
Мой бывший муж повернулся ко мне.
— Поехали в Минск, Анета… Что-то неинтересны мне их игры…
И пошел, не оглядываясь. Янчин что-то кричал вслед…
Но уйти далеко мы не успели. Еще одна машина, белый джип, обогнала нас, притормозила.
— Не умеют на этой земле обходиться с творческими людьми, — Макс, как всегда, говорил доверительно и сочувственно. — Не обращайте внимание, друзья… Виталий у нас человек горячий, грубоватый.
Юрась неприветливо поглядывал на элегантного психолога. Белая дубленка в цвет джипа и охотничья кожаная шапочка Макса в сочетании с выцветшей зеленой курткой Юрася производства фабрики “Заря” могли быть иллюстрацией к статье о социальном разделении общества. Такие статьи я когда-то пекла, как блины, подсознательно веря, что после прочтения моих полемических текстов бедные разбогатеют, а богатые переполнятся состраданием аж по золотые цепи.
— Я больше на вас не работаю, — мрачно сообщил Юрась психологу. Мне стало страшно. Но Макс только светло улыбнулся и подмигнул мне. Мол, таланты все капризны…
— Позвольте, дорогой Юрась, сказать Вам пару интересных словечек…
Макс взял реставратора под руку и отвел в сторону, туда, где из-под снега высовывался ржавый погнутый крест. Я с боязнью наблюдала за разговором. Вдруг Юрась резко наклонился, как перегнулся пополам… И раздался его хохот. Реставратор просто заходился. Даже сел в снег. Собеседник какое-то время растерянно стоял над ним, потом двинулся к машине. Лицо Макса кривилось настоящей злостью. На меня психолог даже не взглянул. Я бросилась к бывшему мужу… Он сидел в снегу и смеялся. Нашел время для истерики.
— Ты знаешь, Анета, Макс тоже…– проговорил Юрась, пытаясь успокоиться.
— Что тоже? — недоуменно переспросила я.
— Тоже шпион… Только, кажется, российский, — сквозь смех проговорил Юрась. — Уговаривал меня перейти под его крыло…
— А ты что? — дрожащим от нехороших предчувствий голосом спросила я.
— «А я остаюсь среди этой земли, как башня средь пущи, или корабли на отмелях рек, пересохших давно. Я тут, словно в амфоре спеет вино. Века проплывают, как вдаль — корабли, я в белом молчанье забытой земли”, — выразительно продекламировал реставратор.
— Послушай, сейчас не время играть в пионера-героя, — тревожно проговорила я. — Ну что ты их злишь?
— А я их не злю, — вдруг очень жестко ответил Юрась. — Я их презираю.
О, Господи… Я узнала присущее бывшему мужу упрямство. Когда он становился таким, то можно было ждать любых, самых опасных, поступков. Лучше бы я ему ничего не рассказывала… Я в растерянности топталась на тропе, Юрась сидел в сугробе, Стелла где-то лежала в больничной палате, а Старовежску было на всех нас наплевать, он был старым, искалеченным и изверившимся, и стремительно закутывался в сумрачный зимний вечер, как в потертый плед.
Скорей бы проснуться… Я готова была снова оказаться в своих ночных кошмарах. Но это была реальность. В свете фар, на фоне зимнего пейзажа они поглядывали на нас с различной степенью злобы — Лилия, Колыванов, Янчин, Макс… За нашими спинами стояли охранники. Возможно, на их лицах тоже была злость. Но вряд ли — профессионалы не злятся. Может быть, действующие лица, раз у каждого — свой интерес, перегрызутся, и упрямый реставратор не достанется никому? Но вдруг я поняла, что все эти особы знают подоплеку друг друга, их это устраивает, все играют в одну игру… Конечно, не против обыграть — но игра у них одна… Танец смерти, где мы все держимся за руки с покойниками…
— Вот поганец, — отрывисто произнесла вдова Баркуна в адрес Юрася. — Отблагодарил, называется, за мою доброту. Деньги заплатили — делай!
— Хватит с вас моей работы. А древним секретам место там же, где и древней заразе,– мрачно произнес облепленный снегом Юрась. — Вон начали кладбища раскапывать, на которых умерших от холеры хоронили двести лет назад… И холера вернулась. Эта земля и так натерпелась от всяких экспериментов. Еще один кнут вам нужен для ее усмирения? Не я вам его дам.
— Молодой человек, я ждать не привык, — бросил свое слово Колыванов. — Вы правда знаете секрет часов?
— Знаю.
— Сколько вам за него заплатить?
Юрась помотал головой.
— Здесь не аукцион. Сказал же — моя работа закончена.
Мне стало по настоящему страшно. Я не выдержала и дернула его за рукав.
— Да расскажи им, что знаешь! Подумаешь, ржавые игрушки! Пусть они свои стаканы лопают — ну какое “психотропное оружие” мог придумать средневековый еретик! Любой рок-концерт куда большую силу имеет. Куда там колоколам против ударной установки!
Но Юрась только проговорил.
— Анета, а ты иди на станцию. Через полчаса, кажется, последний автобус.
Я в растерянности обвела всех глазами и немного отступила в сторону… Вселенная понемногу раскалывалась на маленькие кусочки, которые перемешивались и составляли иной витраж… Я с ужасом осознавала, что снова внутренне отстраняюсь от Юрася, как тогда, когда поверила, что он мог убить Баркуна. Такое, наверное, случается, если кто-то из близких заболевает неизлечимой заразной болезнью, а твоя любовь не настолько сильна, чтобы победить инстинкт самосохранения. Но разве мне дадут уйти? Макс, в ответ на мои мысли, вопросительно произнес.
— А вот они вдвоем ходили к старому склочнику, что на нас все в суд подает за перестройку башни. Может, он что интересное рассказал?
Юрась отвечать не собирался… Разве он не понимает, что они потащатся и к старику, начнут допрашивать? Придется спасать всех самой… Я постаралась подавить паническое желание убежать, спрятаться в свою воображаемую ракушку и никогда больше из нее не высовываться… И, стараясь говорить спокойно, рассказала о визите к Колейко. По разочарованным лицам я поняла, что мое откровение ничего для них не значило. Почему они не запихнут нас в машину? Неужели боятся свидетелей? Действительно, к вечеру Старовежск ожил. Кое-где в сумерках двигались силуэты горожан. Несколько женщин с провинциальным любопытством наблюдали за нашей подозрительной группой, освещенной фарами машин, из-за заборов своих дворов. А Юрась, это, видимо, чувствовали все, был готов устроить настоящий “концерт”… Или все еще надеются, что он смирится? Юрась взглянул на меня и снова – за свое.
— Анета, я же сказал, иди на станцию… — и объяснил присутствующим. — Она на самом деле ничего не знает. Хватит с вас одной Стеллы… В качестве моего гаранта.
Голос Юрася вздрогнул. Я осознала, что он пытается скрыть, что знает о смерти жены — видимо, чтобы не повредить мне. При имени покойной лицо вдовы Баркуна исказилось.
— С меня твоей Стеллы уже давно хватает. Вот тебе мозгов всегда не хватало за своей стервой уследить! Где твои принципы были, когда твоя сучка за дозу …
Колыванов положил руку на плечо заметно нервничавшей вдове.
— Лилька, стихни.
Вот как, Лилия Петровна была в курсе мужниных авантюр? А Юрась, кажется, нет. Он недоуменно смотрел на Лилию, чье красивое лицо будто постарело от скрытой ненависти.
— Разве не знаешь, что твоя наркотка к Аркадию бегала? Она для него, понимаешь, “шарман, шарман!”, а я — подстилка. Сволочи вы все! Сразу попользуетесь, а после…
Вдруг Колыванов резко сжал вдове горло… Модель захрипела, начала хвататься за руку, что ее душила… Магнат, довольный воспитательным эффектом, отпустил истерическую даму. Лилия Петровна замолчала, не выражая возмущения, только потирая шею. На лице ее больше не было ненависти, только страх.
— С женщинами одни хлопоты, — доверительно проговорил магнат, обращаясь к Юрасю.
— Еще раз говорю — Анета должна поехать домой…– упрямо повторил Юрась.
— Я не могу тебя оставить… — дрожащим голосом проговорила я. Но Юрась успокаивающее улыбнулся.
— Да не волнуйся. Ничего со мной не случится… А я вернусь и сразу позвоню тебе. И… прости.
Я в растерянности оглянулась. Я уйду, и для меня этот ужас закончится… Конечно, Юрасю лучше, если рядом не будет новой заложницы. Он хочет, чтобы я ушла… Только бы отпустили! Молчание присутствующих казалось трясиной, в которую я погружаюсь все глубже, глубже…
— Если Анета уйдет… обещаю вести себя… разумно, — вдруг сказал Юрась, глядя себе под ноги.
— Вот и отлично! — обрадовался Янчин. — Думаю, в таком случае с уважаемой Анной мы можем попрощаться. Я эту девушку знаю. С ней никаких хлопот не предвидится. Правда, Аннушка?
Я кивнула головой. Какие там хлопоты… “Скандальная журналистка” давно превратилась в безмолвную улитку. А может, и всегда была ею, просто какое-то время имела возможность безопасно показывать миру рожки?
Юрась помахал мне рукой и направился к машине.
— Позвольте, провожу? — снова нежно и вежливо обратился ко мне Макс и даже попытался взять меня под локоть.
— Благодарю, не стоит… — дрожащим голосом произнесла я и зашагала по тропинке. Кажется, никто за мной не гнался. Отойдя на более-менее безопасное расстояние, я оглянулась. Машины выруливали в сторону Людвисарово, свет фар высвечивал дорожки на снежном покрове… Все дальше, дальше… Вдруг мое сердце сжала такая тоска, что я чуть не заплакала…
“Сам виноват, сам виноват …”– как заклинание, повторяла я всю дорогу до станции. И потом, когда за окном автобуса замелькали ночные огоньки, чье назначение — пробуждать в проезжающих тоску и внезапное желание оказаться там, где приветливо светится чье-то окно, я не находила уже нужных слов, чтобы оправдаться.
………………………..
Бадья поднималась со дна колодца, словно луна выплывала из тьмы… Сестра Агапа с трудом крутила коловорот, и цепь звено за звеном ложилась на темное, блестящее от влаги и прикосновений железа бревно. Что ж, страдания только добавляют блеска терпеливым душам.
Воду могли носить более молодые сестры… Они с радостью приняли бы это послушание вместо почитаемой ими сестры Агапы, но та всегда отговаривала матушку настоятельницу: кто сказал, что нам должно в этой жизни быть легко?
Над крестом монастырского храма кружили вороны. А голубей давно не видно… Не выносят голуби, божьи птицы, кровь и железо, и злобу людскую… А последнего стало в мире так много, что плещет и за стены монастыря, где должно быть одно тихое моленье…
Сестра Агапа подхватила бадью за ручку и поставила на траву. Сердце колотилось, как будто испугалось, что надо продолжать земной путь. Монахиня перекрестилась… Господь сам отмерит, сколько пути кому осталось пройти. Слабости тела — не причина, чтобы преждевременно останавливаться на отдых.
А в ворота монастыря снова стучались, и снова слышались чьи-то сердитые возгласы. Раньше у двери монастыря висел колокол. Гость должен был позвонить в него и покорно ждать… Давно сорвали колокол, да и деревянные ворота обгорели. На самом верху их вот уже месяц торчал обломок татарской стрелы, и сестре Агапе было неловко при взгляде на ту стрелу, словно ворота были живым существом, которому больно.
В монастырь снова привезли раненых воинов. Что поделаешь, если в сожженном, разграбленном городе единственный приют — женский монастырь… К тому же монахини были хорошими травницами, самой лучшей — сестра Агапа. Искренняя молитва и сила родной земли, воплощенная в снадобье, спасали здесь многих. Для гостей имелись отдельные кельи, большие, чем у святых сестер.
Раненых было шестеро, трое — римской веры. Отбирать по вере не приходилось. Молоденький паренек, которому кривая татарская сабля рассекла живот, уже не мог говорить, только тонко стонал… Этому порог того света уже рушником накрыт. Светловолосый воин с длинными усами сжимал левой рукой то, что осталось от правой… Что ж, левой рукой тоже можно драться. Если будет Божья воля, этот останется жить.
Остальных сестра Агапа не успела осмотреть. Молодой рыцарь, красивый, как сказочный королевич, в богатой, испачканной пылью и чужой кровью одежде, поклонился старой монахине почтительно, но с достоинством, заговорил по-польски.
— Пани хороший лекарь, мне говорили? Вы должны посмотреть моего отца. Если поможете, ваш монастырь разбогатеет. Мой отец — пан Болеслав Радчиньский, подчаший его величества Казимира.
Сестра Агапа молча склонила голову.
— На все Божья воля, пан. Золотом не купишь и одно здоровое око.
Подчаший лежал на носилках, на которых его и принесли. Широкие мягкие носилки с бархатными подушками показались гостям более удобными, чем каменное ложе кельи. Смуглое лицо старого воина, исполосованное шрамами, был все еще красиво. Волосы поседели, но угадывалось, что когда-то были они темные, густые… Сестра Агапа осторожно положила узкую сухую ладонь на лоб больного… Горячка…
Один из слуг бережно отодвинул край одеяла: на груди пана лежала тряпка, набухшая кровью. Дыхание хрипло вырывалось из груди раненого…
— Когда это случилось? — тихо спросила монахиня.
— Третьего дня…
Сестра Агапа молча покачала головой. Поздно… Все неисправимо поздно …
Вдруг рыцарь открыл глаза, сверкнула их не выцветшая синь, и проговорил:
— Не плачь, Анета, а то лягушки в комнате разведутся…
И попытался улыбнуться.
— Видишь, я уже так близко к воротам смерти, что даже не удивляюсь нашей встрече…
Монахиня наклонила голову.
— Мое имя сестра Агапа.
— Брось… Когда-то я говорил, что узнал бы тебя, даже если бы ты превратилась в облако или птицу… Да хотя бы — и в старую монашку.
Умирающий рыцарь и Божья невеста смотрели друг на друга, угадывая за искаженными временем чертами светлые облики юности и любви. Солнце тянулось к ним ласковыми лучами сквозь разноцветный витраж с изображением византийского креста… В лучах беззаботно танцевали пылинки.
— Ты изменил имя, Богуш… Ты сменил веру…
Раненый закрыл глаза.
— Что такое имя? Лента в волосах, сегодня — золотая, завтра — серебряная, а послезавтра ее намотает на костлявый палец смерть… Рыцарь… должен завоевывать славу… И только сильный… завоюет ее. Высокий пост в этом государстве… может занять только… единоверец Великого князя.
Рыцарь устал от разговора и будто задремал. Сестра Агапа осмотрела его рану. Что ж, можно хотя бы попытаться облегчить боль. Наложить мазь… Вот так… А на краю раны, где уже почернело, листья арники…
— Не старайся, Анета, меня уже ждет архангел… Я думаю, что рыцаря должен встречать архангел с мечом, рыцарь Божьего войска. Мне даже мнится, что я вижу отблески его меча.
Рыцарь смотрел на склоненную голову монахини, накрытую черным покрывалом.
— Из-за тебя, Анета, не могу с чистым сердцем на Божий суд идти… Надо все обиды на этом свете оставлять. А я простить не могу, что ты в башне меня оттолкнула. Я в таком пекле оказался… Бежал, не разбирая, куда. Пока меня не положили чужие мечи… Что тебя замуровали в башне, я через месяц узнал, когда от ран выздоровел. Я до сих пор считаю, что, если бы не убежала ты, мог бы тебя спасти! И мы были бы счастливы!
— Ты привел в город врагов …– проговорила сестра Агапа.
— Врагов? Сегодня карачунцы — наши лучшие друзья. Может быть, завтра они снова станут врагами… Какая разница? Я думал, что ты не осталась со мной, потому что чертов лекарь действительно тебя зачаровал.
Некоторое время царило молчание, только слова молитвы слетали с уст монахини, как голубиные перья, подхваченные ветром.
— Наклонись… — попросил рыцарь. Сестра Агапа послушно приблизилась.
— Послушай, ты знаешь секрет лекарских часов, правда? Они в башне стоят, да?
Глаза Богуша болезненно блестели.
Сестра Агапа отшатнулась.
— Зачем они тебе?
— Это — сила… Сила… Она нужна сегодня нашему государству… Ты могла бы научить нас, как пользоваться этими часами? Если бы татар или шведов заставить танцевать в смертельном танце!
Монахиня резко поднялась, перекрестилась.
— Что ты говоришь, Богуш? Спаси Господь душу твою… Ты бредишь.
Пан Болеслав зашелся в мучительном кашле, на его губах показалась кровь. Молодой Радчиньский забежал в комнату.
— Пан отец, нашли доминиканского монаха! Он примет твою исповедь.
Рыцарь взглянул на монахиню и прохрипел.
— Ну что, Анета, может, встретимся там?
Она схватила его руку — хотя у раненого был жар, рука холодная, словно ледяная — сжала… И он сжал ее ладони… Как в пляске смерти… Тело старого воина мучительно выгибалось, пробитая грудь хватала воздух…
В келью вошел монах, подозрительно оглядываясь на символы схизматиков. Все, кроме сына, оставили умирающего.
Сестра Агапа горячо молилась перед алтарем, освещенным только трепетным огоньком лампады.
…Окропи мя иссопом, и очищуся…
Молодая чернобровая монахиня стала на колени рядом, дождалась, пока старшая закончит молитву, и сообщила:
— Подчаший умер… А сын его вас ищет. Говорит — что-то вы должны ему рассказать, по отцовскому завету… Вы умершего рыцаря знали, сестра Агапа?
Старая монахиня поднялась, перекрестилась… Ее лицо со следами былой красоты было сурово.
Пляски смерти не закончатся никогда. Над этой землей вечно будет лететь чудовищный хоровод, где все держат друг друга за руки, и никому не дают ускользнуть, освободиться, задержаться на клочке жизни…
— Скажи молодому рыцарю, что я дала обет затворничества и молчания. От сего времени мои слова будут только те, что я сердцем произнесу к Господу. И видеть я хочу только Господа, если удостоюсь познать его духовными очами. Аминь.
Молодая монахиня с боязнью посмотрела на собеседницу, склонилась в земном поклоне и ушла.
Назавтра келью в подвалах заложили кирпичом, оставив лишь отверстие, чтобы подавать затворнице пищу.
Через маленькое окошко кельи, под самым потолком виделся синий-синий клочок неба и краешек белого облака, словно краешек флага на башне свободного города.
Часы, черные рыцари смерти, молча стояли в подземельях… Они ждали, когда понадобятся новому государю, достаточно смелому, чтобы призвать на помощь смерть.
……………………
За окном светилась маленькая злая звезда, как волчий глаз. Неужели я спала? Взглянула на часы… Второй ночи. Но о сне забудь. И не делай вид, что сможешь вернуться к обычной жизни. Как там Юрась? Я пыталась убедить себя, что он смирился — а что остается ему делать? Все равно расскажет, и отладит…
Но кого я обманываю? Юрась никогда не обращал внимания на разумные, вполне понятные доводы. Он же заядлый… Ведь он до последнего будет держаться…
Я впервые испытывала такую боль, как будто душа разрывалась от тоски… А я думала, что хуже, чем тогда, когда уходила с общередакционного собрания, мне никогда уже не будет.
А что, если я больше его не увижу, Юрася? Как мне жить с этим?
Я села на кровати и закуталась в одеяло… Но было все равно холодно. Так холодно и одиноко, как будто я на перекрестке осенних ветров, и забыла, где мой дом.
…Что с ним сейчас, с Юрасем?…
Вопрос словно стал отдельным живым, надоедливым существом, которое безжалостно кусало и жалило сознание.
Свет фар пробежался по стене, как будто промелькнул ангел, не пожелав задержаться и утешить.
Хорошо, допустим, я осталась… Сидела бы сейчас с Юрасем в Людвисарово… Действительно, еще хуже ему сделала бы. Пойти за помощью? Ха-ха-ха! Куда? К Бэтмену и Робину? Разве только мультяшные супермены и могут вмешаться…
Но я не могу так больше! Ракушка, в которой я прожила столько лет, трескалась изнутри от взрывов моей боли.
Хотя после этой — спустя одиннадцать лет, — встречи, ну что между нами было? Прикосновение рук… Юрась, конечно, чувствует вину передо мной — он же всегда берет на себя всю вину. Я уверена, что он бы с радостью отдал за меня жизнь. Но о любви ко мне, я думаю, и речь не идет. У Юрася есть, из-за кого страдать. А разве вот это, что я сейчас чувствую, любовь? Какая же она… неумолимая… болезненная… Будто кто-то ударил меня по глазам лучом волшебного фонаря, и я с мистическим ужасом увидела какую-то цепь — или шелковую веревку, как представляют японцы, — которая неожиданно привязала меня к другому человеку, помимо моей воли. И каждая попытка отдалиться — только боль…
Я подошла к окну, завернувшись в одеяло. Заснеженный двор, на белом асфальте в свете фонаря — две черные полоски от колес машины… Взгляд невольно направился к горизонту, маленький кусочек которого, рассеченный силуэтами деревьев, просматривался между спинами соседних домов. Юрась где-то там… далеко… В темноте… Почему я — здесь? Мне нужно к нему! Не к тому, забавному юноше, моему случайному мужу, а к этому — пожившему мужчине, который испытал горе и страсть, и смог сохранить в себе таинственный огонь, который когда-то и привлек меня… Который вынуждает его сейчас бросаться с копьем на огромную ветряную мельницу… Рыцарь печального образа…
Что с ним сейчас?…
Дон Кихота даже обычные пастухи били палками…
Я тоже думала, что могу бороться с ветряными мельницами. Но, однажды упав с безжалостного неживого крыла, потеряла веру в то, что можно остановить даже величайшими жертвами эту махину, раскрученную миллионами самолюбий, которая перемалывает судьбы людей и государств, любовь и достоинство, разум и веру в одинаковую вязкую массу, пригодную, чтобы лепить послушное, удобное общество. Нет, настоящая борьба ведется не на площадях, а в тебе самом. А я всегда убегала от своих проблем. Поэтому и сны не запоминаются, которые эти же проблемы ставят. Сейчас с памяти словно сползала вуаль… Как наяву, увидела улыбку Юрася, его непокорные волосы, синий упорный взгляд из-под прямых бровей, шрамы на щеке, исцарапанные железными внутренностями часов пальцы… И как он кланялся этим часам и обращался к ним с шуточными словами…
Пан Иоанн с Адамом и Евой …
И тут же всплыли увиденные во сне те же вырезанные из дерева Адам и Ева с чашей и змеей. Еще не поврежденные временем, в яркости красок и позолоты…
Часы стоят в кругу…
Лекарь в черном подходит к ним…
Данс макабрэ… Фигуры смерти… Баркун, Стелла, Юрась — один за другим выходят из круга…
Нет, только не Юрась!
Ну, вспоминай же!
Я готова была расколоть голову о стену, лишь бы извлечь оттуда неуловимые образы.
От напряжения мир поплыл вокруг в красном тумане…
И я вспомнила.
Осталось смять одиннадцать прожитых лет, как черновик. Он не достоин и одной правильной звонкой строки.
И я совершила поступок, который никак нельзя было объяснить логикой, но мне — моей новой сущности — понятный. Подошла к зеркалу и решительно обрезала свою рыжую косу. Под корень, на самом затылке. Взлохматила рукой волосы… И сквозь знакомые черты в зеркале наконец выглянуло давно забытая девчонка с сонмом иллюзий и способностью к поступкам, необъяснимым логикой. За окном рассвело… День заглядывал в мое окно серым больным лицом, на котором не имелось сострадания.
Телефон Лилии Петровны был на визитке.
Я сказала всего несколько слов…
Через двадцать минут у моего подъезда стояла машина. Перед тем, как выходить из квартиры, я прихватила с собой конверт с долларами.
Водитель, незнакомый мне лысый мужик, похожий на мельника, сидел молча, смотрел только на дорогу. И мне было не до разговоров. Еще и еще раз я прокручивала в голове образы, увиденные в снах… Я не пыталась понять, откуда они пришли… Если это — всего лишь моя болезненная фантазия, бред, то… ну что ж, я все равно окажусь рядом с Юрасем. Мой страх куда-то исчез, как будто я перешла границу, за которой ничто не имеет значения, кроме того, что в сердце.
Раздвинулись железные ворота… Две каменные богини, разбуженные утренним солнцем, зимним, поздним и холодным, проводили меня белыми слепыми глазами. Ave, Людвисарово, morituri te salutant…
Они уже ждали меня — Янчин, Макс, Лиля. Последняя, как я теперь знала, представляла интересы Колыванова.
— Ну, что он, наш мастер, тебе рассказывал? — набросилась на меня бывшая модель. Под глазами у нее темнели круги — переживает… Хозяйское поручение плохо выполняется. А хозяин, видимо, торопит. Но меня интересовало одно.
— Где Юрий Домогурский?
Янчин по-дружески положил руку мне на плечо.
— А вот Аннушка, как старому приятелю, мне все и расскажет, а потом мы навестим Юрия… Ты такая молодчина, что решилась помочь…
Макс белозубо улыбнулся.
— Ну почему же именно вам расскажет, дорогой Виталий… Я, как профессиональный психолог…
— Замолчите! — Лиля так рявкнула, что если в этом доме жил домовой, он непременно должен был скрыться под печку. — Перестаньте рвать одеяло на себя, или никто ничего не услышит… Да и есть ли еще что слышать?
Баркунова вдова (или, может, убийца?) с сомнением взглянула на меня. Я тряхнула подстриженными волосами, словно сбрасывала последние остатки сомнения.
— Я объясняла… Я не могу ничего рассказать. В технике не разбираюсь. Только покажу, что запомнила, на часах. Но прежде хочу видеть Юрася!
Все трое переглянулись. Молчаливое совещание врагов-союзников…
— Да пойдем скорее, пока есть кого спрашивать! — поторопил всех Янчин.
Охранник, похожий на борца сумо, услужливо бежал перед нами и открывал двери. Вот и знакомый коридор к мастерской… Я медленно спускалась по ступенькам в полутьме. Через распахнутую дверь виднелась мирная картина. Часы, расставленные вдоль стены, бильярдный стол… Уютный огонь в камине… Знакомые громилы Игорь и Анатолий сидят на винтовых стульях, едят свежие вишни (самая магнатская пища зимой) и стреляют косточками в невидимую мишень.
При нашем появлении Игорь и Анатолий послушно вскочили… Я посмотрела налево и увидела их мишень… У меня перехватило дыхание. В углу лицом к стене стоял обнаженный до пояса Юрась, низко наклонив голову. Его поднятые руки были прикованы наручниками к какой-то трубе, а на спине углем нарисованы круги. Видимо, в “мишень” попадало нечто более опасное, чем вишневые косточки, так как спина Юрася была в порезах и ожогах.
— Что… что вы делаете… — только и смогла пробормотать я. Юрась повернул, насколько мог, голову, облизал искусанные пересохшие губы.
— Да вот, играем в святого Себастьяна.
Голос его звучал негромко, но спокойно, даже с иронией. Он еще шутил!
— Сволочи!
Я бросилась к “Себастьяну”. В ушах моих шумела кровь, и я не сразу осознала, что Юрась настойчиво меня допрашивает.
— Зачем ты сюда приехала? Ты что, сошла с ума, Анета? Я же просил…
Чья-то сильная рука оттащила меня на середину комнаты. Макс смотрел все так же дружелюбно, разве только на дне его серых глаз вспыхивали подозрительные огоньки, как у вурдалака.
— Аннушка, мы все ждем… Давайте поработаем. Завтра сорок дней по Аркадию Баркуну, во имя его памяти мы должны восстановить древнюю картинку.
Если бы я не была в таком ужасе и гневе, рассмеялась бы, наверное. Вспомнил старую байку…
— Освободите реставратора!
Янчин брезгливо скривил толстые губы.
— Успеется… Не заслужил он хорошего отношения, идиот упрямый. Давай, Анета, показывай… Мы все поможем. Что он с часами делал?
Юрась дернулся в своем углу.
— Она ничего не знает! Отпустите ее. Она не имеет ни ко мне, ни к часам никакого отношения. Совсем посторонний человек.
Но на его крики никто не обратил внимания. Только Янчин широко улыбнулся.
— Открещивается наш мастер от своих чувств. Знаешь, Аннушка, мы тут вчера ему одну ампулку вкололи… Он столько интересного об отношении к тебе рассказал. Роман целый! Так что постарайся ради своего рыцаря. — И почему-то укоризненно добавил. — Да-а… Романтическую историю рассказал… И это вместо того, чтобы рассказать о том, о чем спрашивали.
— Цензура сознания может быть очень сильной! — сразу обиженно отозвался Макс, который, видимо, в словах Янчина услышал упрек в свой адрес. — Кстати, вторая ампулка тоже не сработала.
Янчин, в чей огород на этот раз, похоже, летел камень, собрался уже сказать что-то язвительное, но Лиля сердито крикнула:
— Чепуха ваша химия! Не с того начали, только время потеряли. “Ой, да чтобы без видимых повреждений…”. Колыванов с такими придурками — стариковскими методами, и ни разу не оплошал. Сразу бы меня послушали. Давай, как тебя там, Анета, показывай, а то твоего рыцаря сама начну на куски резать. И начну с “куска” самого интимного и дорогого.
Я обвела глазами комнату, пытаясь сосредоточиться. Мне теперь понадобятся все мои силы. Взгляд останавливался на деталях, которые не хотелось осмысливать. На поверхности бильярдного стола — пятна засохшей крови… Обрывки проводов… Какие-то железные штыри… На полу — пустые шприцы. И — я не ошиблась — противогаз.
Да, ночка у Юрася выдалась нелегкая.
Но, похоже, у его палачей — тоже.
Как он пока еще терпит? По присутствующим видно, что они временно потеряли надежду разговорить моего упорного бывшего мужа. Устали… Временно… Палачи тоже люди, им нужно отдохнуть, развлечься… Чтобы потом, с новыми силами — снова за работу… Тем более время работает на них, отбирая у жертвы силы.
Но глаза тех, кто смотрел на меня, становились все меньше и меньше похожи на обычные человеческие глаза, и вспоминались названия типа “Загляни в глаза лемуру”…
Страха не осталось. Только гнев и презрение.
— Уберите бильярдный стол.
Охранники бросились выполнять, чуть не сбивая друг друга с ног. Место хватает… Мастерская большая. Как школьный стадион. Хоровод смерти лучше устроить вот там, подальше от двери…
Я осмотрела пол. Кое-где еще были видны линии мелом, которые вычерчивал Юрась. Что ж, думаю, я смогу повторить.
Так… Сориентироваться по сторонам света. Зодиак… Линии, по которым полетит смерть… Сейчас часы… Охранники и Янчин с Максом установили каждого рыцаря смерти на его место. Я поправила стрелки на часах. На каждом свое время. Свой порядковый номер. Часы приготовились так же, как века назад, к сражению тьмы с тьмой. Юрась, видно, начинал верить, что у меня есть какие-то знания, потому что стал кричать, чтобы я ничего не рассказывала… Я не видела, что с ним сделали, видимо, ударили в живот, так как крики сменились хриплыми вздохами-стонами…
Так, сейчас одна, но чрезвычайно важная, поправка… Для нас с Юрасем — жизненно важная…
Я велела повернуть часы циферблатами наружу. Если мои сны хоть в чем-то — правда, то теперь смерть будет не исходить из круга часов, а останется в нем… Возможно, прихватит и нас с Юрасем. Но — заберет и других, причастных к тайне. Юрась готов исчезнуть вместе с этой тайной. Что ж, теперь готова и я тоже.
Домогурский, по-видимому, постепенно догадывался, что я делаю, так как прохрипел только:
— Осторожно, Анета… — и замолчал.
Как говорил Ортега-и-Гассет, кто не познал, как пронизывает дрожь перед угрозой времени, тот не углублялся никогда в дебри судьбы и только касался ее нежной оболочки. Фраза, которую мы с пародийной изысканностью повторяли перед тем, как зайти в кабинет сдавать экзамен.
Нежная оболочка судьбы кровавила. Время приблизилось вплотную, словно гигантские часы, и наклонилось над нами огромным циферблатом с одной стрелкой…
— Мне нужна большая круглая ваза из простого стекла. Чем ближе к форме шара, тем лучше. Может, аквариум.
Они снова забегали, засуетились, и вскоре передо мной стояло несколько круглых ваз, из которых только что в спешке высыпали художественно разложенные ракушки, сухие цветы, искусственные жемчужины, коралловые веточки и другую дизайнерскую шелуху. Я выбрала вазу, которая подходила по размерам, и поставила в центр, там, где сходились все линии (будто постмодернистская метафора отрубленной головы пророка).
— Есть в этом доме серебряный предмет, похожий на серп? Нож, вилка, ложка, в конце концов?
Столовые приборы звонкой горой легли на стол, словно добыча банды воров, вернувшейся из путешествия по хозяйским буфетам. Вот эта ложка для кофе, длинная, изогнутая, пожалуй, подойдет наилучшим образом. Я осторожно опустила ее в вазу… Осталось завести часы.
Вот одни начали тикать… Вторые… Третьи… Двенадцать железных всадников смерти. Казалось, даже воздух начал звенеть… Бом-м-м… Это подал голос апостол Петр. Начали бить вторые часы… Третьи…
— Смотрите, ложка сдвинулась! — вскричала Лилия Петровна. Все, как я и надеялась, столпились вокруг вазы, в которой действительно начала вибрировать, ползти, и вот уже — медленно вращается серебряная ложка, словно щепка в водовороте.
Вот заговорили последние часы, Иуда. Костлявая фигура в рясе подняла сложенные ладони вверх, словно призывала с небес наказание на грешные головы.
Вдруг одна из ваз, которые мне не понадобились, разлетелась на кусочки. Люди, стоявшие в кругу часов, начали поздравлять друг друга… Они не обратили внимания, что разбитая ваза стояла не в круге, как должно было быть согласно письму лекаря, а вне круга… Но их сознание, по-видимому, понемногу мутилось… Как и мое. Я медленно отступала к Юрасю, чувствуя инстинктивно, что только там спасение… Ближе… Ближе… Вот я уже рядом с ним… А комната будто качается… И звон… В ушах, в голове, и будто бы душа в такт с ударами сжимается и пульсирует…
Я все-таки это сделала. Запустила древнюю машину смерти.
— Прижмись ко мне! Слышишь, Анета! Сюда, за меня прячься!
Голос кричал совсем рядом, но я не понимала смысла слов. Бешеная, дикая сила тянула меня куда-то… Потом я осознала, как хорошо, что Юрась был прикован наручниками. Хотя, может, на него, такого сильного, и мощь часов не подействовала бы. Она — для слабых, охваченных жаждой смерти…
Юрась прижал меня к стене всем телом. Но я все рвалась, меня затягивал водоворот… И только прикосновение к губам вернуло сознание. Юрась целовал меня, словно хотел в поцелуе отдать всю свою жизнь… И эта сила оказалась сильнее безумного водоворота. Сейчас для меня существовал только мужчина рядом, его горячие губы, биение его сердца, его дыхание… Я ухватилась за Юрася, словно тонула.
Не знаю, сколько мы так простояли. Время перестало существовать. Наконец я поняла, что вокруг — тишина… Часы замолчали. Только какой-то странный ритмический шорох и глухие выкрики. Я осторожно отстранилась от Юрася, выглянула из-за его плеча. Ноги мои подогнулись от увиденного… Юрась тоже посмотрел назад и вздрогнул:
— Пресвятая Богородица…
Никогда не забуду того зрелища. Даже сейчас, стоит мне закрыть глаза, я могу восстановить его в деталях. Сплетенные руки, глаза, которые словно смотрят внутрь черепа, оскаленные лица… Безумный хоровод вернулся. Теперь для тех, кто танцевал в нем, не имело значения, кто кому служит, кто над кем властвует. Из уст, что не знали слов молитв, срывалось что-то дикое, похожее на “Гу! Гу!”.
— Как снять наручники? — задыхаясь, спросила я у Юрася. Тот, все еще не в силах оторваться глазами от кошмарного зрелища, пробормотал:
— Ключи где-то должны быть… Может, вон там, на столике…
До сих пор не понимаю, как мне удавалось что-то осмыслять… Все делалось, как во сне, когда самые невероятные, чудовищные вещи кажутся естественными. Преодолевая воздух, как топь, я приблизилась к столику, на котором те, что этой ночью ломали волю непокорного мастера, разложили свой незамысловатый завтрак. Кофеварка, чашки с недопитым кофе, тарелка с вишнями, бутерброды с ветчиной, бутылки с минеральной водой, пачки сигарет… Мне сразу вспомнились протоколы допросов инквизиции, где в описании процесса пытки повторялись вставки о том, что палачи сделали перерыв на “перекус”. Среди перечисленных мирных предметов валялись другого рода атрибуты “вечеринки”: ампулы и не распакованные шприцы, металлическая штука, в которой я угадала электрошокер, еще одна пара наручников… К счастью, были и ключи.
Я отомкнула наручники. Юрась пошатнулся и упал. Но приподнялся, встряхнул головой.
— Воды …
Я бегом принесла ему бутылку минералки. Юрась жадно отпил, остатки вылил себе прямо на голову. Обтер лицо и с трудом встал на ноги. Слава Богу, кажется, может идти… В углу я подобрала его скомканный свитер. Куртки висят внизу…
— Давай скорее отсюда! — я потянула Юрася за руку в сторону двери, стараясь не смотреть на безумный хоровод.
Юрась устремился за мной, но в дверях задержался, опершись о стену рукой, украшенной, поверх старых шрамов, целой коллекцией новых.
— Нет, я не могу так уйти.
— Что ты тут забыл? — нервно спросила я.
— Понимаешь, если то, что касается часов, правда… А я думаю, что это правда… То эти люди будут бежать, пока не умрут.
— И… что?
— Я не могу этого допустить.
Я растерянно остановилась, глядя на изможденное лицо Домогурского, и с отчаянием понимала, что мои возражения не будут иметь силы. Но все-таки попробовала.
— Откуда ты знаешь, что они умрут? Набегаются, рухнут, отлежатся… Мне так вообще кажется, что они каждый миг могут опомниться. Что тогда с нами будет? В конце концов, они с тобой такое вытворяли… Почему ты должен о них заботиться?
Но Юрась уперся.
— Я должен это остановить.
О, Боже…
— Как только ты это остановишь, танец смерти начнется для нас.
Домогурский упрямо свел брови.
— Я не могу допустить, чтобы они умерли.
— Послушай…– я мучительно искала выход. — Ну давай хотя бы подождем, пока они… не смогут нас преследовать.
Реставратор задумался.
— А… сколько времени должно пройти?
Я постаралась говорить уверенно, будто знаю.
— Ну, марафонский забег сколько длится? Часов пять? Шесть? Правда, эти, в хороводе, бегут очень быстро… Но, думаю, за час с ними ничего не случится. В таких… анормальных состояниях организм приобретает чрезвычайные свойства. Через час можно попробовать… Зато они какое-то время будут недееспособны и мы сможем уехать. Хотя напомню, что средневековые пляски смерти тем и отличались, что безумцев не мог остановить никто, никакая сила. И… что ты будешь делать с тайной? Или ты зря тут геройствовал, и все равно этому сброду все отдашь?
Юрась еще раз взглянул на хоровод, что вращался в окружении темных чудовищ, которые будто издевательски наблюдали за одержимыми, решительно сказал:
— Пошли… Я знаю, что делать.
Мы поднялись на “господский этаж”. Юрась направлялся к комнате с Колывановскими коллекциями, только немного пошатывался на ходу. Я едва успевала за ним со старым свитером в руках. Правда, оказавшись у дивана, накрытого белым мехом, Домогурский все-таки решил позволить себе выйти за рамки воинствующего стоицизма и рухнул. Я едва успела подхватить его, чтобы снова не упал на пол, и помогла улечься на диван.
— Ничего… Я сейчас… — это Домогурский еще пытался убедить меня и себя, что он в порядке. С ума сойти…
Я пробежалась по комнате — здесь Колыванов, похоже, проводил дольче фа ньентэ, часы чудесного ничего-не-делания, с помощью, кроме всего прочего, шикарной коробки с немецким шоколадом и коллекционных коньяков. От коньяка Юрась отказался. Бог его знает, что за гадость в вены вкалывали, от одной — сознание отключается, от второй — мышцы рвет, словно клещами, аж суставы выкручивает, неизвестно, как оно с алкоголем будет сочетаться? Лучше использовать как антисептик…
Откупорил черную матовую бутылку с золотыми буквами, поднял и… вылил себе на израненную спину.
Шут гороховый!
Минуты, выигранные нами у судьбы, тянулись целую жизнь. Декорации отменные. Пустой дом, набитый красивыми вещами — казалось, потряси его, загремит, как сундук, набитый костями. В подвале кружился безумный хоровод и тикали средневековые часы.
Юрась потянул меня за руку и заставил прилечь рядом. Совсем близко оказались его синие глаза, обведенные темными кругами усталости.
— Откуда ты узнала секрет часов, малышка?
— Приснился… — обстоятельства, в которых мы находились, были такими фантастическими, что мой фантастический ответ Юрася полностью удовлетворил.
— Почему ты приехала?
Я иронично приподняла брови.
— Догадайся с трех раз.
Он, видимо, догадался с первого. Потому что опять поцеловал меня. Привкус смерти придает поцелуям особую силу. Когда-то я любила водить своих кавалеров во время первого свидания на старые городские кладбища. Испытание выдерживали не все. Домогурский, в принципе, тоже… Заявил мне, что целоваться над чужими могилами — грех, и увел в соседний скверик… Который, по сути, тоже был когда-то частью кладбища.
Господи, что мы наделали одиннадцать лет назад… Нас ждала наша любовь, как нарядный праздничный торт. А мы, как несмышленые дети, накануне праздника пробрались в гостиную и отхватили по неряшливому кусочку с цветами из крема, безнадежно испортив торжество.
— Прости меня, Анета…– мучительно проговорил Юрась. — Должен признаться — ведь я из-за своего эгоизма втянул тебя в это дело. Понимаешь, увидел тебя на рынке… Вот и захотелось как-то найти повод для дальнейших встреч. Хотя права никакого не имел в твою жизнь возвращаться. Не могу себе простить…
Я представила, а что, если бы он действительно не пришел в мой дом… И не перетерпела бы я боли и страха последних дней, и было бы у меня все тихо и спокойно… И меня аж передернуло от такого представления. Я погладила мужчину по небритой щеке со шрамами и произнесла слова, которые, была убеждена, не вымолвлю никогда и никому:
— А зачем мне жить без тебя?
Бомм… Стекло в шкафах тонко задрожало. Часы продолжали тщательно считать время, и в их голосах мне слышалась зловещая радость.
Юрась с трудом встал, натянул свитер и двинулся к стене, украшенной багровым пушистым ковром, на котором было развешано старое оружие — словно оставшееся после битвы на залитом кровью лугу. Поколебавшись, Домогурский снял с креплений алебарду, такую же, как у карточного крестового валета. Начищенное лезвие блестело, как новенькое. Но, по моему убеждению, металл, который отбирал жизни, никогда не будет выглядеть нормально. В лезвии алебарды отражались те века, когда она было оружием смерти. И Юрась выглядел, как настоящий рыцарь… Последний рыцарь…
— Пошли в мастерскую…
…Они все еще бежали по кругу, на губах — белая пена, хриплые голоса ритмично выкрикивают что-то… Юрась подошел к одним из часов, молча посмотрел в их нечеловечески равнодушное латунное лицо и изо всей силы ударил в него алебардой.
Никогда еще антиквариат не уничтожался с таким пылом. Юрась валил часы на пол, как смертельных врагов, оттаскивал в сторону, разбивал их железные внутренности… Я тоже помогала, как могла, взяв какой-то молоток. Детали брызгали во все стороны, как дождь Апокалипсиса. Рвались веревки из овечьих кишок… Катились колеса, будто отрубленные головы… Скоро тиканье смолкло. А хоровод все танцевал. Я старалась не смотреть… Это было слишком ужасно… Но детали врезались в память. Лиля потеряла один туфлю, на босой ноге порвался черный ажурный чулок, и мелькала ярким пятном розовая пятка. Правый глаз Макса почему налился кровью… Щеки толстого охранника трясутся, словно кошелек в скупой руке…
— Что делать? — крикнул мне Юрась.– Как их остановить?
Я растерянно пожала плечами. Если лунатика внезапно разбудить, он может и умереть…
Вдруг Юрась решился и изо всех сил толкнул толстяка… Буквально повис на нем. А тот словно не замечает. Несет на себе неожиданную преграду, как медведь, в которого вцепилась молодая борзая. Наконец Юрасю удалось повалить одержимого. Какое-то время толстяка тянули за собой другие, но движение замедлялось. Люди падали, но их ноги продолжали танец, губы что-то выкрикивали…
Юрась переступил через тела, взял стеклянный шар и ударил им об пол, как выпитую на посошок чарку.
— Все… Благодарю за гостеприимство.
На прощание я достала из кармана джинсов конверт с деньгами и сыпанула зеленые бумажки на разбитые часы.
Юрась совсем выбился из сил. Я едва смогла довести его до остановки… Но я уже знала, что никогда не оставлю этого человека. И горе, и болезнь, и ложе — все пополам…
Горя хватало — похороны Стеллы. Юрась все-таки любил ее… Мне пришлось взять на себя много хлопот. Тем более, что Юрасю становилось дурно, особенно по ночам, он кричал от боли, бредил… Видимо, последствия тех “ампулок”, что ему вкололи во время допроса в Людвисарово.
Тень Стеллы не стояла между нами. Я просто иногда чувствовала, как будто она грустно наблюдает со стороны, и ее темные глаза блестят в ночном окне не ревностью или злобой, а добродушным сочувствием. Она будто вместе со мной беспокоилась за Юрася, как когда-то он тревожился за нее. И помогала мне ждать его…
Я ждала его весь вечер… Это должен был быть особенный вечер. Мы договорились, что по окончании сорока дней после смерти Стеллы он переберется жить ко мне насовсем.
Я сидела у окна всю ночь, и лучи фар каждого случайного автомобиля словно разрезали мое сердце на две половинки, а скрип снега под ногами редких прохожих казался землетрясением. Юрась не пришел. Утром я начала искать его… Никто не знал, куда он делся. Его мать сообщила, что он действительно собрал вечером вещи и пошел ко мне (“нашел к кому, разве мало на его веку хватило неудачниц,” — читалось в заплаканных глазах матери).
Родственники обратились в милицию… Но Домогурского так и не нашли, как не нашли убийцу Аркадия. Я пыталась в отчаянных поисках выйти на хозяев Людвисарово, но тщетно. Колыванов уехал, доходили слухи, будто в России его пытаются засудить за денежные махинации. Баркунова вдова тоже исчезла, не справив сорочин по убитому супругу, не открыв музея его имени. Ресторанчики и магазины на площади Старовежска обслуживают дальнобойщиков, а башня стоит пустая, смотрит слепыми окнами-глазницами, как поднятая из саркофага мумия. Сколько я бродила вокруг Людвисарово, пытаясь что-то узнать… Но там теперь всегда темно и безлюдно, как в пустом подвале. Юрась пропал бесследно.
Я до сих пор его жду.
Кстати, вернулась в журналистику. Работаю в издании, которое то закроют, то оно снова откроется под другим названием. Но после истории с часами я перестала чего-то бояться.
Не боюсь и своих снов. Даже научилась их записывать и превращать в литературные произведения. Их печатают, читатели хвалят, критики не замечают…
Иногда, когда я включаю телевизор, не могу отогнать мысли, что где-то рядом с увиденным тикают часы Бернацони… Летит безумный хоровод… Держимся мы все за руки, живые и покойники, и управляет нашими плясками кто-то невидимый и беспощадный, жаждущий власти. Но я знаю, что всегда можно удержаться от безумной пляски. И не обязательно для этого прятаться в свою ракушку. В каждой ракушке — звучит море, в каждом камне и в каждом васильке — живет Беларусь.
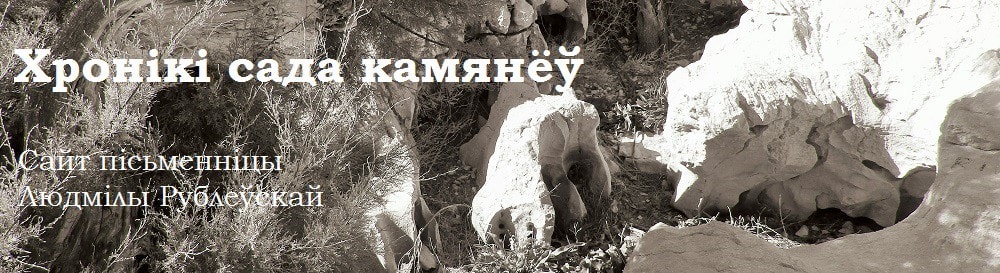

2 каментарыя
Людміла, дабранач! Я не мастачка даваць водгукі, але тут не магу стрымацца) Гадоў 10 назад мне трапіла ў рукі 1я кніга пра Пранціша і доктара Лёдніка, набыла ў краме так, па малюнку на вокладцы і беларускай мове. І гэта здарылася мая шчырая любоў))) Да усіх герояў! Пачуцці нават мацнейшыя, чым да Алеся Загорскага, які да гэтага часу стаяў на маім алімпе беларускіх герояў)) пяць кніжак чытала перачытвала і папяровыя, і набытыя ў інтэрнэце некалькі разоў.
І вось, перачытваючы каторы раз, даведалася, што ёсць ужо і 6я, і 7я кнігі. 7ю знайшла у краме, пабягу заўтра набываць, а 6ю толькі на вашай старонцы, дзе і збіраюся чытаць, хаця з задавальненнем бы набыла папяровую, ці спампавала за грошы.
Чытаць вашыя раманы – гэта проста песня, асалода для душы!!! Мова, героі, здарэнні з імі, іх характары – чытаю, а, здаецца, гляжу кінастужку, такое ўсё жывое і натуральнае!
Здароўя вам, дабрабыту і плёну ў вашай выдатнай працы!!!
Дзякую за добрыя словы!)