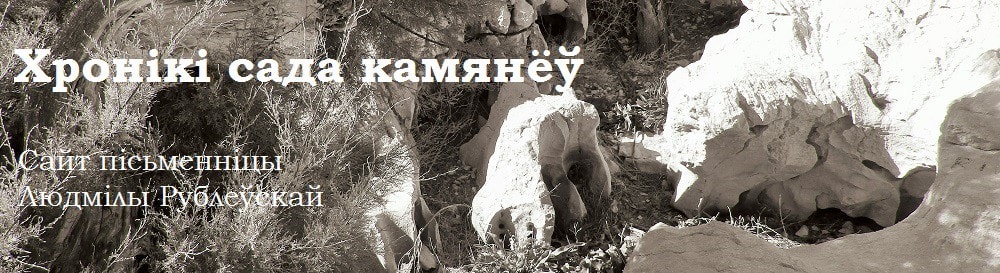Молчание муз
 У Владимира Высоцкого есть песня о сумасшедшем доме, которая начинается так: «Сказал себе я: «Брось писать». Но руки сами просятся».
У Владимира Высоцкого есть песня о сумасшедшем доме, которая начинается так: «Сказал себе я: «Брось писать». Но руки сами просятся».
О том, что «руки сами просятся», — не преувеличение. Если человек «подсел» на литературный труд, это все равно что на наркотик. Хотя слово «графомания» изначально не имело отрицательного смысла, ибо обозначает всего лишь «любовь к писательству». И мания эта присутствует в той либо иной степени у всех литераторов. Как иначе объяснить появление объемистых собраний сочинений?
Но, оказывается, есть писатели, которые с манией своей борются. И даже вполне успешно. Не так давно мы публиковали интервью с российской поэтессой Мариной Кудимовой, на долгие годы ушедшей в «творческий затвор» вместе со многими из поколения поэтов–«девяностников». Кудимова объясняла свое молчание тем, что поколение попало в «щель между эпохами», не получило должного количества публикаций и внимания публики, и вообще — их замолчали. Белорусские литераторы каждый по–своему комментировал ситуацию «литературной паузы». Кто говорил, что причина — новые ритмы времени, нет уединения, необходимого для восприятия серьезной поэзии, и поэты, лишенные читателя, впадают в депрессию. Другие замечали, что с распадом СССР литература перестала быть профессией, а литераторам тоже надо семьи кормить, вот и переквалифицировались.
Недавно появилась статья белорусского критика Павла Абрамовича, в которой он рассуждает о том, что и многие белорусские литераторы последних десятилетий, блеснув одной книгой, одним произведением, переставали писать. Иные — громко заявляя о своем решении, как поэт Леонид Голубович, другие — тихо переиздавая старые произведения. За разгадкой явления критик обращается к известной книге испанского писателя Энрике Вила–Матаса «Бартлби и компания». Бартлби — это писец из повести Германа Мелвилла, который ничего не читал, никому ни о чем не рассказывал, на все предложения отвечал: «Я бы предпочел отказаться». Синдром Бартлби в литературе согласно Вила–Матасу — это стремление к неписанию, «стремление к ничто», «направление Нет». П.Абрамович утверждает: «Никто из ныне живущих белорусских литераторов, примкнувших к лагерю «Нет», не признался и не признается в этом. «Тайна великая сия есть». Да и зачем объяснять что–либо, если читатели все равно окажутся не способны понять главного: куда и зачем ушли писатели и поэты. Читателям только новые книги подавай здесь и сейчас, словно ты, литератор, работаешь на конвейере, а если их нет, этих книг, то на тебя сразу нацепят ярлыки: «исписался», «кончились идеи», «он никогда и не был настоящим писателем» и так далее в том же духе. Да и критики, которые вечно чего–то требуют от писателей (например, возродить белорусский роман), тоже никогда не смогут осознать многогранность и важность происходящего».
Итак, почему писатели перестают писать или вообще не берутся за перо? Шамфор, покончивший с собой из–за разочарования в революции, так отвечал на этот вопрос: «Потому что у публики, на мой взгляд, безнадежно дурной вкус и ей свойственно стремление к очернению. Потому что работать мы заставляем себя по той же причине, по какой, высовываясь из окна, жаждем увидеть на улице обезьянок и медведей с дрессировщиком. Потому что не желаю уподобиться литераторам, которые похожи на ослов и которые, как ослы, толпятся и дерутся у пустой кормушки…»
Помню прелестный рассказ о старом художнике, который одержимо работал над идеальной картиной, однако ученики увидели только хаос разноцветных мазков на холсте, хотя мастер уверял, что там, как живая, — красавица. Но потом кто–то заметил в углу картины нарисованный кусочек ноги… И все поняли, что мастеру действительно удалось создать идеальную картину. Но он, подняв планку на невиданный уровень, не сумел вовремя остановиться, и его шедевр для обычных глаз погиб под слоем доработок…
Страх несовершенства, творческой неудачи многих отпугивал от творчества. Вила–Матас рассказывает историю молодой латиноамериканской писательницы, которая приехала во Францию и начала писать роман. В то время была модна теория «шозизма», согласно которой нужно писать романы без сюжета, скрупулезно описывая мелочи, например наклейку на бутылке с минеральной водой или точилку для карандашей… И начинающая писательница решила, что без шозизма не обойтись. Она проштудировала все книги по теории «нового романа», труды Барта и Соссюра, боясь показаться «отсталой провинциалкой»… Но при попытке продолжить писание в новой манере роман застопорился. И чем больше она углублялась в то, как нужно делать текст, чтобы он был актуальным и продвинутым, тем меньше ей удавалось что–то написать… Так ее и поразил «синдром Бартлби».
Увы, в некоторых литераторах убивает дух писательства как раз таки осознание собственного совершенства. Если ты уже достиг вершины — что еще можешь подарить миру? Подобные приступы у истинных гениев случаются тоже, но обычно перемежаются состоянием неуверенности… К счастью для литературы. Ведь писатель никогда до конца не знает цену тому, что написал и что будет им написано. В 1827 году в типографии Кальвина Томаса в Бостоне было отпечатано 40 экземпляров брошюрки, называвшейся «Тамерлан и другие стихотворения». Имя автора звучало скромно: Бостонец. Мистер Томас так и умер, не узнав, что эта книжечка, ничем не примечательная по содержанию, принадлежала перу Эдгара По, снискавшего впоследствии огромную славу и забывшего о своем неудачном дебюте в Бостоне. А если бы Эдгар По в то время решил, что «Тамерлан» — вершина творения, лучшего он не напишет, да и тупые читатели все равно не поймут его изысков?
Русский писатель Михаил Анчаров говорил, что искусство тем и отличается от ремесла, что у ремесленника есть образец, его можно повторить, а в искусстве образца нет, есть только горизонт, куда можно идти…
В ситуации молчания есть и много удобного… «Может создать шедевр, просто не хочет» — имидж салонного гения, высмеянный многими юмористами. А молчание писателя, уже заявившего о себе, как Сэлинджер, заставляет иногда говорить о нем более, чем появление новых произведений у прочих… Главное — грамотно подать! Но далеко не всегда в таких случаях имеет место проявление особого «духовного аристократизма»…
Иногда молчание наступает очень рано… Как у Артюра Рембо. Словно весь отведенный потенциал выплеснулся за короткое время. С другой стороны, Владимир Высоцкий как–то сказал в интервью: «Человека всегда нужно вовремя, в какой–то определенный момент подхватить, поддержать. Я знаю, что очень много талантов погибло из–за того, что не представилось подходящего случая. Правда, иногда надо «подставиться» под случай, как мишень под пулю, но сам случай должен быть. Кто–то должен проявиться, кто–то должен обязательно поддержать, чтобы ты почувствовал: то, что делаешь ты, нужно!»
Впрочем, современные редакторы частенько воспринимают бесчисленных и настойчивых начинающих писателей, как героиню фильма «Служебный роман»: помните, была там такая активистка, которую однажды выдвинули на общественную работу, а потом забыли задвинуть… «Пишут все — не только ленивые за тунеядцев, но и грибы за Пелевина», — замечает блогер. В интернете функционирует аж несколько инструкций, как бросить писать. Почему наш человек начинает писать — тоже исследовано: «нас начинают зомбировать еще в яслях: читать, считать… и писать!.. Растет наш малыш, вкушает язык и литературу по 5 раз в неделю, потихоньку начинает понимать, что великих ученых в мире гораздо меньше, чем их жертв, зато библиотеки трещат по швам от продукции тех, кого когда–то широко признали. «И эта нудятина и есть шедевр мировой классики? — возмущается наш неокрепший маргинал. — Да я в сто раз лучше напишу!» А потом наш малыш открывает собрание сочинений Дарьи Донцовой и понимает, что Шолохов по сравнению с ней — агнец непорочный. И к 16 годам в окрепшем гормональном организме формируется катастрофическая идея: писать — легко, пишут все, памятники писателям куда не плюнь, и самое главное — ради этого не надо учиться играть на скрипке!!!»
Увы — хороший писатель может подхватить «синдром Бартлби», уйти в затвор. Но среди плохих подобных духовных изысков не наблюдается. У них другие проблемы: добиться публикации, наказать придиру–редактора… Иногда они действительно становятся несчастными, так и не получив достойной оценки «дела всей жизни» и так и не поняв почему.
Среди «радикальных способов бросить писать и начать жить» есть такие:
«Немедленно бросьте читать. Чтение и письмо — как питие кока–колы: чем больше поглощаешь, тем больше хочется выплеснуть».
«Станьте редактором. Да, читать при этом придется в 10 раз больше — однако с каждой прочитанной рукописью писать вы будете все хуже и хуже и лет через пять разучитесь окончательно».
«Понаблюдайте за белкой в лесу. Она счастлива, и она при этом ничего не пишет».
«Понаблюдайте за писателем. Он несчастен, и он продолжает писать. И ему никогда не стать белкой»…
Доходит до забавного… Некий Аллен Карр прославился книгой «Легкий способ бросить курить». Позже он создал шедевр «Легкий способ бросить писать», для чего ему пришлось всего лишь в предыдущем своем опусе заменить «курить» на «писать» — 549 слов, «курение» на «писание» — 447 слов, «курю» на «пишу» — 46 слов, «сигареты» на «стихи» — 266 слов, «курильщик» на «поэт» — 643 слова и «никотин» на «поэзия» — 323 слова.
Никто не может заставить поэта взяться за перо… Попытки были, но результаты плачевны: известно, как Янка Купала жестко оценивал свои «дрындушки», написанные для прославления нового строя. Замолчать же писатель может по многим причинам. Что ж, литература — это «слова, слова, слова»… Но и бесконечно больше.
Но самое грустное — когда книги молчат, потому что их не читают. Стать великим читателем — это тоже талант, сегодня массово утрачиваемый.