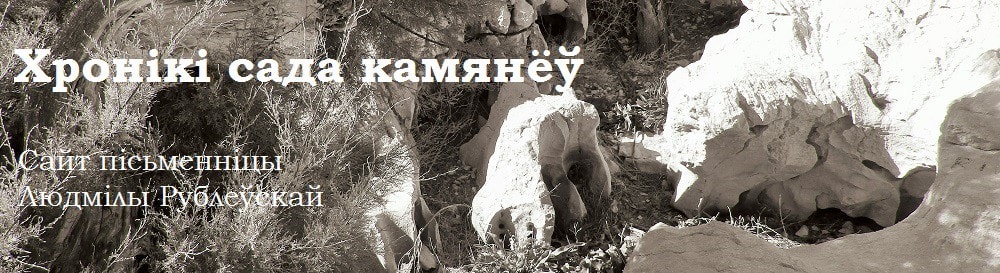Людмила Рублевская
НОЧИ НА ПЛЕБАНСКИХ МЕЛЬНИЦАХ
Мистическая повесть

Возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что на дороге, по которой возят мертвых, даже трава и деревья меняют цвет.
Густаво Адольфо Беккер
Этот дом построил безумец в безумном месте.
И не было лучшего дома и лучшего места в этом безумном времени.
Огонь добрался до серебряной ленты, которая нежно обвивала свечу из белого душистого воска, произведенного не иначе как пчелиной королевой (хотя нет, королевы не производят воска, даже такого белого). Лента сразу сжалась, почернела, обнаруживая родство не с благородным металлом, а с бумагой, терпеливой, как потомственная прислуга, и такой же покорной любому хозяину… От нее льстиво потянулась струйка черного вонючего дыма, напоминая неискренний восклицательный знак в конце политического лозунга.
— И это свадебные свечи! — укоризненно проговорила Дорота, гася пожелтевшей серебряной ложкой для чая блестящую бумажку и пытаясь отодрать ее остаток от воскового стебля.— Представьте себе, как такой дым выглядит во время венчания!
— Как предупреждение — наивным,— мрачно сказал пан Белорецкий, лысоватый брюнет в очках на веревочках, бывший стипендиант Императорской Академии, фольклорист и любитель частного сыска.— В каждой красоте во время испытания огненной стихией выявляются примеси… С запахом самого обычного животного страха за существование. А впрочем,— пан Белорецкий повернулся всей своей тощей, неуклюжей фигурой в сторону окна,— у нас где-то была еще целая связка погребальных свечей. Ты, Влад, приносил…
Сидевший у окна высокий юноша с красивым надменным лицом, одетый в поношенный сюртук, отозвался ленивым голосом, в котором чувствовались интонации преданного последователя декламаторской манеры Шверубовича (белорусского парня из Вильни, известного в Империи как Василий Качалов).— Были где-то и погребальные… Случилось пройтись мимо церкви, которую под склад экс-пропри… Господи, это же произнести невозможно… Два свертка у комиссарской телеги и подобрал, прости Господи. Свадебные свечи и… похоронные. Эти, кажется, Доротка в комод положила…
Дорота повернулась, блеснула огромными темными глазами, в которых посетители вечеров Общества любителей изящных искусств видели когда-то отражение образов Рафаэля и Боттичелли.
— Никаких погребальных свеч! Это… Это уже слишком. В отличие от вас, пан, театральные эффекты не ценю.
— Паненка предпочитает применить лучину? — язвительно произнес Влад и добавил со вздохом:— Впрочем, если кто-нибудь из нас не устроится на работу, перейдем и на лучину.
Пан Белорецкий презрительно хмыкнул насчет самой мысли устройства на работу. За окном плеснулась вода, словно дом был огромным кораблем…
Влад прижался лбом к стеклу, вгляделся в темноту.
— Не спадает паводок…
— Вот и хорошо…— устало сказала Дорота, разливая в фарфоровые чашки напиток с ароматом можжевельника, вереска и осенних яблок — и точно из того же сваренный.— Значит, у нас есть еще несколько дней. А потом…
Она замолчала, поскольку что будет потом — знали все… Дом бывшего директора реального училища, отца Дороты, деревянное старинное здание с мансардой и резными колоннами, потемневшее от времени, словно лицо извозчика, заберет новая власть ради насущных, конечно же, потребностей рабочего класса. К последнему директора реальных училищ не причислялись. Господин директор давно перебрался к родственникам в Лошице, а дочь решила остаться, устроив своего рода коммуну из близких друзей, которых время так же оторвало от берегов и разметало па холодных волнах… Да еще двоюродный брат отца, пан Белорецкий, что уехал из Петербурга, оставив на дорогах военного коммунизма чемоданы, пальто и веру в справедливость, прибился к молодой компании…
Волны у Плебанских мельниц тоже были холодные — Свислочь и Немига, разлившись, превратили центр городка в настоящую Венецию, и лодка минчанина, привычного к переменчивому настроению и губернаторов, и стихий, скользила рядом с крышей вагона конки, которая едва виднелась над грязными волнами… Этот дом в очередной раз стал независимым островом — а те, что собрались здесь, умели ценить временную свободу… Они даже отпустили по студеной воде единственную старую лодку — чтобы не было соблазна.
— Наш ковчег еще не доплыл до Арарата! — с мансарды спускался чернявый парень, держа в руках стопку старых газет, онемевшее эхо старого мира, которое больше никто не хочет услышать.— Поэтому не забывайте, мое имя — Ной, и вы должны признавать меня капитаном.
По лестнице стремительно спускалась тоненькая рыжая девушка в коричневом платье, перешитом из форменного гимназического, но совсем не похожая на миндальную гимназисточку — короткая стрижка, в прищуренных глазах — зеленый огонь, как у рыси, а руки, такие тонкие и деликатные — исцарапаны, словно она игралась с капризными котятами. В руках девушка держала два бронзовых подсвечника.
— Вот! Хочу, чтобы этой ночью было светло, как на прежних балах!
Влад хотел было встать, чтобы перехватить тяжелую бронзу из девичьих рук, но сдержался и нарочито равнодушно уставился в темное стекло.
Как ни противилась темноглазая Дорота, но похоронные свечи, на этот раз из желтого, как мумия, воска, были найдены, лишены черных лент и зажжены…
Обитатели дома, отрезанные от мира паводком, уселись вокруг стола. Вересковый чай, сухари, свет погребальных свеч и ветер за окнами… Что еще нужно молодым, чтобы забыть о несправедливости сурового времени?
— Пан Белорецкий, расскажите какую-нибудь страшную историю! — попросила рыженькая Зося.
Фольклорист блеснул светлыми глазами из-под треснувших очков.
— Чем страшнее время — тем приятнее слушать выдуманные ужасы… Как будто тьма по сравнению с еще большей тьмой на миг покажется светом. Мое условие: рассказываем все, по очереди.
Влад лениво возразил:
— А если я никакой мистики не знаю? И вообще материалист…
Белорецкий только усмехнулся.
— А фантазия зачем, молодой человек? Вы же — артист, в тени на стене должны увидеть и Отелло, и Сигизмунда Августа… Мифы, предания, легенды — это воздух, которым дышит каждый город. Это влажный мох на стенах домов, что всползает по ним, будто проказа. Паутина в углах замурованных три поколения назад комнатах, влага, которая по капле просачивается из черного свода подземелья, вымыв в каменном полу ямку, где может спрятаться огромная жаба… Это вездесуще и неистребимо… Я знаю случаи, когда кто-то придумывал легенду о своем городе, а она сбывалась, и в подвалах солидного купеческого дома находили замурованный скелет, а на башню каждый год, в одно и то же время, прилетал белый голубь…
— Неужели в этом забытом Богом городке, с маленькими грязными улочками и лужами, глубокими, как шляпа смотрителя кладбища, где фонарей меньше, чем домов, вы поселите романтические легенды? — недоверчиво спросил Ной.— Я вырос здесь, но руины, на которых мы играли малышами, напоминали только о мрачной и несчастной судьбе распятого на перепутьях истории края…
Фольклорист задумчиво глянул за черное окно.
— Неведомое заглядывает даже в эти окна… Стоит только всмотреться, вслушаться… Неужели вы, пан Ной, никогда не сталкивались с чем-то необычным?
Ной взъерошил ладонью короткие черные кудри, словно торопил ход воспоминаний.
— Ну, разве что история со старой аптекой…— неопределенно протянул он.— Но я был так мал, что, видимо, все перепутал в памяти.
— Все равно, расскажи! — приказала рыжая Зося.— А то строишь из себя какого-то Базарова. А на твоих картинах краски сказками шепчутся.
Ной бросил быстрый взгляд на девушку и, насколько можно было рассмотреть в тусклом свете погребальных свечей, покраснел.
— Ну, хорошо. Только не смейтесь… В этой истории я совсем не романтический герой, а обычный малолетний озорник из местечка, в коротких штанишках и пиджаке старшего брата с заштопанными локтями, с сонмом фантазий в глупой голове…
— Рассказывай, рассказывай! — повторила Зося, и Ной, виновато улыбнувшись рыженькой шалунье, начал…
История о старой аптеке
Все знают аптеку в Троицком… Ту самую, что по милостивому привилею ясновельможного пана Августа III открыл в 1748 году член минского магистрата пан Ян Давид Шейба. Когда я был маленький и часто бегал в это старое здание из потемневших от времени камней,— казалось, будто его подняли со дна моря,— почти никто там уже не помнил былых травников, что толкли сухие цветы и корешки в медных ступках, составленных на полках у самого потолка, да перегоняли разноцветные жидкости по ретортам из толстого, словно рождественский лед, стекла… Мы приносили в аптеку собранные по помойкам, выпрошенные у хозяев пустые бутылочки из-под капель и микстур, зеленые, синие, оранжевые, сквозь которые так весело смотреть на мир, и получали свои медяки, а желающие — еще и рассказы аптекаря Йозефа… Он был уже так стар, что хозяин не допускал его рассчитываться с покупателями — это делал аптекарь помоложе. Казалось, Йозеф живет во времена талеров и шелегов, забытый там, как домовой в старом доме. Никто не помнил, когда он начал работать в аптеке, не было у него ни родственников, ни людей, которые могли назваться его друзьями. Жил в каморке в аптечном подвале, с маленьким окошком у самой земли, забранном решетками, словно в тюрьме, да еще постоянно завешанном занавесками. Поскольку из-за тех занавесок доносились разные странные запахи, а иногда выбивались клубы вонючего дыма, можно было понять, что Йозеф и в своей конуре продолжал делать лекарства. Руки Йозефа мелко тряслись, казалось, он просеивает сквозь пальцы невидимый песок времени. Но его — это я уже сейчас понимаю — не увольняли, потому что он обладал особым даром составлять специальные отвары… Хоть от прострела, хоть от меланхолии, хоть для отбеливания кожи, хоть для прояснения ума нерадивого гимназиста перед экзаменом по латыни. Как сейчас вижу Йозефа в темном углу на противоположной стороне прилавка — очки подвязаны засаленными веревочками, узкое темное лицо, словно вырезанное мечом, нос в синих прожилках, запавшие щеки и поджатые в ниточку губы, черная шапочка на лысой голове, из-под которой выбиваются редкие седые пряди, напоминающие перья больной птицы… Наклонился над ступкой, тщательно растирает ее содержимое тяжелым пестиком, добавляет, обрывая 10 с жестких букетов, подвешенных на стене, то листик дурмана, то корешок девясила, то невесомый лепесток мечника, то подсыпает из фарфоровой банки щепотку порошка цвета мертвой воды… Стоило встать около старика — и он начинал рассказ, будто тень твоя, упав на него, разбудила поржавевший, но все еще действенный механизм. Рассказы повторялись, расцвечивались, переливались мелкими деталями, как расшитый жемчугами и самоцветами корсет сказочной королевы… Мы были маленькие и глупые и мало что запоминали, только посмеивались.
Чаще всего Йозеф рассказывал о Яне Давиде Шейбе, первом владельце аптеки, и его травнике, которого также звали Йозеф. И вот что я могу вспомнить… По рассказам Йозефа его тезка из 18-го века был смуглый и черноволосый красавец, учился своему мастерству в Праге и Сорбонне, и неизвестно где еще… Но, отмечал с затаенным вздохом рассказчик, был тот Йозеф не слишком умным, так как верил, что человек может знать больше, чем поместится в лотке сеятеля, и оставаться счастливым… Если бы родился он рыцарем — славный оказался бы воин и кавалер.
Но Йозеф в детстве бегал в коротенькой рубашке, босиком, по грязной брусчатке местечка, и отец никогда не вкладывал ему в руки рукояти меча, только отполированную до блеска ручку сапожницкого молотка. Однако Йозеф, получив золотую докторскую цепь на шею и бархатный плащ на широкие плечи, не хотел об этом помнить. Как будто человек может разорвать суконную нить своего рода и вплести судьбу в чужие блестящие кружева. Рассказывали, что даже Август III, бывший курфюст Саксонский, в бытность свою королем Речи Посполитой, посылал в аптеку Шейбы за лекарством от ожирения — его величество был толст, как перестоявшаяся кадка с тестом. Конечно, поговаривали, будто не только обычные лекарства готовит Йозеф, но понятны ему разговоры звезд и трав, и корона Лесного короля зашита в его черном кафтане, напротив сердца…
И вот как-то на Сретенье посетил Йозефа еще один вельможный клиент, маршалок и староста минский Завиша. Приключилось со знаменитым воителем то же, что испокон случается с мужчинами, чьи волосы увила серебряная паутина, морщин стало больше, чем шрамов, а сердце забыло постареть. И сердце свое он готов был положить под острый каблучок любушки-голубушки, если бы не боялся, что она и наступить на него побрезгует. Дочь городского советника магистрата Югася имела шестнадцать лет, кожу белоснежную, щечки алые, глаза темные, стан в обхват ладоней — все, как требовала мода того времени от красавиц. Казалось, она может пробежаться по мутным волнам Свислочи, как лунный луч. Единственный недостаток — на изящном, самую чуточку курносом носике каждую весну, как на лепестках белой лилии, проявлялись веснушки — позор для знатной паненки. Где покупать притирания? Конечно, в аптеке Шейбы в Троицком. И девица Югася была там гостьей нередкой и желанной. Вместе с притираниями, духами, помадой она получала целый ларец веселых шуток Йозефа, чудесных рассказов о василисках, краснолюдках и даже куртуазные песенки. От звонкого смеха паненки, казалось, взвихриваются в пузырьках и колбах разноцветные отвары. А на что еще мог надеяться безродный аптекарь, только развеселить… Зато вдовый Завиша считал себя женихом из женихов, ведь благородные браки не ради взаимной любви заключаются. Но слухи ходили, что трех своих жен уморил он, да и пятеро взрослых детей, ждущих наследство, не слишком украшали жениха. Да еще, возможно, панна Югася имела сердечную склонность к кому-то — более молодому. Вот и обратился Завиша к Йозефу, чтобы в притирания для паненки тот добавлял приворотное зелье. Маршалкам аптекари не отказывают. Но что-то не могли снадобья Йозефа присушить юное сердце… Слова жестокие сказала паненка седеющему ухажеру: мол, если бы не седина эта да не морщины, так почему бы не полюбить такого славного воина? Но пока он похож на печеное яблоко, пусть со свислочской русалкой любится, ведь у той глаза из тумана, все равно не рассмотрит, как следует.
И вот ночью по приказу Завиши привели Йозефа, подняли прямо из постели в одной рубашке, в Минский замок. Его руины все еще стоят там, где сливаются Немига и Свислочь. Маршалок изрек одно: не выйдешь отсюда, пока не сваришь зелье, которое вернет мне молодость. Напрасно клялся Йозеф, что не под силу человеку повернуть время назад, и черные кони бога Хроноса затопчут любого, ни один из смертных не заставит их ступить в сторону от колеи, выбитой на Пути Предков. Ничего не слушал Завиша. И взялся Йозеф за дело. Целую неделю старательно работал он в подземельях замка, выходя только для того, чтобы поглядеть с караульной башни на звезды, и подслушать их разговоры, и пересчитать призрачные бусины их путей… И однажды протянул Йозеф господину бронзовый кубок, в котором дымилось подобное жидкому металлу зелье… И не было уверенности в его глазах. Завише пришлось пожить в королевских дворцах, где даже пол выстлан предательством и ядом, и спасает только постоянная осторожность, и приказал аптекарю: «Выпей сам. А завтра, если зелье не обманное, выпью и я».
Йозеф осушил кубок. Аптекаря посадили в самый дальний угол подземелья и поставили охрану. На следующий день пришел туда Завиша. И увидел в ярком свете факелов, что с каменного пола поднимается незнакомый старик… В промежутке от полуночи до рассвета волосы Йозефа поседели, кожа пожелтела и сморщилась, губы, еще вчера властные и розовые, стянулись в нитку, спина согнулась…
В безудержный гнев впал магнат. Напрасно Йозеф кричал, что не виноват, что просто не успел доработать свое снадобье… Завиша приказал бить аптекаря нещадно плетьми и выжечь на его спине и груди первые буквы его имени и слово «преда14 тель». И заключить в темницу до смерти, ибо она, разумеется, такому старцу в затылок дышит, как лучший палач.
Поговаривали, что смуглый Йозеф сам был влюблен в паненку Югасю, потому и не помог Завише… Но разве можно уберечь дикую розу на меже чужого поля? В окрестных деревнях начался мор… Выкашивал людей, как пьяный косарь траву, оставляя отдельные участки, не разбирая, где высокие стебли, где юные ростки… Минчане в страхе ждали, когда беда войдет в город. Жгли костры из можжевельника и полыни у ворот и на перекрестках, пристально осматривали каждого, кто хотел зайти в город — не несет ли заразу, или, может, сам и есть заколдованная болезнь? Горожане рассказывали, будто видели хворь в виде красивой девушки, стоявшей на кладбище и машущей в сторону города красным платком… Другие утверждали, что она являлась в образе женщины с коровьими ногами на тройке вороных коней, и почему-то все время нюхала табак из черной табакерки. Другие видели, как худая женщина, синяя, ходила по Свислочи, словно по тропинке — ясное дело, в холеру и лягушка не квакнет, будет засуха. Какую-то нищенку забросали камнями возле Татарского конца — бедняга была кривая на один глаз… И шептались на Верхнем рынке, и на Нижнем, и на Молочном, и на Рыбном, который на мостках через Немигу, что самый надежный способ предотвратить мор — подкараулить, кто заболеет первый, и закопать его живьем…
О том, что заболела юная дочь советника, соседи узнали от служанки… Назавтра девушку хоронили на Золотой Горке. Почему-то в закрытом гробу. Родителей на похоронах не было…
Мор все-таки пришел в город, собрал свою дань… И потом уже никто не мог точно рассказать, что творилось во время охватившего город смертельного страха. Он сам диктует свои законы. Не было ни сил, ни желания ставить знаки над могилами жертв заразы… Но над могилой паненки Югаси все-таки положили каменную плиту с надписью: «Цвела роза, не досталась никому, только Господу одному».
Все проходит, прошла и зараза… Доминиканцы пронесли по улицам деревянную статую святого Роха, покровителя заболевших, обретенную по сновидению монашки в развалинах монастыря, и жизнь начала крутить свои жернова… Завиша уцелел и уехал в Варшаву, чтобы через год умереть на королевском застолье — шляхтич на балах должен пить до тех пор, пока будет не в состоянии подняться. А у магната и годы, и сердце больное… Ведь стариком себя считать не хотел. А может, надеялся заглушить вином сердечную боль? Так и упал под стол с недопитой чашею…
Прошли годы. В Минске открылись забитые досками окна проклятых домов, потянулись на торговые площади купеческие подводы… Вспомнили власти и о заключенных минского замка. За время напасти сторожа сменились, и теперь никто не знал, кем был старик в сгнивших лохмотьях, что неизвестно как выжил в темных подземельях. Никто не помнил его преступления, и раз Божий Бич не поразил его, узника выпустили на свободу, как спускают с цепи старого пса — умирать, прогоняя прочь от дома.
А как он все эти годы хотел умереть! И тогда, когда думал, что случится, если любимая увидит его нынешнего, и тогда, когда знал, чувствовал, что она умирает — а он мог бы спасти, если бы оказался рядом… Любой человек на его месте уже давно умер бы. Но смерть забыла Йозефа, она будто не узнавала его, как старая классная дама нарочито не узнает бывшего ученика, что некогда похитил ее романтические письма времен далекой юности и, хохоча, зачитал одноклассникам… Йозеф понял, какое зелье он сварил, в чем была ошибка — оно отнимало молодость, но давало вечную жизнь. Зачем?!! Искать ответа на этот вопрос у него хватало времени. Никто не знает, где сейчас Йозеф… Но, скорее всего, он старается найти зелье, которое позволит ему вернуть внимание смерти, и встретиться с любимой…
Вот такую историю повторял изо дня в день старый Йозеф из аптеки в Троицком, и толок, толок в ступе пахучее снадобье… Я пытался нарисовать его углем на куске картона, но мне еще не хватало мастерства. Чтобы рисовать таких, как Йозеф, нужно иметь твердую руку и чуткое сердце. Я не знаю, владею ли этим и сегодня. А вот позже, когда я уже ходил в студию к Крюгеру, один раз видел среди картин учителя портрет Йозефа… Аптекарь был изображен в пестрой восточной одежде, но я узнал его…
Учитель назвал картину «Агасфер». Никогда позже я ее не видел и ничего о ее судьбе не знаю.
Однажды я прибежал в аптеку с очередными бутылочками и не услышал знакомого бряцания пестика. Йозефа в углу за прилавком не было… Молодой аптекарь спокойно сообщил, что старик этой ночью умер, его готовят к погребению…
Надо ли говорить, что я помчался к маленькому подвальному окошку. На этот раз занавески были отдернуты. Первое, что я увидел — тело, лежавшее на столе. В каморке, как я и представлял, громоздились бутылочки и реторты, снопы сухих трав и груды камешков, высилось что-то похожее на перегонный куб. В печке с приоткрытой дверцей еще теплились угли, а на углях — я хорошо рассмотрел это, так как печка стояла у окна — лежал треснувший стеклянный сосуд с остатками темной жидкости. Две женщины, нищенки из ночлежного дома, которые привыкли подрабатывать подобным образом, переодевали покойного по обычаю в свежую рубашку. Они стащили с него одежду, и… я увидел на его груди шрамы от ожогов, которые складывались в слово «предатель». И еще инициалы — «И.Д.Ш.».
Йозефа, по его завещанию, похоронили на Золотой Горке. А я поступил в ремесленное училище и перестал ходить в аптеку в Троицком.
Ной закончил свой рассказ, и виновато улыбнулся.
— Ну вот видите, ничего особенно мистического…
— Значит, веснушки — позор для барышни,— язвительно сказала Зося, прикоснувшись к своему носику.— Ну-ну… Я тебе припомню это, Ной, когда следующий раз пригласишь танцевать.
— Вот интересно, я тоже когда-то забегал в ту аптеку за лакричными леденцами, но никакого Йозефа не помню,— сказал Влад.— Может, я просто не узнал твоего Агасфера?
Ной гневно обернулся к другу.
— Ты что, думаешь, я это в книжках вычитал?
Дорота примирительно сказала:
— Впрочем, Влад мог заходить в аптеку уже после смерти старика. А кстати, что, если поискать на Золотой Горке могилу паненки Югаси?
— Я искал и нашел,— спокойно и просто сказал Ной.— Каменная плита… Почти ушла под землю, в углублениях надписи вырос мох, и кажется, что буквы сделаны зеленым бархатным шнуром. «Цвела роза, не досталась никому, только Господу одному». Больше ничего, ни имени, ни года… А могилы Йозефа я нигде не встретил, хотя и похоронили его не так давно.
— Сейчас не хватает нескольких деталей, чтобы рассказ можно было причислить к рождественским,— отметил Влад. — Стоит, чтобы призрак Йозефа появлялся в углу аптеки в Троицком и толок в призрачной ступе травы… Или чтобы ступка на верхней полке начинала звенеть в день его смерти.
— А на Золотой Горке появлялись две призрачные фигуры, в обнимку и со свечами,— насмешливо сказала Дорота.— Бросьте дурачиться. Говорить о привидениях — накликать беду. Я Ною верю, но — никакой мистики. Был старый аптекарь, выжил из ума, путал сказки и собственную жизнь… Может, с контрабандистами когда связался или с какими-то нигилистами, вот и заработал шрамы…
— Кто бы мог ожидать от такой утонченной барышни такого реализма! — улыбнулся молодой артист. Дорота бросила на него раздраженный взгляд:
— Есть вещи, которыми не шутят, пан. Если бы не людское глупое любопытство, может, не было бы сегодня этого наводнения…
— Ага, панна Дорота делает намеки на какуюто таинственную историю,— оживился пан Белорецкий.— Сделайте милость, юная хозяйка, расскажите.
Дорота немного огорчилась.
— Ну, это не моя история… Это рассказывал отец. И то — чтобы напугать меня, маленькую, чтобы я не капризничала и не задерживалась на дворе дотемна.
— Расскажи, Доротка! — потребовала Зося у подруги, и та, бросив беспокойный взгляд на красавца Влада, который приготовился слушать со своей всегдашней уверенной улыбкой, начала…
История о Плебанских Мельницах
Я не знаю, почему люди так любят страшные истории. Конечно, все жаждут чудес. Без веры в чудо душа слепая, словно ночной мотылек. Но очень часто в поиске необычного мы летим, как те бабочки, не к звездам, а на огонек свечи или коптилки… И с тем же печальным результатом, что и для настоящего мотылька. И не надо посмеиваться — я знаю, что вы и так считаете меня слишком… рассудительной. Что поделаешь? Я росла в семье учителей, где слово «нравственность» звучало чаще, чем слово «праздник». Все знают, что наводнения бывают у нас из-за Плебанской плотины. Построили ее для мельниц… Одна принадлежит Доминиканскому костелу, вторая — архиерейскому дому. Мельницы заброшены давно, но город так и не смог убрать плотину, которая превращает реку в гниющий пруд, так как и костел, и церковь запросили за свое имущество столько, что горожане полвека собирали деньги на выкуп. Но есть и другое объяснение. Ведь когда-то именно мимо этих мест плыла по реке икона Матери Божией Минской… Против течения, из горящего Киева, кинутая в воду татарином. Горожане нашли икону в Троицком, когда утром над берегом появилось сияние. До сих пор святыня хранится в минском храме и покровительствует нашему городу, и, даст Бог, будет опекать его вечно… Тем более говорят, что нарисована икона рукой самого апостола Луки. Когда-то княгиня Друцкая, очень набожная, заказала для иконы дивный оклад — из серебра, украшенный драгоценными камнями. Можно, конечно, возразить — зачем те ценные оклады, когда для верующего главное не блеск камней, а лик святого, и Богородица не в короне и серебряных ризах, а босиком по земле ходила. Но любая жертва, данная с верой и любовью, не будет отвергнута. Даже нищий жонглер, не имея ничего, чтобы принести в дар Пресвятой Деве, начал показывать перед ней свое грешное искусство, заслужил от нее аплодисменты — деревянная скульптура ожила. Так, люди всегда надеются на чудо. Надеялись и наши предки, когда к городу приближалось войско татарского темника Менгли-Гирея. Но наши предки знали и то, что надо защищать свою родину до последнего. Накануне по городу прошелся мор, воинов не хватало, и надежд на спасение было меньше, чем воды в печи. Женщины, и мещанки, и шляхтянки, плотно подвязывали волосы белыми платками и делили места на оборонительных валах, дети, даже самые малые, смотрели на них сухими глазами и складывали камни в кучи — не для игры, а для защиты. Дым далеких костров, словно хвосты черных лисиц, колыхался возле леса — там остановились враги. Тогда ночью в церкви княгиня Друцкая — то ли по сновидению, то ли по пророчеству юродивого с паперти, а в такое верили неопровержимо,— достала с молитвою из оклада святой иконы четыре драгоценных камня — изумруд, хризолит, бирюзу и красный карбункул, положила каждый камень в серебряный ларец и послала доверенных людей, чтобы те закопали камни в четырех концах города. Пока те камни будут в земле, никакой враг город не возьмет. Самый ценный и красивый камень, красный, как рассвет, карбункул, закопали возле Плебанских Мельниц… И город все таки уцелел — пришла помощь… Правда, 22 затишье длилось недолго. Захватывали наш город русские, шведы, поляки, немцы… Видимо, добрались жадные руки до закопанных святых камней. Но рубин у мельниц лежал нетронутым… Поэтому и город не исчезал, возрождался снова и снова. Не знаю, каким образом, но о сокровище узнали. И что бы вы думали? Нашлись люди, которые начали его искать! Некоторые из религиозного рвения. Ведь неизвестно было, у которой мельницы святая реликвия: у той, что принадлежала костелу, или у той, что принадлежала православной церкви. Ведь это же было бы доказательством истинности конфессии! Обе мельницы дружно мололи муку, одна вода крутила их колеса, и никто не делил хлеб на лучший и худший от того, на каких жерновах мололи зерно… Но люди, пока их не смелет на своих жерновах смерть, делятся и делят, и всегда находят основание для ненависти. Ну, а иные маловерцы, и католики, и православные, смеясь над предрассудками, просто хотели разбогатеть. Копали тайно, украдкой, шныряли у водяных колес, заглядывали в воду, ища серебряный ларец с карбункулом… Но всегда были и те, кто дорожил заветами предков и готов был защищать святое любой ценой. Поэтому не раз поутру воды Свислочи прибивали к берегу мертвое тело с рассеченной мечом головой. И стали говорить, что мельницы — место опасное, что там по ночам орудует нечистая сила, и водяные крутят их колеса, несмотря на святые молитвы. Но о каких мельницах так не говорят? Прошло двести лет с того времени, когда княгиня Друцкая достала из оклада святой иконы четыре камня. На одной из мельниц — никто не помнит, на которой — служил набожный и скромный мельник. Был он силен, как все мельники, так как судьба их — всю жизнь носить тяжелые мешки, и, несмотря на тихий нрав, мог защитить свою мельницу. И дочь его была скромной и благочестивой… Мне бы очень хотелось сказать, что она была красивой, но это не так. Ее глаза были сильно скошены, и дочь мельника, видимо, считала, что судьба ее предрешена также, как и у разбитого кувшина… Хотя что такое женская красота? Кому-то из венценосцев импонирует тонкий стан, и несчастные девочки с младенчества затягиваются в корсеты, пока не смещаются ребра, и от невозможности свободно вздохнуть красавицы каждый час теряют сознание… Тем самым подтверждая миф, какие они слабенькие и нежные, словно крылышки бабочки… А раньше на протяжении веков имитировали беременность — ведь кому-то из вельможных панов нравилось именно это… Любовница французского короля на прогулке скрепляет прическу кружевной подвязкой от чулок — королю нравится, и вот дамы, друг перед дружкой, громоздят себе на голову башни из кружев, добавляя каркас из проволоки, цветы, чучела птиц… Прическа — на полгода, спать на специальных подушках-подставках, чесалки для головы — гонять «живность», не повреждая прическу.
Так что я не знаю, была ли дочь мельника настолько некрасива, как сохранилось в предании.
Мельник тяжело заболел… Застудился после того, как воробьиной ночью посидел на берегу, вместо того, чтобы прятаться от грозы и ливня у домашнего очага. Такой уж был обычай у мельника — по ночам гулять по берегу реки. Перед смертью он сказал дочери, которая почернела от горя: «Ты не останешься одна. И дело мое не погибнет. На третий день после моих похорон к тебе придет жених. Он скажет: «Благослови тебя Матерь Божья Минская… » Слушайся этого человека».
Так и случилось. Тот, кто вдруг посватался к дочери мельника, был настоящий шляхтич, рыцарь, который прошел не одну войну, весь в шрамах, как дверь корчмы… Шляхтич, который женится на простолюдинке, да еще косоглазой — это было неслыханное чудо… Одни говорили, что жених — его звали Данила — сумасшедший. Недаром перед этим в монастырь просился. Рыцарь — да в монахи! Другие говорили, что от нищеты. Не привез Данила с войны полные руки перстней — одни только раны… Поэтому и в монастырь просился… Так дочь мельника получила красивого и благородного мужа. Молилась на него… ветерком расстилалась под ноги. Как будто бы покорность может породить любовь… Она ведь, как искры, высекается при столкновении двух достойных… Данила почти не смотрел на жену. Все ночи проводил он не на ложе, рядом с ней, а на берегу Свислочи. И меч с собой непременно брал… Если же иногда внизу по течению качали волны мертвое тело бродяги — кому какое дело, кто разрубил бедную непутевую голову? Жизнь человеческая не стоила и гроша… Но мельничиха не задумывалась над этим. Ее миром был любимый муж, который не смотрел на нее. И она искренне верила, что виной тому ее косые глаза. Так и представляю: идут площадью с ярмарки, впереди мрачный плечистый мужчина с упорными холодными глазами, за ним, завернувшись в плащ и низко нагнув голову, мелким шагом спешит женщина. Она обеими руками прижимает к себе тяжелую корзину, а кто-то обязательно кричит ей в спину дразнилку… И однажды, во время первых весенних дождей, когда Данила вернулся под утро на мельницу, его ждало ужасное зрелище: жена лежала посреди комнаты, вся в крови, рука сжимала острое шило… А глаза были выколоты.
Впервые жалость к несчастной девушке тронула сердце воина… Но дочь мельника уже окоченела.
Данила вышел на берег Свислочи, достал меч и начал разбрасывать им влажную землю у самого мельничного колеса… И вот уже он стоит, и луна багровеет от камня в его руках. Размахнулся Данила — и бросил бесценный камень в воду. Волны на какой-то момент наполнились багрянцем, потом погасли, почернели… И вдруг поднялись, угрожающе зашумели…
Так начался страшный паводок, какого не помнили до сих пор. И те наводнения будут повторяться, пока на дне Свислочи лежит священный карбункул, алый, как заходящее солнце…
— Так все-таки под которой мельницей был закопан карбункул — архиерейской или костельной? — поинтересовался Влад, который, казалось бы, не очень внимательно слушал Дороту. Та равнодушно пожала плечами.
— Никто не знает…
В очках пана Белорецкого отражался огонек погребальной свечи, словно огнем горели его интеллигентские глаза.
— Интересно, это довольно распространенный, так называемый магистральный сюжет. Нечто подобное я слышал в Англии, о трех коронах, которые король саксов приказал закопать на побережье страны — якобы в качестве защитного талисмана от норманнов… Что, кстати, не помешало норманнам захватить Англию и ассимилировать саксов.
— Отец говорил, что в хорошую погоду с моста можно рассмотреть, как в воде блестит карбункул… — задумчиво проговорила Дорота.— И когда-нибудь появится рыцарь, который его достанет и вернет на икону Матери Божией Минской…
— Тогда спадет паводок, и сюда заявится коммунистическая сволочь,— издевательски произнес Влад.
— Почему сразу «сволочь»? Не надо огульно оскорблять людей, которые борются за хорошую идею,— вскинулся Ной.— Идея революции справедлива. Неужели ты хотел бы, чтобы здесь распоряжались черносотенцы с нагайками? Просто каждая хорошая идея, будто корабль раковинами, обрастает дураками, которые все портят.
— Вот эти дураки и выставят нас на улицу… А меня еще и расстреляют, как сына аристократа…— добавил Влад.
Зося фыркнула.
— Тоже мне, большой аристократ твой отец… Начальник почтового отделения, чиновник десятого класса… А что, поляки, которые за одно белорусское слово сажали, или немцы, были лучше, чем те коммунисты? А может, твои эсеры, с которыми ты как-то связался? Хорошо, бомбу бросить ни в кого не успел…
Пан Белорецкий удивленно взглянул на молодого человека.
— Вы были эсером?
Влад прикусил губу.
— У эсеров свои достоинства… По крайней мере, все честно — подлец должен отвечать за свои гнусности… А в большевиков я и сам поверил было — пока не разогнали наш съезд.
Ной упрямо потряс головой.
— Вот увидишь, все наладится! По крайней мере, не будет такого, как было — когда я, еврейский мальчик, чтобы поступить в гимназию, должен был выучить буквально наизусть десять учебников, чтобы не дать себя «срезать»…
Влад грустно улыбнулся.
— А помнишь, как меня преподаватель грамматики лупил линейкой за то, что я назвал себя белорусом? А потом, дома, еще и отец добавил… А я просто увидел выступление труппы Буйницкого, и понял, что это — мое, мой язык, мой народ… Учитель в школе кричал, что я должен гордиться тем, что я — русский. А отец кричал, что мы — поляки, народ славный и гордый. А я показывал ему нашу семейную реликвию — привилей на имение, подписанный королем Сигизмундом Августом, читал: «И датоле дзяржаци з ласки гаспадарскай маець за уласным вызнаннем…», и спрашивал: какой это язык? Польский? Русский? И ушел из дома. Ведь получил то, что дороже всякого богатства — родину…
— Да-а, не скоро еще прозвучит ответ на слова Купалы «Ці доўга будзе нам заломам Варшава панская і царская Масква…» — проговорил Андрей Белорецкий.— Мы все еще живем по словам Горецкого: «Я не знаю, кто мне свой и кто чужой. Я держусь дикого нейтралитета и обманываю тех и этих и самого себя… И одна половина его, которая понимала белых, молчала, онемев. И вторая половина его, которая понимала красных, требовала своего…».
— Не понимаю таких колебаний,— проговорила Зося.— Это все от избытка. От пресыщения… Хотя… случаются исключения. Вот карбункул, о котором рассказывала Дорота… Подержать в руках такой камень — это стоит, может быть, всей жизни!
Ной, покраснев, произнес:
— Если бы он только существовал, я бы попытался достать его для тебя.
— Ты и плавать не умеешь, пан,— преувеличенно ласково произнес Влад.— Но утонуть тебе не придется: Доротка у нас выдумщица.
— Да, жаль, что это только сказка… — разочарованно проговорила Зося. Дорота бросила быстрый взгляд на Влада, молча повернулась и ушла в другую комнату.
— Обиделась, что ли? — недоуменно проговорил Влад.
Между тем девушка вернулась и, ни на кого не глядя, поставила на стол маленькую шкатулку из потемневшего от времени серебра.
— Вот… Отец говорил, это нашли, когда строили наш дом.
Пан Белорецкий первый взял в руки реликвию.
— Ну и ну… Шестнадцатое столетие, не иначе… И герб, если я не ошибаюсь, Друцких…
Фольклорист откинул крышку.
— Да, здесь мог находиться камень… Или кольцо… Что-то небольшое и ценное.
Молодежь теснилась, заглядывая в шкатулку, внутри которой с четырех сторон были прикреплены проволочки, которые, похоже, должны были удерживать в центре что-то небольшое.
— Значит, карбунул существует! — воскликнула Зося, и отсветы пламени свечи запрыгали в ее зеленых глазах, словно водяные звезды в глазах русалки.
— Я скажу, что было на самом деле…— проговорил пан Белорецкий, кривя тонкие губы. — Была старая шкатулка… И буйная фантазия моего друга, твоего, Дорота, отца, который считает, что задача творческого человека — создавать мифы для своей родины, чтобы делать ее историю интересной.
Как будто еще одна сказка поможет вернуть золотой век… Который, однако, был и золотой, и кровавый, и пепельный… Пепел минских пожарищ также добавился к крови той эпохи.
— Если хотите знать, я сама видела, как блестит красный камень — как раз напротив излучины, что там, на берегу, под мостом… — в голосе Дороты звенела обида.
— За это время любой камень оказался бы под толстым слоем грязи,— заметил Влад.
Но Зося капризно сдвинула брови.
— Вот прекрасное испытание для какого-нибудь рыцаря, который надеется заслужить любовь своей дамы!
Ноя словно подбросило пружиной.
— Я достану этот камень!
Влад поднялся медленно и как будто лениво, но в его расслабленой позе чувствовалась непреодолимая сила.
— Если какое-то красное стеклышко и лежит на дне этой речушки, его найду я.
Дорота прижала ладони к губам, с отчаянием глядя на артиста… А Зося… А Зося вдруг рассмеялась — и не было жалости в ее смехе… Ведь не знает жалости девочка, которая впервые, с удивлением и тайной радостью, почувствовала свою власть над сильными мужчинами.
Темные глаза Ноя и синие — Влада встретились… Как издревле встречались взгляды двух, которые любят одну… И впервые это поняли.
— Ага, давайте на поиски, вьюноши, в ночь, в холод и в дивное время диктатуры пролетариата,— насмешливый голос пана Белорецкого прозвучал, как холодная вода на голову буяна.— А вы, барышня, осторожнее с фантазиями…— в словах фольклориста, обращенных к Зосе, ощущался металл. — И правда, не со всем в этом мире можно играть. Поверьте мне, как старому человеку…
Рыжеволосая шалунья немного смутилась, даже в свете погребальных свечей была заметна краска на ее щеках.
— Подумаешь, а что я такого сказала… Да не надо мне тот карбункул…
Пан Белорецкий уже не улыбался.
— История знает случаи, когда достаточно было слова, и города утопали в крови… Кстати, если бы не прелести одной юной минчанки, в нашей ратуше не было бы и привидения…
Влад и Ной перестали сверлить друг друга взглядами, смутились и даже присели, догадавшись, что сейчас услышат очередную страшную историю. Оба старались не смотреть на Зосю, только Дорота бросила на подругу жгучий взгляд и задала спокойно вопрос:
— Но, пан Андрей, в Минске нет ратуши… Ее давно разрушили.
— Знаю…— Пан Белорецкий откинулся на стуле, как будто готовясь читать длинную лекцию.— Разрушили ратушу по личному приказу Николая I, чтобы не напоминала городу о Магдебургском праве и былых вольностях… Но место, где она стояла, во времени и пространстве не меняется… И хранит память о былых событиях.
История о Минской ратуше
А случилась история, о которой я вам расскажу, в авантюрном 18-м веке, как его вычурно именуют, «веке плаща и кинжала»… В белорусском варианте была шляхетская сабля. Или шестопер — булава, которой дробили на дуэлях кости. Оружие — страшнее, чем меч. Ведь, согласно традиции, пока не было достаточно крови — то есть, чтобы Немигой лилась,— дуэль не прекращали. А от удара булавы крови мало. Вот и возникло, так сказать, поколение пробитых черепов… Характерными персонажами эпохи, безусловно, были братья Володковичи, наши земляки — отсюда, с Минщины. Особенно вьелся в печенки современникам Михал — пьянчуга, буян, дуэлянт и любитель женского пола… Не удивительно, что у магната Короля Радзивилла сделался Володкович любимым другом и товарищем по игрищах и неприглядных проделках. И никто не осмеливался противиться этому здоровяку и пропойце, потому что с Радзивиллами меряться — все равно что целоваться с Поцелуйным мостом в Троицком… И вот накануне Святодухова дня, который называется у нас «Деды», Володкович проезжал через Минск, оставив городу на память разгромленную корчемку и трех раненых шляхтичей-минчан. Вечерело, и всадник спешил выехать за городские ворота, чтобы до наступления мрачного ноябрьского вечера доехать до ближайшей придорожной корчмы. Где-то в конце Зыбицкой улицы, как раз там, где Свислочь делает петлю, стоял каменный двухэтажный дом с высокими зелеными ставнями, которые всегда были закрыты. Рассказывали, что когда-то в этом доме жил купец с красавицей дочерью. К девушке сватался бедный шляхтич, и, не знаю, как уж так жестоко надо было поступить с тем юношей, но накануне ее свадьбы с другим — богатым — отвергнутый кавалер схватил девушку в объятия и вместе с ней утопился. Потом здание выкупил другой купец, и хотя ряженые, колядники, нищие и монахи даже на большие праздники ни разу не получили из этого дома и крупицы милостыни, время от времени из-за закрытых ставень доносилась музыка и звуки веселого застолья. Поскольку магистрат считал, что здесь все в порядке, никто и не думал совать нос за соседский забор… Тем более, что дом пользовался не очень хорошей славой.
Так вот, ехал Зыбицкой улицей Михал Володкович с двумя амантами-дружками. Шапка набекрень, бриллиантовый «гуз» сияет, как луна, рука в бок упирается, но готова молниеносно ухватиться за рукоять сабли — вот она, лучшая подруга шляхтича, дремлет в ножнах, как молния в туче, не угадаешь, не уследишь, когда блеснет жаждой крови. Когда в доме с зелеными ставнями раскрылось окно, рука пана Михала коснулась рукояти, но тут же потянулась к шапке — почтительно поздороваться, как и полагается шляхтичу… Ведь из окна смотрела на Михала самая красивая дама из всех, каких он когда-либо видел… А видел он всяких красавиц — и в Варшаве, и в Вильно, и в Несвиже… В последних лучах заходящего солнца бледное лицо незнакомки светилось, как снег. Зеленые глаза насмешливо смотрели из-под тонких, изогнутых, как очертания крыльев чайки, бровей, и вместо мертвенного напудренного парика голову девицы венчала уложенная короной черная коса. И платье было черное, из дорогого тонкого бархата. Паненка, не скрываясь, внимательно рассматривала рыцаря, из чего тот заключил, что райская птичка летит прямо в силки. Пан Михал уже держал во рту, как жемчужину, первое галантное слово, но красавица громко произнесла с невероятной насмешкой:
— Страхоморец!
Что означало ни больше, ни меньше, как трус. И закрыла окно.
Пан Володкович некоторое время изображал из себя хвощевского идола, не в силах осознать оскорбление. Его — его! — назвать трусом! И кто? Белоголовая! (Так, панове, в Великом Княжестве называли всех женщин, даже с такими черными волосами, как у дерзкой незнакомки с улицы Зыбицкой). У происшествия были свидетели — два аманта Володковича с некоторой тревогой ждали, в какой «неистовый» поступок выплеснется его гнев. Первое, что сделал пан Михал — начал с бранью колотить в ворота злополучного дома. Но за высоким, обшитым железными полосами, забором не было ни звука, ни движения. Дом затаился, словно в нем царствовала пыль. Да что поделаешь, если и открыли бы, не на дуэль же вызвать глупую женщину! В глазах Володковича еще светилось ее прекрасное лицо, и голос — как звон дамасского клинка…
Начинало темнеть, и пан Михал поддался на уговоры и отправился прочь из проклятого города… Но жажда мести разрывала его сердце. Если не может он укротить красавицу, укротит ее вместе с ее городом! Не отгородится никакими заборами.
И вот солдаты сердечного друга Михала, Короля Радзивилла, в Минской ратуше, в зале, где собрался магистрат… И паны советники, тая гнев, выбирают «баламута» Володковича в правление города…
Дунин-Марцинкевич не зря писал, что Минск наш сплошь веселенький… Добавил Михал Володкович веселья нашему месту. Никто не чувствовал себя защищенным — ни красивая паненка, ни пан судья, ни даже ксендз в костеле… Не то, что мужику или мещанину, но и шляхтичу пан Михал мог приказать на месте сто и одну нагайку всыпать — норма такая у Володковичей была… Ксендзу Облачинскому отомстил за то, что тот обличал в Мариинском костеле его пьянство — привел во время мессы на площадь цыган с медведями да обезьянами, да выкатил бочку вина… Вот тебе и проповедь получилась — как пишет Крашевский, «что-то звенело, бубнило, блеяло, трубило, пищало, смеялось самыми дикими голосами». Не боялся пан Володкович никого, даже Господа… Однажды рубанул мечом по столу, за которым заседал минский суд, да распятие рассек… Монахи-доминиканцы на похороны шли — носилки отнял, музыкантам приказал играть полечки, а сам шел и пел… Но громче цыганских песен и барабанов звучал в его ушах высокомерный голос: «Страхоморец!». Конечно, искал Володкович ту красавицу… И не знал, что ему больше принесло бы удовольствия — ударить ее или обнять? Она же точно здесь, в городе… То на мессе в притворе на мгновение светилось ее бледное лицо, то за окном ратуши мелькал ее силуэт… Володкович бросался за ней — но никогда не мог ее догнать. Ничего, если наблюдает — значит, небезразлична к нему… Пусть убедится, что ничего на свете не боится Володкович. Поэтому, когда пана Михала в очередной раз позвали на суд в ратушу, а доброжелатели послали предупредить — советники сговорились осудить на горло, на смерть, Володкович не захотел убегать, не захотел даже предупредить своего могущественного покровителя… Он пришел на суд, и вел себя еще более дерзко, и сияли позади встревоженной толпы зеленые глаза… Когда буяна скрутили и приковали цепями к стене в подвале ратуши, он ругался и шутил… И в ненависти судей была примесь страха, как в старом вине — терпкий привкус дубовой древесины, из которой была сделана бочка… Даже когда пришел тот самый ксендз Облачинский, чтобы исповедать осужденного перед смертью — тот не пожелал каяться, страшно ругался и богохульствовал, словно считал все, что происходит, дурацкой шуткой. На какоето время преступника оставили одного. И тогда к нему пришла Она… В темном платье, с уложенными на голове черными косами, словно корона царицы ночи, и с такими дерзкими зелеными глазами, что Володкович, может, впервые в жизни почувствовал, как сердце слабеет от чужого взора… Она подошла близко-близко, всмотрелась в лицо пленника и тихо, успокаивающе проговорила:
— Ну вот, и закончились твои страхи. Теперь ты будешь моим.
Володкович забыл даже возразить, что он не ведает страха, рванулся в цепях, чтобы обнять красавицу, ее косы упали вниз, сами расплелись черными волнами, в них мелькнули зеленые ленты… Или водоросли? Губы приблизились к губам… Какая она холодная… Как зимняя вода. Глаза, в которые истово заглядывал Володкович, казались все глубже, как водовороты, и превратились в пропасти… Темные, как раскопанная могила. Запах вербены сменился запахом речной тины… И рыцарь истошно закричал, потому что это было страшнее смерти.
Те, кто пришел расстреливать отчаянного шляхтича, рассказывали, что он почему-то был весь мокрый — словно на него плеснули водой из ведра… И словно обрадовался приходу палачей… И смеялся, даже когда первая пуля попала ему в грудь.
Никакой женщины в подвалах, где состоялся тайный и быстрый расстрел, конечно, никто не увидел. Потом начали рассказывать, что дух пана Михала отправился на высший суд нераскаявшимся, и не может покинуть земли… И его призрак печально смотрел из окон ратуши в течение веков… И если ратушу наши потомки отстроят — он опять будет там.
Пан Белорецкий закончил рассказ и потянулся к чашке с остывшим чаем.
— Ну, а теперь пан Андрей станет нас уверять, что девушка, которая оскорбила Володковича, была свислочской русалкой,— насмешливо прокомментировал Влад. Фольклорист поставил чашку на стол и чинно откинулся в кресле.
— Комментировать мифы как реальные события нельзя,— произнес он поучительным тоном.— Единственное, в чем я убежден — что в основе каждого мифа, сказания, легенды лежат настоящие события, но искаженные до неузнаваемости, как отражение в стремительном ручье. Ужасная трагедия превращается в веселую сказку о Колобке. И, наоборот, за самыми таинственными и романтическими легендами скрывается нечто будничное и даже комическое. Знаете, так идешь по лесной тропинке и видишь прямо перед глазами дивные бусы из наполненных золотым светом жемчужин… Даже сердце зайдется от неземной красоты. Приглядишься — а это обычная паутина, покрытая росой… Да еще дохлая мошкара в ней висит.
— Ну, насчет дохлой мошкары вместо романтических бус это мы все испытали…— пробормотал Влад, и чуткое ухо Зоси уловило за неопределенными словами тайну, как опытная хозяйка по первому шипению пара узнает, что чайник нужно снимать с огня.
— Влад, а ну рассказывай, что теперь вспомнил! Мы же договаривались — никто не отмолчится!
Молодой человек пожал плечами.
— Вы будете разочарованы. Ни поединка за прекрасную даму, ни встречи с призраком я не пережил. Моя история, конечно, будет театральная.
История о ночном спектакле в Минском театре
Случилось это со мной, когда я еще верил в романтику и в то, что театр — настоящий храм. Я поссорился с отцом и ушел из дома. Два года занятий в студии давали основание верить, что жизнь моя сложится интересно и славно, не хуже, чем у маленького лорда, найденного настоящими родителями. Тогда в нашем городском театре играла антрепризы пана Г. Не самая худшая, как я потом убедился, но и ничем не лучше других местечковых трупп. Герой-любовник с постоянно напудренным лицом и завитыми, как у Антиноя, кудряшками (он полоскал горло мятной микстурой — ради приятного запаха и мягкости голоса); героиня, похожая на сухой тростник, в котором живет крикливая птица выпь; 40 субретки с губами сердечком и мечтой о щедром и непритязательном купце первой гильдии; комик с фиолетовым носом; седой «благородный отец» с чрезвычайным умением ругаться с помощью медицинских терминов, вроде «ах ты клистир несчастный, трахеотомию твою перитонит»… Это был мир искусственный и прекрасный, грубый, приниженный — и высокий. Мир шутов и фигляров, приобщенных к высшим истинам. Костюмы испанских грандов из грубого ситца, украшенные распушенной веревкой и опрысканные золотой краской… Картонный месяц на проволоке и сосновая вода, которой поливали сцену перед каждым спектаклем, чтобы не поднималась вихрем вечная пыль… Я ошивался за кулисами, стараясь как можно чаще попадаться на глаза режиссеру, пану Ревзару, грузному, как старинный буфет, господину с невероятно пышными усами и синим бархатным бантом вместо галстука, и был счастлив, когда мне доверяли потанцевать в толпе немецких крестьян, что встречали своего герцога из крестового похода, либо постоять с пыльным, как деревенская дорога в засуху, опахалом возле трона восточного царя. Получал я такие копейки, что если бы не пустил меня жить к себе Артемка Расторгуев, артист на вторых ролях и горький пьяница, перебивался бы я в ночлежке в Троицком… Да, со стеклянным богом изменяли пани Мельпомене многие ее служители… Труппа теряла участников, как рота на поле битвы. Тем более время было тревожное, начиналась война, в город постоянно стягивались воинские части, что давало театру публику, но не добавляло веры в будущее. Отсутствие веры проявлялось исчезновением в городе сахара, соли и муки. Даже свечи было не купить… Несколько артистов мобилизовали… Мне было семнадцать, но выглядел как ладный молодец. И вот постепенно мне стали поручать роли со словами. Кроме чести, это давало право на получение дополнительной сельди в пайке. Боже, как я гордился и волновался, как ночи напролет повторял роль перед зеркалом… Особенно мне нравилось играть роль стражника в «Гамлете». Того самого, который рассказывает принцу о появлении призрака. На этом мое участие в спектакле не заканчивалось, я менял бутафорскую кирасу на камзол или рясу и превращался то в придворного на королевском балу, то в монаха, который шествует за гробом Офелии, то в воина, который приехал с таинственным Фортинбрасом… Один раз я даже был самим этим Фортинбрасом, когда исполнитель роли принял в антракте коктейль, одним из составляющих которого был высококачественный стародорожский самогон. Конечно, я мечтал о славе… Ну не может быть, чтобы никто не обратил внимания, как я раскатисто произношу «р» в слове «пр-рошу» и гордо вскидываю голову… И когда однажды мои мечтания сбылись, я даже не удивился. Солидный господин с черными, завитыми в кольца усиками, в таком элегантном сером костюме английского сукна, что, казалось, сошел с открытки, после очередного представления перехватил меня за кулисами с комплиментами моему 42 артистическому темпераменту и тонкому психологическому рисунку роли… Незнакомец говорил порусски с легким акцентом. Чернявый подвижный… Француз? Итальянец? Испанец? Конечно, в душе я со всем, что говорил мой горячий поклонник, соглашался, хотя где-то на краю сознания сидело, как вконец разорившийся корчмарь на крыльце пустой корчмы, сомнение: правда ли в моем «пр-рошу… » вибрировали вселенские эфиры? Но мы, даже повзрослев, охотнее верим в приятное, чем собственным сомнениям.
— Хотите ли вы, молодой человек, сыграть Гамлета?
Ну кто бы в семнадцать лет от такого отказался! Скорее коростель откажется от еловых шишек, а городовой от бляхи с гербом. Но дальше началось что-то странное. Меня просили сыграть этакий моноспектакль, произнести самые знаменитые монологи датского принца, и не где-нибудь в частном театрике, перед клумбой-женой и прыщавыми племянниками, а здесь, на сцене театра… Но — ночью. Помещение будет ради этого выкуплено у дирекции. Публики ожидается немного, зато самая что ни на есть избранная и изысканная. И за это — сто рублей гонорара. Бешеные деньги. Случалось, весь сбор нашей труппы за вечер не достигал этой суммы. Вложенные в мою руку двадцать пять рублей аванса подбадривали, просьба никому не рассказывать о предполагаемом ночном спектакле выглядела откровенно подозрительно, будто куриные перья на мордочке домашней кошки. Конечно, все объяснялось моим талантом, которым знатоки хотят насладиться без всяких препятствий.
— Это ваш большой шанс, молодой человек! — доверительно частил усатый господин.— Соглашайтесь! Уверяю, что никакого злого умысла тут нет, и ни в какое позорное дело вас не втягивают. Ну, вы же прирожденный артист!
И сунул мне еще десять рублей.
Я вернулся в свою каморку на Францисканской. Мой товарищ валялся на кровати пьяный и тихий, как фаршированная рыба. Я ходил из угла в угол, будто привязанный барашек, и грезил, как в горячке. То закулисный пан виделся мне коварным Мефистофелем, то благородным Гарун-аль-Рашидом… Наконец я схватился за томик Шекспира, как костельная старая дева за четки, и попытался представить себя Гамлетом… И — представление затянулось до полуночи… Теперь мне просто невыносимо хотелось показать кому-то знающему все эти обретенные позы и интонации, все живописные драпировки плаща, вместо которого я использовал одеяло… В дверь постучали. Не стану скрывать — я вздрогнул от мистического ужаса. Артемка замычал, завертелся на кровати… Я не стал его растормашивать, тем более, что добиться этого было непросто, легче было заставить говорить кочан капусты, и, набравшись от Гамлета смелости, распахнул дверь. Так начались мои ночные похождения.
До театра меня везли в закрытом экипаже, пустом, как голова субретки, но с обшитыми бархатом сиденьями. Я тайком выискивал где-нибудь изображение герба — конечно, королевского или, на худой конец, княжеского, но кроме изысканных растительных орнаментов из бронзы не нашел ничего особенного. В таких каретах героев обычно похищают… Но меня высадили на ступенях театра. И сейчас же подхватил под локоть усатый знакомец.
— Мы очень вам благодарны… Скорее, скорее, готовьтесь…
Мы почти бегом вошли в здание, там к нам бросилась дама в платье из черного шелка, с волосами, тоже похожими на черный шелк. В тусклом свете керосиновой лампы, которая освещала ее, я разглядел тонкие аристократические черты… И снова мысли о тайной жизни князей и королей полезли в голову. Огромные темные глаза женщины блестели непонятной тревогой, чуть ли не отчаянием. Она быстро заговорила высоким голосом, который, кажется, прерывался от горя. Усатый ответил ей… Ну вот, хоть это выяснилось — итальянцы! Я разбирал отдельные слова, которые засели в памяти из оперных арий: «долоре» — кажется, боль… «Падре» — отец, или, может, священник, «рагаццо» — мальчик… Это что, про меня? Ну да, про меня… Дама замолчала и стала с недоверием изучать мое лицо, можно было бы сказать, бесцеремонно, если бы не та тревога и горечь, которые окутывали незнакомку, как аромат — куст жасмина. Итальянка что-то спросила у усатого, я понял, сомневается, справлюсь ли. Но усатый энергично замахал руками, похлопал меня по плечу. «Си, си…», залопотал что-то, наверное, вроде «Самое то, не бойся, парень-ураган»…
Дама, прерывисто вздохнув, ушла, бросив мне на прощание странный взгляд, отчаянно-умоляющий, и усатый потащил меня дальше.
— Только, очень вас прошу, ничем себя не сдерживайте. Дайте волю своему темпераменту, играйте в полную силу, импровизируйте! — бормотал мой спутник мне на ухо, и я начинал понемногу сходить с ума от всего этого.
За кулисами меня ждала открытая гримерка первого героя и костюм датского принца.
Электричество в театре не было включено, и сцена освещалась, как встарь, свечами. Никогда не забуду этот спектакль. Вряд ли мне удастся пережить когда-нибудь такое невероятное волнение и вдохновение, подогретое опасной тайной. Я вылетел в призрачный свет сцены, чувствуя себя Кином, Сальвини и Качаловым в одном лице. «Быть или не быть — вот в чем вопрос!». Конечно, даже в одержимости, увлеченный ролью, я краем сознания жаждал рассмотреть публику. Ее действительно было немного. Семь человек сидели в первом ряду партера. Так, зрелище немного смутило меня. Огромная черная пропасть зала, необычная тишина, отблески огня на лицах зрителей… Вот мой усатый импрессарио, вот — знакомая очаровательная дама. Какая-то пожилая женщина в шляпе постоянно подносила к глазам платок, как потом я решил, растроганная моей игрой. В общем, трудно представить более благодарную публику. Все 46 следили за каждым моим движением, очень серьезно и сосредоточенно, даже не перешептывались. Но мое внимание отвлекалось на старика в сюртуке, который сидел в центре этой компании… Я заметил, что время от времени на него направлялись вопросительно-встревоженные взгляды. Выглядел старик, как истинный Гарпагон, надменный, аскетический скупец. Красавица-итальянка сидела рядом с ним и время от времени нежно гладила его по руке, словно просила быть более снисходительным. Ага, значит, он и есть, мой главный критик!
Я поддал темперамента. Мой Гамлет носился по сцене, как призрак в «волшебном фонаре». Все придуманные перед зеркалом позы, взмахи и взвивы — форте, форте, фортиссимо! Старый пень сидел в кресле, словно проглотив вертел, его глаза смотрели прямо вперед, не мигая, будто он показывал, что не хочет меня видеть. Между тем старую пани так пробрало, что она аж заплакала, понурив голову. Ее рыдания добавили мне сил. Я вскинул руки и зарыдал: «Я ее любил, как сорок тысяч братьев!». И мои усилия наконец принесли плоды. В глазах старика полыхнул настоящий огонь. Молчаливый до сих пор критик затрясся, задергался, вскочил с места и начал что-то выкрикивать по-итальянски, жестикулируя руками не хуже моего Гамлета. Остальные тоже вскочили, как-то странно зашумели…
Сейчас же на сцену вскочил усатый, его лицо светилось от радости. Он схватил меня за плечи и буквально вытолкнул за кулисы.
— Грацио, грацио…— приговаривал он с неподдельным чувством.— Вы — грандиозо! Великий артист! Мы вам так благодарны! Ваша игра — настоящее чудо. Вы войдете в историю театра!
Я чувствовал себя обескураженным и счастливым. Усатый проводил меня в гримерку, помог переодеться — он, этот важный утонченный господин, подавал мне мой изношенный пиджак, как прислуга! Меня усадили в тот самый экипаж и снова попросили пока никому не рассказывать о ночном спектакле, мол, иначе я испорчу свою судьбу, которая обещает быть блестящей.
Уже подъезжая к дому, я обнаружил, что в моем кармане — конверт с двумя сотнями рублей.
На следующий день мое восхищение собственным успехом поугасло, и в голову полезло совсем другое. Подробности приключения казались все более и более странными. Кто была та молодая итальянка, почему встревоженная и заплаканная? Может, старик — ее нелюбимый муж, и она надеялась смягчить его возвышенными словами Шекспира? А может быть, я нужен, чтобы исполнить роль чьего-то двойника? Наследника знаменитого рода, дофина, инфанта или как там еще? Я был уверен, что приключение будет иметь продолжение. Может, пригласят на первые роли в какой-нибудь знаменитый театр? Тайно украдут? Или… Не стану скрывать, воображение рисовало сладкие романтические ситуации, в которых одну из главных ролей исполняла та, что назвала меня смешным словом «рагаццо». Я хранил тайну, 48 но начал учить итальянский, а заодно занялся французской борьбой и бегал в тир в Губернаторский сад, так что каждая жестяная утка в том тире имеет на себе вмятины от моих выстрелов.
Прошло три месяца. Я по-прежнему рассказывал датскому принцу о появлении призрака старого короля и встречал в группе пейзан победительного герцога. Однажды, когда я пришел в театр, рыженькая субретка, мадемуазель Нини, либо просто Нинка, предупредила: «Режиссер снова в трауре… Постарайся не попадаться ему на глаза с веселой физиономией». Действительно, на лацкане пиджака господина Ревзара в очередной раз красовался черный бант. Надо пояснить эту традицию нашей труппы. Пан Ревзар появлялся в трауре со страшноватой регулярностью. Вначале я думал, что у пана часто умирают родственники. Но старожилы пояснили, что когда умирает какой-нибудь большой артист, господин Ревзар считает своим долгом соблюдать по нему личный траур. И горе тому, кто не откликнется состраданием.
Поэтому сейчас, услышав про траурную ленту на рукаве Ревзара, я побежал к Афанасию Афанасьевичу, помощнику режиссера, который бросил выгодную карьеру адвоката ради безумной службы в театре, был он человек добрый и необычной эрудиции. Я стал его расспрашивать, кто из титанов на этот раз получил ангажемент на небесные роли… Услышав фамилию — итальянский трагик М* — смутился… Афанас Афанасьевич, преданный Мельпомене вплоть до крепостного состояния, понял мои колебания и вскипел, как зеленый чай. Как я могу не знать гениального артиста! Я смиренно попросил просветить меня…
— Трагик М* десять лет как покинул сцену,— начал рассказ Афанасий Афанасьевич с неподдельным энтузиазмом и пиететом.— Среди его ролей — и Отелло, и Родриго, и Дон Карлос… Но самая любимая роль, которая принесла ему славу — Гамлет. Говорят, он всю жизнь оттачивал ее, что-то менял, добавлял… Пан Ревзар, счастливчик, видел его в этом спектакле. Мне не довелось… Бедный, бедный М*… Да, юноша, артист должен платить высокую цену за свое вдохновение. Боги не простят тем, кто изъясняется их словами на земле. Не хотелось бы мне об этом рассказывать… Великие мира сего должны оставаться в памяти нашей в блеске и величии. Но… Что ж, тебе полезно знать… В последние годы у М* развилась нервная болезнь. Что-то вроде каталепсии. Он неожиданно впадал в паралич, становился, как кукла… И никакие врачи не могли вывести его из этого состояния. Но однажды нашли рецепт: оказывается, М* могло привести в сознание созерцание спектакля «Гамлет»… Но только тогда, когда его любимую роль особенно скверно исполняли. Правда, со временем это действовало все слабее. Жена и дочь, последняя, кстати, сама прекрасная актриса, к каким только врачам ни обращались. Говорят, незадолго до смерти возили больного, несмотря на военные события, в Москву. Наверное, и через Минск проезжали.
Эх, если бы я об этом вовремя узнал — посмотреть на великого М*!
Афанасий Афанасьевич остался горевать, а я тихонько ушел… Слава Богу, у меня хватило юмора посмеяться над ситуацией… Хотя рана на самолюбии оказалась болезненной. С надеждой на богатое наследство или премьерство в известном театре я распрощался… Зато владею итальянским языком и французской борьбой. Не говоря уже об умении метко целиться в жестяных уток.
История, рассказанная Владом, заставила всех искренне расхохотаться и на некоторое время забыть невзгоды.
— А я думала, ты такой самовлюбленный премьер,— с неожиданной прямотой сказала Зося.— Знаешь, а ты, наверное, больше понравился бы мне в то время, когда был наивен и верил в чудеса.
Влад онемел и отвернулся к окну, видимо, чтобы никто не заметил, как краска прилила к щекам… А Дорота с преувеличенным равнодушием заговорила, гладя тонкими пальцами обычную фарфоровую чашку, словно это был котенок.
— А я видела тебя, Влад, в роли Ариэля в пьесе «Буря»… Это было… здорово.
Влад со вздохом произнес:
— Было один раз. Заболел исполнитель, вот меня и одели в золотистый парик и белый хитон… Половину слов не знал, суфлер чуть не надорвался, шепча. Ну и ария, конечно… Лучше не вспоминать.
— Ну почему ты так о себе? — в голосе Дороты звучала неподдельная боль.— Я потом три раза бегала на тот же спектакль, чтобы тебя увидеть. Но были уже другие исполнители.
Зося фыркнула, как рассерженный котенок.
— Ну, Доротка, а я все думала — почему ты меня на этот занудство таскаешь…
— Если занудство — так чего не отказывалась? — Дорота поджала губы и от этого еще больше стала похожа на викторианскую классную даму.
— Почему не отказалась? — медленно переспросила Зося и мечтательно откинулась в кресле.— Потому что… потому что… я была дочерью швеи, у которой твоя мать заказывала бархатные платья и кружевные блузки, и без тебя попасть в театр, да еще в партер — это было мне не по карману.
Дорота густо покраснела.
— Зося… Разве между нами когда-нибудь возникали такие… вопросы? Как сегодня говорят — классовые? Да мне никогда в голову не приходило, что я в чем-то… другая…
— А жаль, что не приходило,— в голосе Зоси вдруг зазвучало что-то жесткое.— А вот мне приходилось часто думать о подобных вещах… Например, чтобы никто в классе не заметил, что у меня единственной не тонкие, шелковые, как у вас, а старые вязаные чулки.
— Девушки, не ссорьтесь,— вмешался пан Белорецкий.
Но тут же подал голос Ной:
— А никуда от классовых вопросов не денешься. Потому что революция всех сравняет. И тем, кто должен что-то потерять, тяжелее других… Посоветую одно: не стоит жалеть о том, что было.
Дорота проговорила:
— Разве мне жалко? Если бы здесь устроили чтото достойное, да ради белорусского дела… Я бы с радостью сама отдала этот дом. Но здесь будет какая-то очередная контора.
— Не «какая-то», а комитет по делам образования! — с вызовом проговорила Зося.
Влад выразил общее недоумение:
— А ты откуда знаешь? Работать там, что ли, собралась?
— А почему бы и нет? — Зося осмотрела всех зелеными дерзкими глазами.
Пан Белорецкий медленно проговорил:
— А она уже согласилась на эту работу… Правда, Зося?
В доме на минуту наступило молчание.
— Ну и что?
Губы Дороты дрожали.
— Я не имею права тебя упрекать…
Зося гордо вскинула голову, ее волосы будто искрились рыжим огнем.
— Упрекать? За что? За то, что я собираюсь работать ради просвещения своего народа? Вы здесь, как слепцы, испугались первого холодного ветерка. Если происходят перемены — это всегда мучительно, но если не сломается внешняя, твердая оболочка — не покажется и живая, чувствительная сердцевина времени. Надо только перетерпеть боль. Сколько мы мечтали о революции? И вот — мечты, ваши же мечты, сбываются. Создается академия… Ученые ДовнарЗапольский, Карский, Лесик, Игнатовский — они же совсем разные, с разными убеждениями. Но работают вместе, на создание Беларуси. Вам, пан Белорецкий, следует стать рядом с ними. Влад, вместо того, чтобы изображать романтическую разочарованность, просился бы в труппу Голубка. Конечно, роль Гамлета тебе там не дадут. Но это белорусский театр!
Ной восторженно улыбнулся в ответ.
— Согласен, Зося! Нам есть на что надеяться.
— Может быть, на воссоединение Беларуси? — мрачно сказал Влад.— Это же позор какой — разделили край надвое, все молчат… Короче, «Кавал1 друпя, а ланцуг той самы — песш усе старыя неаджытай гамы…» Фабиана Шантыря расстреляли, хотя уж такой большевик был — вместо знамени носи. На Украине поэта Грицко Чупринку к стенке поставили… В России — Николая Гумилева, который про негров и принцесс писал…
— Это необходимые жертвы,— неуверенно сказал Ной.— Помните, Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, ведь те, кто вырос в рабстве, не могли стать свободными и должны были умереть. Но это временно. Университет же создается… И художественное училище в Витебске работает… Кандинский город расписывает в конструктивистском стиле.
Пан Белорецкий грустно смотрел сквозь очки на энтузиастов.
— А вам никто не рассказывал, как уважаемого Довнар-Запольского студенты киевского университе54 та заточили в его квартире, как якобы прислужника царизма? Все друзья и знакомые разбежались… Тех немногих, кто осмеливался посетить профессора, задерживали, обыскивали… У меня отняли даже карандаш и блокнот. Только чудо — точнее, одна преданная профессору ученица, которая сумела «прорваться» к местному комиссару — спасло профессора от расстрела. Вот где порадовались бы недоросли, которые в свое время получили от строгого преподавателя «неуд»… Пока что услугами «спецов» новые власти пользуются… Но — посмотрите — это ненадолго. Что началось кровью — кровью закончится.
Дорота отвернулась к окну, скрывая волнение.
— Все-таки я верю, что честные и талантливые… такие, как мой отец, всегда будут нужны.
Белорецкий покачал головой.
— А как только надобность в них отпадет… вымрут, как драконы. Или уничтожатся… Я себя так и чувствую в этом времени — как последний, утомленным ожиданием смерти, дракон…
— Кстати, драконы, по-нашему — цмоки, водились в Свислочи! — подал голос Влад.— Иностранцы, удивляясь, записывали, что минчане держали в своих домах вместо каких-нибудь мопсов черных жирных ящериц футов пять длиной.
— А я однажды видел с моста в Троицком, как что-то похожее на такую ящерицу или змею скользнуло под водой, словно душа грешного утопленника…— произнес Ной.
— И сколько сидра ты перед этим выпил в мастерской? — насмешливо спросила Зося.
А Дорота снова молча повернулась и вышла в другую комнату… Хлопнула дверца шкафа… И вот перед глазами опешившей компании посреди стола на деревянном постаменте предстал самый настоящий дракон… Правда, небольшой — величиной со среднего пса. Черная чешуя, даже на вид — крепкая, словно панцирь средневекового рыцаря, пасть угрожающе раскрыта, а глаза — как живые — из черного полупрозрачного стекла с желтыми искорками посередине.
— Слушай, а что в вашем доме еще такое вот… есть? — почти с благоговейным ужасом спросил Дороту Влад.— А то просто страшно становится. Вдруг кто расскажет сказку про мертвую голову — а ты и принесешь ее… На тарелке, как Саломея…
Возмущения Дороты кощунственными словами никто не услышал — все, даже пан Белорецкий, бросились рассматривать и щупать дракона. Пристальный взгляд обнаруживал, что чучело очень старое, местами чешуя осыпалась…
— Бедненький…— Зося погладила свислочского дракона по черной спине. На миг показалось, что он заурчит и завиляет хвостом — Ной и Влад, например, судя по их взглядам, поступали бы именно так.
— А мне бабушка рассказывала, что на Высокой горе, там, где сейчас Юбилейный рынок, жил дракон самых что ни на есть европейских размеров,— сообщил Ной.— И питался, как положено — красивыми девушками. Пока не наткнулся на ту, у которой имелся боевитый жених. Вонзил меч в драконово черное сердце… Но и сам был смертельно ранен. Так их и опустили в Свислочь — и дракона, и рыцаря в хрустальном гробу. Мы в детстве всматривались в то место, и, кажется, видели — на дне, из тины показываются змеевы ребра…
— Вечно цмок во всем виноват…— проворчал Белорецкий.— Лишь однажды я слышал более справедливую трактовку, лирник пел на Нижнем рынке: «Откуда ни возьмись, взялся тот святой Юрий и убил невинного цмока»…
— А что случилось с невестой рыцаря? — спросила Дорота.
Ной пожал плечами.
— Об этом история молчит. Или так и осталась невестой, или вышла замуж за другого… Какие еще варианты?
— Я знаю историю про одну невесту… Только не слишком веселую,— сказала Зося.
— Ну вот и расскажи! — обрадовался Влад.— А то все уже что-то рассказали, а вы, барышня, только с драконом возитесь.
Зося раздраженно фыркнула, но рассказ начала.
История о золотогорской невесте
Однажды к матери пришла заказчица. Случилось это темным осенним вечером, когда голые ветви деревьев отчаянно тянутся к окнам, и последние мокрые листья, сорванные ветром, стучатся в стекло, словно самоубийцы. Заказчица была сухопарой и строгой немкой неопределенного возраста, в плоской шляпе с крохотной вуалью, неожиданно задиристо откинутой набок — видимо, ветер постарался. Немка осмотрела нашу квартиру, которая служила одновременно и мастерской, но невозможно было ничего прочитать на ее немного мужеподобном лице: презирала она нашу бедность, или ничего особенного в вынужденной скромности квартиры не видела?
Заказ был неожиданный: свадебное платье! Нет, не для нее самой — посетительница даже скривила губы в иронической улыбке,— а для дочери ее хозяев, шестнадцатилетней девушки. Вот и мерки все уже сняты — на листок записаны…
Мама моя растерялась — до сих пор ей не приходилось шить свадебные платья. Множество швей, однако, именно этим и занимаются… Тем более за деньги, которые гостья предложила, можно было заказать костюм в самом шикарном ателье на Губернаторской!
— Понимаете, фрау, мы не хотели бы обращаться в известное ателье! — с некоторой неловкостью в голосе ответила немка.— Нам нужно, чтобы наряд был сшит за двое суток, фасон, украшения — все на ваше усмотрение. И… чтобы об этом вы особенно никому не рассказывали.
Аванс был буквально всунут в мамины руки…
— А где состоится венчание? — успела только спросить мама.
Немка немного промедлила с ответом:
— В костеле на Золотой Горке, фрау. Я приду за заказом в субботу утром.
Надо ли говорить, что мать отнеслась к заказу с некоторой опаской, и считала, что ввязалась в какой-то грех, а я — наоборот — с восторгом. Конечно, я все вообразила до мелочей. Верная служанка заказала свадебное платье для своей молодой хозяйки, которая решилась на запрещенный родителями брак… Это будет тайное венчание. Жених, конечно, неимущий. Но ужасно красивый, талантливый и смелый. И сама барышня не менее красивая и смелая… Как мне хотелось, чтобы платье получилось как можно лучше! Но мать и так хлопотала по полной — она была действительно прекрасной швеей… Если бы меньше старалась угодить заказчикам — так, может, не заработала бы потом чахотку. Беленький шелк с изысканным узором из лилий, кружева, розочки из атласа… А мне все казалось, что вот, если бы еще пару дней — какую красоту можно было бы создать! Я обметывала швы всю ночь — ведь лет с пяти, как только научилась держать в руках иглу, я помогала матери, поэтому сейчас ненавижу всякое шитье и вышивание. Я привносила в фасон свои фантазии — где добавлю бусинок, где присоберу кружева, так, как видела в магазине на Ратушной площади… В конце, когда уже все было готово, я подошла к белой призрачной фигуре — в свете свечи казалось, что платье на кого-то одето, и белая фигура вот-вот сдвинется с места… Еще раз во всех подробностях представила, как завтра наденет этот наряд, скрываясь от мира, красивая бледная девушка, выйдет из черного хода к экипажу, где уже ждет жених — может быть, гусар, потомок обедневшего рода, может, молодой поэт… В храме — никого, кроме свидетелей, никакой пышной свадьбы… И мне захотелось еще чем-нибудь добавить блеска тайному венчанию. Я сняла со шкафа мамину шкатулку для всяческих блестящих мелочей, настоящую сокровищницу Алладина, с брошками, цветами, бархотками, достала лилию из искусственных жемчужин — в детстве я любила ею играться, и пристегнула ее на корсет платья, там, где сердце.
Но когда утром проснулась, оказалось, что платье уже забрали — я пропустила самый интересный момент, когда можно было понаблюдать, порасспрашивать… Мать только сказала, что пришла та самая немка — ни свет, ни заря, заплатила — и исчезла…
И надо же было такому случиться, что назавтра мать достала со шкафа свою зеленую шкатулку и стала перебирать блестящие штучки — понадобилась какая-то бусина для очередной кофточки… Почему-то в мамином голосе, когда она спросила про лилию, была настоящая тревога… Я, конечно, не стала ничего скрывать — ведь не видела ничего плохого в своем поступке. Но… Оказывается, брошь подарил моей бабушке дед, она была на свадебном платье моей матери… Короче, я растранжирила свое наследство (цена которому пять копеек, как я прокомментировала в мыслях), и его следовало вернуть вместе с дорогими воспоминаниями.
Мать по-настоящему расстроилась, спорить было бесполезно… В конце концов, мне где-то в глубине души и самой было интересно снова прикоснуться к истории с таинственной свадьбой. Стоит представить себя Натом Пинкертоном — не смейтесь, я тогда старательно собирала все эти брошюрки народной библиотеки с приключениями великого сыщика — и тайна раскроется. Немка сказала, что венчание должно было состояться в Золотогорском костеле в субботу. Значит, я узнаю имена жениха и невесты.
Но в костеле сухонький слуга с острым, как клюв, носом так же сухо и остро сообщил мне, что никакого венчания в субботу в храме не было. Я растерялась, а потом заподозрила остроносого в неискренности: конечно же, венчание тайное… Но осторожные расспросы околокостельных старушек также ничего не дали…
— Ну какое же венчание, деточка! — чуть не с сочувствием сказала сухонькая старушка в черном платке, похожая на монахиню.— Отпевали вчера… Такую же молоденькую девочку. Как ты…
Вторая старушка, в старомодном чепце, с подслеповатыми, но все еще синими глазами, суетливая, как лесная птица, вмешалась:
— Да, да, хорошенькая такая девочка… ангелочек… Часто сюда ходила… В свадебном платье хоронили, так она, как королевна, лежала. Вся в цветах, в кружевах. Перчаточки белые-белые. Платьице с оборками, ткань вся в лилии… Бедная девчушечка… Поскользнулась на мосту, что через Лошицу, упала — а там колья в дно понатыкали… Это не иначе Ледаштик подстроил, злой дух.
— Не Ледаштик, а русалки! В Лошице русалки водятся! — заспорила вторая старушка.
— Какие русалки осенью? Ледаштик! Шевродь этот одноглазый особенно женщин ненавидит и девочек, глянет глазом своим — и ум замглится… С чего бы девчушке с моста падать?
Тем временем вторая старушка завела длинное, словно осенний вечер, рассуждение о тех, кого Господь призывает к себе первыми, но этого я почти не слышала. Все мои фантазии разлетелись, как лепестки искусственной розы, с которой неумелая рука сорвала нить… Счастливая невеста, жених-красавец… А на самом деле сказочная шелковисто-кружевная краса и мамина брошь — здесь, рядом, под слоем земли, влажной и тяжелой, как сама необратимость. Теперь понятно, почему обратились к бедной швее, а не в модное ателье — никто не хочет омрачать настроение заказчиц, которые могут узнать, что рядом с их символом счастья шили наряд для покойницы. Слухи в местечке разносятся быстро…
Я медленно пошла на кладбище. Последние золотые листья сыпались на могилы… Действительно, Золотая Горка… Я вспомнила рассказы о другом золотом дожде, который тут сыпался — когда сто лет назад здесь пировала холера и собирала жертвы не меньшие, чем чума. А по-моему, так лучше чума, или, как у этой несчастной девушки, нелепый случай, чем умирать от, простите, расстройства желудка. Люди отчаялись и не знали, как остановить поветрие. Набивались аж по крышу в старый деревянный храм на Золотой Горке… Потом, конечно, кто-то сказал, что если храм, Божий дом, такой бедный и тесный, это большой грех… И не потому ли Господь прогневался и попустил быть мору? Какой-то доктор — а другие говорят, ксендз — выйдя из костела, разослал на земле свой плащ и бросил на него первые золотые монеты… Другие прихожане поспешили также внести пожертвования — и скоро на плаще выросла золотая горка… Как по мне, построили бы на те деньги госпиталь, закупили хороших лекарств, провели водопровод, чтобы минчане не брали воду из этой помойной ямы — Немиги… Что ж, теперь я могла считать, что и наша семья внесла свой вклад в освященное место в виде фамильной броши…
Я бродила между могил и, наверное, сама напоминала призрак в тусклом ноябрьском дне. Ага, вот холмик, сплошь заваленный цветами… Портрет под стеклом, в деревянной рамке: такая наивная гимназисточка, с удивленно приподнятыми бровками, курносым носиком и приоткрытым ротиком, который, видимо, любил смеяться, и косами, уложенными на голове такими бубликами… Простоватое, наивное, очень обычное лицо. Не моей компании паненка, ясно. Каролина-Мария Шиманская-Репка. Бедную, наверное, из-за этой «репки» дразнили в гимназии… Я представила, как Каролина-Мария лежит теперь вот здесь, в земле, в сшитом нами платье, с брошью в виде лилии на груди… Приобщенная к тем глубинам — или высотам — познания, от которых я, эмансипе и натуралистка, отделена каждой клеточкой своего физического тела… Но заплатить за это познание тем, что лечь в эту сырую землю… Знаете, я не сентиментальное создание, но вдруг мне стало так жалко эту — пусть не очень интеллектуальную при жизни — девочку, что я горько расплакалась — о ней, о себе… О своей мученице-матери — не так много в ее жизни радостей и хороших воспоминаний, чтобы лишать дорогих сердцу мелочей. Что я ей объясню насчет броши-лилии? Подумать только — та лежит в каком-то метре от меня! Но недостижимее, чем была бы на луне. И я в отчаянии начала мысленно обращаться к незнакомой мне покойной… Представьте себе — просила ее вернуть мне ту брошь, объясняла, как будет переживать моя мать. Уговаривала осторожно, как уговаривают маленького ребенка, что схватил очень дорогую и очень хрупкую вещь… Я даже опустилась на колени… Не знаю, сколько времени прошло — я спохватилась, когда крупный кленовый лист, мокрый и холодный, словно ладонь утопленника, ударил меня по щеке. Я находилась в таком взвинченном состоянии, что готова была принять это за какой-то знак. Лист опустился прямо на букет дорогих оранжерейных фиалок, которые мерзли в белорусском ноябре, как восточные красавицы, и я потянулась отбросить в сторону желтого нахала. На земляной насыпи между цветами что-то блеснуло… Я раздвинула пестрые лепестки… И увидела брошь в виде лилии.
Сказать, что я была ошеломлена — не сказать ничего. Меня словно обдало ледяной водой, сердце оборвалось, будто я прыгнула с обрыва. Ну, а вы, что бы вы подумали на моем месте? Никаких рациональных объяснений у меня не имелось. Просто покойная услышала мою искреннюю просьбу и вернула памятный знак. Я дрожащими пальцами взяла брошь — да, это была она, булавка, конечно, расстегнута… Радость от неожиданной находки утопала в мистическом ужасе. А вдруг та, что вернула брошь, теперь здесь, рядом со мной? Я же так ее звала… Я непослушными губами произнесла «спасибо», поднялась и двинулась, вынуждая себя не бежать — она же может обидеться… Молиться… Спасет одно — искренне молиться… Закажу за Каролину-Марию мессу… Чем ближе я подходила к воротам, к лишенной мистики суетной местечковой жизни, тем больше во мне вызревала признательность и еще что-то необыкновенно возвышенное, словно крылья росли… Не знаю, как дальше повернулась бы моя судьба — случаются мгновения, которые формируют человека, как руки хозяйки тесто,— если бы не случай… Который принял облик дурачка Генуся. Генуся знало все местечко — худой и сутулый, будто вечно нес на себе мешок с мукой. Генуся, когда он был более-менее вменяем, иногда брали на работу на мельницу. Рот приоткрыт, зубы торчат вперед, в глазах светлая муть, на носу вечная капля… Ну, что я описываю — вы сами должны знать, как выглядит классический местечковый дурачок… И вот этот Генусь подслеповатым ястребом бросился на меня… Вернее, на брошь-лилию, которую я несла перед собой в руках, как пригоршню святой воды.
— Не твое! Не твое! Отдай! Воровка! Воровка! — верещал Генусь, пытаясь выхватить у меня явленное из свежей могилы украшение. Я увертывалась, как от шаловливого щенка, но… мистический ужас мой еще более усилился. Сразу полезли в голову легенды о юродивых да блаженных, наделенных даром пророчества… Чтобы отбросить наваждение, закричала первое, что пришло в голову:
— Сам вор!
Генусь неожиданно умолк, словно его ударили, перегнулся пополам и жалобно застонал… В его невнятных, как далекая майская зарница, словах я наконец увидела смысл, как в водовороте усматривают последний выход. Брошь забрал из гроба Каролины-Марии Генусь, поскольку бедняга был влюблен, как только может быть влюблен нищий дурачок в паненку из хорошей семьи. А положил на могилу или потому, что паненка стала ему являться в сновидениях, или кто-то сказал, что забирать что-то из гроба великий грех, а Генусь был слишком благочестив — этого я уже не разобрала точно… Я чуть сдержала истеричный смех. Подумайте только — если бы я случайно не встретила беднягу, у меня бы жизнь по-другому сложилась! И сегодня, возможно, была бы я какой-нибудь сестрой Гонорией, и перебирала бы четки вместо живых цветов… Я оставила брошь на кладбище. Она уже была мертвой — даже вещи делаются мертвыми, касаясь смерти… И мать до сих пор думает, что ее драгоценность досталась счастливой невесте… Не собираюсь ее разуверять. Но… знаете… Иногда я жалею, что больше никогда не придется пережить то необычное ощущение, будто тайна Вселенной лежит в моих ладонях.
Зося закончила рассказ и задумчиво смотрела на свои ладони, будто представляла в них брошь в виде лилии. Влад пожал плечами.
— Думаю, Серапионовы братья раскритиковали бы твою историю. Мало того, что никакой мистики, так еще и юмора не хватает. И не страшно, и не смешно.
Зося блеснула зелеными глазами — холодная молния.
— Пугают трусы, смешат неуверенные в себе… В моих очках нет ни розовых стекол, ни черных, да и вообще очков не имею. Принимаю жизнь, какая есть. Если вам не хватает театрального реквизита, поищите у кого другого.
Влад смутился.
— И все-таки так нельзя… Помнишь, в «Белорусской хатке» показывали батлейку? Последнего, может, батлейщика в Минске нашли… Куклы восстановили… Так «идейно правильная» часть зрителей начала горланить, что это пережитки и религиозная пропаганда, обидели бедного старичка-батлейщика, которого в свое время жандармы гоняли… Что же это будет, если мы откажемся от прекрасного, от игры, от карнавала? От историй о привидениях и драконах? Человека делает отличным от животного не то, что необходимо, а то, что излишнее… То, что не приносит очевидной пользы. Музыка, пение, поэзия, изысканные кованые узоры на балконе дворца, резные наличники на крестьянском доме, вышивка на рушнике…
— Встречный ветер эпохи сдует это, словно кружевную шляпку с барышни, что уселась на верхней площадке империала,— жестко возразил Ной, который все это время лепил из наплаканного погребальными свечами воска маленьких ящериц.— Малевич нарисовал свой черный квадрат — и это дверь, за которой начинается неизвестный, но единственно возможный путь вперед. Ничто не повторяется… Фараонов изображали только в профиль, в трагедиях не могли в качестве главных героев выступать слуги, женщины не имели права появляться на сцене… Кто теперь потребует того же?
Влад нахмурился, обычная ирония оставила его.
— Ты говоришь о прогрессе в искусстве, но мне мир, где царит черный квадрат, представляется устрашающим. Здания в виде огромных серых коробок с квадратами окон, песни все из одной бессмысленной фразы и примитивного ритма, и одна газета на всех, где объясняется, какие все счастливые… Знаешь, когда Платон придумывал свое идеальное государство, то хотел приблизительно такого же… Все должны были танцевать и петь, как они счастливы, а поэтов следовало убить.
— Знаете, если эта единственная газета и единственная песня будут на белорусском языке, я согласен и с таким печальным будущим,— задумчиво проговорил пан Белорецкий.— Но что-то мне подсказывает, что упрощенный до прямоугольника мир не вместит нашу прекрасную, до сей поры неизвестную белорусскую Атлантиду — она только начинает 68 подниматься из мутных волн забвения, из-под всяких наносов… А тут не самобытность требуется, а универсальность… Палка вместо ветки…
— Вы просто… старый,— бросил Ной.— Вы не понимаете, что человечество идет к взаимопониманию — к единому языку.
— А природа — к одному цветку, одному дереву и одному кусту,— насмешливо произнес Белорецкий.— Либо появится вообще одно на весь мир растение: белый цветок-дерево-куст…
— А почему белый? — растерянно спросила Дорота.
— Потому что все цвета, смешавшись, образуют идеальную бель… Но в жизни редко случаются чистые цвета. Без примесей… Поэтому, я думаю, потенциальная идеальная природа будет серой.
Влад, видимо, вообразил это будущее, не выдержал и рассмеялся. От этого лицо его на мгновение потеряло всегдашнее насмешливо-снисходительное выражение — показался любопытный и дурашливонаивный подросток… Дорота тоже робко улыбнулась, глядя на молодого артиста, как на освещенные солнцем невероятно легкие облачка, на которых представляется прекрасный замок вечного света и покоя… Пан Белорецкий задумчиво смотрел на девушку, на ее улыбку, и в стеклышках его очков прыгало пламя свечи.
— Старые мастера считали, что в основе красоты — извилистая линия… Любой прямой путь — неправда и искусственность. И не всегда то, что напрямую привлекает — предопределено тебе… Мы — всего лишь маленькие фонарики, которые висят на невидимой проволоке, протянутой через тьму. Каждый видит только сквозь собственный свет. И никто не видит проволоки, на которой мы висим… И только мудрый может вычислить — где заканчивается проволока… И только наивный почувствует — кто ее привязал… Знаете историю с фонарями на празднике у графа Любанского?
— Нет, пан Андрей,— оживилась Дорота.— Расскажите — а то увязли в философии, словно школяры в вазочке с цукатами.
Чучело дракона глянуло на рассказчика черной пуговицей с желтой искрой в центре, и пан Белорецкий начал рассказ.
История о Лошицком призраке
Было это в один из моих приездов на родину лет пятнадцать назад. Еще жила моя жена, но уже не могла ездить со мной из-за болезни. Поэтому и настрой у меня был не очень… Но стопка найденных рукописей семнадцатого века, еще одно стеклышко в разбитый витраж истории моей родины, могла побудить меня к путешествию даже в чистилище. Я не захотел злоупотреблять гостеприимством друзей и, поскольку мог себе это позволить, снял приличный номер в отеле «Европа», как раз тогда, когда там начал выступать венский дамский оркестр. Как играет упомянутый оркестр, я так и не послушал, зато рукописи выкупил. Я уже собирался уезжать, окруженный ореолом древних букв и ароматом заплесневелой бумаги — для книжного человека лучшим в мире запахом,— но получил приглашение на бал к графам Любанским. Фраза просто из колонки светской хроники… На самом деле я не был такой важной птицей, чтобы граф Любанский что-то обо мне знал. Так, профессор, но слишком молод, к тому же занимается таким подозрительным делом, как фольклористика… Ведь любая старинная песня способна обрушить очередную идеологическую башню, как чудо-рыба, всплывая, смывает со своей спины жалкие домишки временных приблудных жителей. Но все-таки я представлял Санкт-Петербургский университет, и у меня была Демидовская премия, а в Минске два года назад закрыли Общество любителей изящных искусств. Закрыли так, как делают всегда — безапелляционно, жестко, с красивой формулировкой — чтобы народ понял: невозможно было не разогнать этих злодеев, что пытались нарушить привычный порядок и вырвать из руки гимназистки бублик, а из руки нищего — суму. На празднике в честь дня рождения пани Ядвиги Любанской должен присутствовать губернатор города Мусин-Пушкин… И небольшая делегация местной творческой интеллигенции, усиленная мной, предполагала подойти к нему по поводу восстановления общества.
После недавних революционных событий, залитой кровью Курловского расстрела привокзальной площади, у меня особых иллюзий на лояльность властей не было. К тому же мое настроение было не подходящим для бала. Но — я считал себя обязанным поддержать земляков. Да и пан Любанский слыл этаким эксцентричным демократом-аристократом. Ходили слухи, что он дает деньги эсерам. А его увлечение велосипедами… Велотрек, устроенный в Лошице… Изумительный сад…
И вот я стоял, прижатый к псевдомраморной колонне, обвитой псевдоплющом Лошицкой усадьбы, оглушенный духовым оркестром, нашептываниями в самое ухо одного из организаторов исчезнувшего общества, и искренне грезил оказаться как можно дальше… Что мне до местных сплетен? Евстафий Любанский, дородный усач, действительно не скрывал влюбленности в свою юную жену. Ядвига, в девичестве — Киневич, была дочерью предводителя мозырского дворянства и лет на семнадцать моложе мужа. Белокожая, темноглазая, стройная… Двигалась, как ласка по снегу. Избалованный ребенок… Болтала, смеялась, гордо закидывая головку с аккуратно уложенными в высокую замысловатую прическу темными волосами. Мне пани Ядвига напомнила героиню стихотворения Мицкевича «Сыновья Будриса». Помните: бела, как сметана, черноглаза, подвижна, словно кошка. Пан Евстафий привез ей из Японии чудесное деревце — магнолию кобус, ее еще называют маньчжурским абрикосом. Она цветет раз в год. Подаренное деревце цвело именно в день рождения пани. Видимо, по этому случаю пани Любанская оделась во что-то пестро экзотическое, что должно было по ее мнению передавать японский дух… Насчет любовников пани версий имелось не меньше, чем о происхождении санскрита. Намекали мне и на самого губернатора, Мусина-Пушкина, и на графа Чапского, владельца знаменитых пивоварен… Смешно — они были намного старше пана Евстафия.
Я не очень вслушивался в так называемую «светскую болтовню», вспоминая свою Надежду, которая сейчас, наверное, грустно сидит у окна с видом на грязную Мойку… Кстати, ты, Дорота, очень напоминаешь мне мою Надежду… Те же большие задумчивые глаза, чистый высокий лоб, словно созданный для высоких мыслей… Но — я отвлекся. Между тем над Лошицей, как дым от тайного купальского костра, сгущался полумрак, и начался один из сюрпризов вечера — загорелись гирлянды электрических китайских фонариков, подвешенные на веранде и в саду. Пани Ядвига в своем пестром шелковом платье с широкими рукавами, как тропическая бабочка, медленно поднялась на ярко освещенную круглую площадку с невысокой балюстрадой — на ней обычно играл оркестр. Пан Евстафий стоял неподалеку от меня — я заметил его взгляд, устремленный на жену. Бог ты мой, какая любовь! С почти кощунственным восторгом и непонятной тоской… Если на свете бывает такая любовь, мир никогда не закончится, и никогда не закончатся в нем боль и пролитая кровь.
Слуги вынесли экран из растянутой на шестах белой, наверное, дорогого сорта рисовой бумаги, и поставили перед площадкой, так, что скрыли ее от глаз зрителей. Вдруг все фонари погасли, но в тот же момент за экраном зажегся яркий софит… На белой поверхности экрана вырисовалась невероятно точная тень пани Ядвиги… Теперь пани держала в одной руке японский зонтик, в другой — веер, и изящно двигалась под музыку. Зрители захлопали в ладоши, приветствуя столь неожиданный театр теней. И снова зажглись фонари, и снова погасли…
Живые картины сменяли одна другую. Танцовщицы изгибались в экзотических фигурах танца, самураи дрались на мечах, «делали» себе харакири… Тьма сменялась светом, тени — красками. Зрелище очаровывало, так что даже я — до сих пор стыдно — на время забыл о той, что думала обо мне за сотни верст отсюда… И снова погасли фонарики… И на освещенном экране показалась очередная картина — поцелуй страсти… Человек в костюме самурая, плечистый и высокий, целовал жадно, властно… Кого? Да, это была пани Ядвига. Невозможно было спутать ее позу, прическу, сложное платье… Две тени, сливающиеся в одну, застыли на экране, и так же застыли зрители… Это была больше чем игра.
Зажегся свет… Экран убрали, понемногу снова начинались разговоры. Конечно, глаза всех — или тайно, или открыто — искали героев драмы… Пан Евстафий, однако, не выглядел потрясенным, он попрежнему вежливо улыбался, время от времени подносил к губам бокал с вином… Может быть, он был посвящен в необычную мистификацию? Но когда Любанский обернулся, я увидел, как на его виске бьется жилка… Просто — висок, седой висок немолодого сильного мужчины. И тяжелая, упорная пульсация — словно изнутри хочет вырваться невероятной мощи безумие… И это зрелище почему-то ударило меня больше, чем если бы Любанский теперь совершал харакири, как герои театра теней. Я оглянулся. Пани Ядвига, по-прежнему веселая и озорная, прохаживалась между гостей. Зачем она это сделала? Я до сих пор не могу понять. Помучить старого мужа, который ее боготворил — как маленькие дети мучают родителей, спрятавшись и долго не отзываясь на крики? Или хотела нащупать ту грань, за которой ее остановят — некоторым пресна жизнь без ощущения такого предела, без сопротивления и запрещенности… Или это было просто юное презрение ко всем запретам и предрассудкам, рожденное первой настоящей любовью? Но кто он, герой романа?
Я невольно обводил глазами толпу, выделяя молодых, высоких, красивых… Может, этот — в офицерском мундире, с завитыми кольцами усиками? Или вон тот, в белом сюртуке, похожий на античного бога со своими крутыми кудрями? Или… тот музыкант, стоящий в стороне от блестящей толпы, опустив скрипку, и в его позе — почти что презрение? Сколько таких любопытных взоров пересекалось в тот вечер в саду Лошицкой усадьбы… По крайней мере, дело возрождения минского Общества любителей изящных искусств интереса не вызвало ни у кого. Так называемый свет… Люди, жившие на этой земле, как пришельцы, не услышав ее, не попытавшись понять ее душу.
Я вернулся в гостиницу с досадным чувством коллекционера, которому досталась редкая ядовитая орхидея, но от нее погибли другие экземпляры. Да, все-таки белорусское слово «каханне» имеет более древнее происхождение, чем «любовь»… «Каханне» — это еще с санскрита. В этом слове откликается древность — языческие капища, жертвы, смерть… Боже ты мой…
Через два месяца я получил письмо из Минска — друг, который и заманил меня на злосчастный бал, рассказывал, как потрясла всех горожан смерть пани Ядвиги Любанской. Будто бы ночью пошла она зачем-то к Свислочи, спустилась с крутого склона, села в лодку… А лодка перевернулась… Так и нашли пани назавтра в реке. Автор письма явно считал, что дело неладно. И непременно в нем замешан старый Любанский. Иначе зачем этот странный приказ сразу после похорон замуровать окно в комнате пани Ядвиги? Тело он приказал запаять в свинцовый гроб и поставить в Лошицкой часовне… И уехал сразу же на Кавказ…
Через год я, опять таки случайно, узнал из переписки, что пан Евстафий на Кавказе умер… Но что мне было до чужих смертей, когда смерть стояла у изголовья близкого мне человека? Ах, Надежда моя, Надежда Романовна…
На родину я смог наведаться только года через три. Уже с черной лентой на рукаве и тоской в сердце. Побывав недели две в родительском доме, в Игуменском уезде, я выделил пару дней на пребывание в Минске. Почему-то потянуло меня в Лошицу. Я медленно шел аллеей, удивляясь толщине деревьев, особой тишине, которая царит в этих местах, и думал о том, что, видимо, когда-то было здесь языческое капище — сколько ни попадались мне их остатки, всегда чувствовалась какая-то гнетущая атмосфера. Словно проклятые боги все еще ждут новой крови… Что на берегу Немиги в Минске, что на Девичьей горе в Виленском уезде, что здесь… Особенно усиливало эти мысли сознание, что в глубине парка стоит часовня со свинцовым гробом пани Ядвиги Любанской.
Кусты цеплялись за мой пиджак отросшими ветвями. После смерти пана Евстафия на все здесь легла печать запустения.
Понемногу темнело… На Лошицких мельницах иногда, кажется, грабили… Но я не волновался: привык носить с собой револьвер, а извозчик, чернявый мужичок с произношением характерным для речицкого Полесья, должен был ждать у ворот хоть до утра — я не пожалел денег. Вдруг я остановился возле странного деревца — на его тоненьких, но, видимо, твердых, как железо, ветках, среди редких, плотных и темных листов светились белые цветы… Крупные, словно вырезанные из бумаги, в сумерках они казались неестественными. Как будто приклеенные… Я даже потрогал лепестки — словно поздоровался за руку с Метлушкой. Внизу светлела медная табличка.
Я пригнулся и разобрал надпись: «Магнолия кобус»… Так называемый «маньчжурский абрикос», который зацветает в день рождения пани Ядвиги Любанской! Словно наяву, я снова увидел декорации былой драмы: китайские фонарики, белая балюстрада, окруженная зеленью, бумажный экран, тени на нем… Насмешливый шепот и звон бокалов… Взгляды, взгляды… Жилка пульсирует на седом виске пана Евстафия Любанского…
Я поднял глаза на луну, которая под аккомпанемент моих грез успела всплыть из глубины вечера… На почти белом ее диске четко просматривался силуэт… Женская фигура в платье с широкими рукавами, с высокой прической, с веером в руке… Да, настоящие привидения являются не по заказу. Сколько раз я мечтал хотя бы вот так же, тенью увидеть свое потерянное счастье — но тщетно… Я, христианин, завидовал Сигизмунду Августу, который использовал услуги чернокнижника Твардовского, чтобы вызвать призрак любимой… И никогда бы не побоялся схватить — пускай тень — в объятия… Только тот, кто дошел до предела отчаяния и даже заглянул туда, за грань, поймет меня. Но тут… Темный силуэт на луне… Я, конечно, попытался убедить себя, что это просто абстрактные пятна, из которых мое воображение составляет фигуру. Многие же видят на луне зайца, или братьев Каина и Авеля… Я тряс головой, закрывал глаза, даже нажал на глазное яблоко — все реальное должно на время расплываться, раздвоиться, а призрак — нет, ведь он же воспринимается не зрением, а больным воображением! Напрасно, все раздвоилось, расплылось. И земля сдвинулась под моими ногами, прежде чем я осознал, что ухожу… Максимально быстро, чтобы не назвать это самому себе паническим бегством. Вот что значит чужие призраки… В Тавридском Гурзуфе меня водили к кипарису, в котором якобы живет дух Александра Пушкина. Кипарис растет под окном усадьбы Раевских, где гостил поэт и сочинял стихи, глядя на молодое деревце. И даже сделал запись в дневнике о необычных дружеских чувствах, которые пробуждает в нем зеленый сосед, и оставил там же мистическое пророчество, что вернется сюда, чтобы созерцать божественные окрестности. В кроне кипариса приезжим показывают два силуэта: Пушкин, кудрявый, с бакенбардами, обнимает барышню в старосветском платье… Так вот, тот кипарис вызвал у меня такие же мерзкие, тяжелые чувства, что и упомянутые места языческих капищ. Теперь к списку могу присоединить Лошицу и магнолию кобус.
Потом мне рассказывали, что силуэт пани Ядвиги можно увидеть в Лошице на фоне полной луны, только когда цветет это призрачное деревце. Еще — что призрак белой женщины видели над рекой в том месте, где утонула пани Ядвига, а кто-то наблюдал, как она прогуливается между деревьев, сидит возле часовни, в которой поставлен ее свинцовый гроб… Театр теней… А для меня мораль всей этой истории такая. Любовь-страсть — это от старозаветного… инстинктивного… Возможно, достаточно простой, спокойной любви-уважения? Разве не испытывала такой любви дочь мозырского дворянина Киневич к своему мужу? Если бы не ее избалованность — не погибли бы оба. Семнадцать лет — не самая большая разница… Да и… двадцать три, как, скажем, между мной и вами, уважаемая Дорота,— тоже немного. Главное, чтобы девушка была рассудительной и серьезной… А духовная общность, может, стоит страсти. Тем более в суровое неопределенное время… Как вы думаете, Дорота?
Пан Белорецкий уставился на дочь друга сквозь очки, и непроизнесенное слово как будто повисло в освещенном погребальными свечами воздухе. Девушка смутилась.
— Я… я не знаю. Мне кажется, что любовь стоит того, чтобы ждать ее… в ответ.
— А если не дождешься? — Андрей Белорецкий жалостливо улыбнулся.— Всю жизнь — наблюдать, как у ее очага греются другие… А тебе — только отблеск… Разве не лучше — создать семью… С человеком, которого знаешь, которому веришь?
Ной почему нервно хохотнул, а Дорота перевела взгляд на Влада. Тот сразу отвел глаза…
— И все-таки — пусть уж хоть отсвет.
Эти слова Дорота почти прошептала. Зося фыркнула.
— Тоже мне, романтика… Революция победила — вот где романтика! Скоро семья как единица общества вообще исчезнет. А детей растить станут коммуной.
Пан Белорецкий даже перекрестился.
— Несчастные дети…
— Ты, Зося, еще вспомни теорию о том, что удовлетворить похоть не сложнее, чем выпить стакан воды,— раздраженно сказала Дорота.
— Кстати, я недавно копался в архивах, а там чего только не встретишь. Так товарищ Коллонтай, похоже, из рода ополяченных белорусов Калантаёв,— задумчиво произнес Белорецкий.— Когда-то фамилия звучала как Карантай, от слова «короткий»… Мне иногда кажется, что белорусы вылеплены из воска — так легко принимают любые формы под солнцем времени, лишь бы не быть самими собой… Эх, действительно, как говорил один мой старший коллега — если бы кто приказал белорусу быть белорусом, не было бы лучшего белоруса… А так… Точно по словам Купалы:
Там чутна: «Беларусь», там — «Незалежнасць!»
А там — «Паўстань пракляццем…». Ну, а мы?
Мы ў страху. Дум крутня… Разбежнасць…
Без толку крыллем хлопаем, як цьмы.
Одна из свечей замигала в последнем желании жить — и угасла, превратившись в грязную лужу воска. Мокрый ветер ударил в окно, так что остальные огоньки, еще живые, рванулись в сторону… Старый дом, стоя по деревянные колени в мартовской воде, заскрипел, тихонько зарыдал, словно в предчувствии смерти. Пятеро людей в нем замолчали, тоска отозвалась в их сердцах.
— Закончится наводнение, уйдем отсюда… И каждый из нас отправится в свою сторону,— проговорил Ной.— И, возможно, никогда мы больше не встретимся, а может быть, кому-то будет лучше не встречаться…
— Что ты такое говоришь? — встревожилась Дорота.
— Он говорит правду,— мрачно пояснил Белорецкий.— Нам выпало жить во времена перемен. А это, согласно китайской пословице, наихудшая судьба. Никто еще не знает, где следует быть, кто победит… Возможно, кто-то из вас будет управлять государством… Кто-то отопьет от отравленного кубка славы… А потом встретимся у одной стены — с выбоинами от пуль… И, возможно, у кого-то в руках будет револьвер, а у кого-то — пустота безнадежности.
— Ну, вы и наговорили здесь, дядюшка Андрей,— беззаботно рассмеялась Зося.— Даже дракон испугался… Подождите, мы еще пригласим вас на выставку Ноя…
— На которой будут твои портреты, Зося! Ты… ты позволишь мне нарисовать тебя? — Ной смотрел на девушку с такой тревогой и напряжением, как будто она, как дочь Жижеля, божества огня, теперь взмахнет ресницами, и огонь сожжет сердце.
— Рисуй, что мне, жалко…— ответила Зося преувеличенно равнодушным голосом.
Но Ной не захотел услышать это равнодушие и с благодарностью коснулся руки красавицы — легко, как облачко… Но рука художника вздрогнула, будто он действительно коснулся огня…
— А вот мои благородные предки рисовальщиков считали дворней,— лениво сказал Влад.— Правда, лицедеев и шутов они считали еще более низким сословием — как в Индии каста неприкасаемых. Так что я в их глазах — изгой… выродок… Сильные люди, властители своего времени не любят вымысла. Недавно вычитал стихотворение какого-то начинающего поэта Куделько под названием «Пляски на кладбище»: «Хватит плакать и вам над Рогнедою, Глянув в прошлое, тяжко вздыхать… Новый день пусть вам сказку поведает, Чью вы в песнях восхвалите стать». Просто для нас совет.
Ной скривился.
— Ну, это только по молодости можно брякнуть… Этот Куделько под именем Михась Чарот сам романтических стихов насочинял. И ни одной власти не придет в голову, скажем, запахать кладбище или построить на могилах театр.
— Мы еще не знаем, на что способна эта власть,— пан Белорецкий поднял воротник сюртука, словно ему стало холодно. В окно ударил ветер, и дом затрещал, зашептались по его углам тени, будто поветник — страшная шестикрылая птица — обнаружил в хозяйстве упущение и сейчас грозит нерадивому хозяину. Влад тоже поежился, как от северного ветра.
— Портрет свой не каждому можно доверить писать. Изображения, сделанные особенно тщательно, могут быть просто опасными для своих оригиналов…
— Что ты выдумываешь? — отозвался Ной.— Портрет Дориана Грея вспомнил?
Молодой артист отрицательно покачал головой.
— Да нет… Даже мой знакомый скульптор рассказывал, что когда снимает с кого-нибудь гипсовую маску, то особенно чувствительным особам после этой процедуры плохо, словно после кровопускания. Попробуй сфотографировать или нарисовать индейца, бедуина — посчитает, что ты его убить хочешь… Вон в прошлом веке выловили в море невероятно красивую деревянную скульптуру, которая украшала когда-то нос корабля. На скульптуре нашли надпись: «Аталанта»… Пока довезли до берега — корабельный штурман застрелился от любви к этому куску древесины. Потом покончил с собой смотритель музея, в который ее поместили… Говорят, просиживал перед Аталантой дни и ночи, глаз не отрывая… Я сам знаю похожую историю — от отца.
Дорота поставила перед Владом новую чашку с чаем.
— Осторожно, кипяток. Ну вот, говорила же, не хватайся… обжегся, как маленький. Теперь тебе, Ной, налью. А пока, Влад, расскажи, пожалуйста, свою историю. Искусство и мистика лучше, чем политика.
Влад вновь коснулся горячего кубка кончиками пальцев, помолчал…
— Ну что ж, могу рассказать.
История о статуе из подвалов дома Ваньковичей
Каждый минчанин знает, кто такие Ваньковичи. Инсургенты, масоны, авантюристы — как только о них не трепали языками недоброжелатели. Патриоты, воины, поэты и художники — говорили сторонники. Лет пять назад, во время бездомного блуждания в театрально-эсеровских мечтах, и мне, в числе других неимущих белорусов, довелось разжиться копейкой в «Учреждении взаимопомощи рода дворян Ваньковичей».
Конечно, прежде всего вспоминается великий Валентий, художник из этого рода, который рисовал Пушкина и Мицкевича и умер на руках последнего в Париже… Белорусскоязычные стихи Мицкевича уничтожили родственники. Картины Валентия Ваньковича разошлись по миру… И белорусы снова ни при чем, как дуб к желудю. Так вот, более полувека прошло со времени очередного восстания против империи, в котором, конечно, принимали участие и Ваньковичи. Особенно выделялся сын Валентия Ваньковича Ян-Эдвард. Работал он лесничим, имел усадьбу в Слепянке. Но враги знали его как инсургента по кличке Лелива, и кто, как не лесничий, мог сделать свой отряд невидимым в пуще? И всадник был он такой, что напоминал кентавра… Именно это одной ноябрьской ночью — хоть глаз выколи — спасло его от погони. Но не от тяжелой раны… Лесничий упал с лошади на одной из окраинных улочек Минска — что ж, на каждого есть его пуля, и вероятность встречи с ней не больше, чем встреча с настоящей любовью. Лошадь, ошалев от долгого галопа, не остановилась, потеряв седока… Ян-Эдвард тщетно пытался что-то рассмотреть в непроглядной, как саван, темени, прошитой холодными нитями дождя. Мертвый сон города. Ни фонаря, ни даже огонька лампады… Вот, кажется, каменное крыльцо какого-то дома. Но двери нет — стена… Найдет ли раненый инсургент приют или отсюда начнется его путь к петле? Ян чувствовал, что истекает кровью. Хотя бы немного света… В этом городе были дома, стучаться в которые Ванькович не хотел даже умирая. Огниво инсургент всегда имеет при себе… Слабый огонек осветил каменную стену в темных потеках, окно с закрытыми ставнями… Кажется, угол Францисканской? Огонь мрачно отражался в темной лужице, образовавшейся возле раненого плеча… Яну показалось, что сама ночь качнулась перед глазами, как отражение на поверхности бездонного омута… Как он ослаб… Не заметил сразу… Вот же — дверь. Последним усилием инсургент ударил в нее… Перед тем, как потерять сознание, показалось: дверь распахнулась, из нее потянуло странным запахом — как будто открылся старый-старый сундук…
Раненый пришел в себя в постели — огромной, как Грюнвальдское поле, и твердой, как земля того поля. Резные колонны из черного дерева, которые должны были поддерживать исчезнувший балдахин, ужасно напоминали колонны усыпальницы. И комна86 та была большой, пустой и темной. Из щелей ставень пробивался туманный свет. И словно из этого света к кровати приблизилась фигура. Ян увидел бледное красивое лицо, большие глаза, грустные-грустные, прямо сердце защемило от боли, отраженной в этих глазах… Потом Ванькович так и не смог вспомнить, во что была одета девушка — но точно, что в черное, и даже звук ее голоса исчез из памяти — хотя они разговаривали… Много раз он пытался ее нарисовать. Корона темных кос над высоким белым лбом… Горько поджатые губы, нос с точеной горбинкой, изломанные брови. Глаза светло-серые… Один уголок рта чуть приподнят, и от этого выражение лица непонятное: сочувствие? Насмешка? Ванькович не узнал ни имени паненки, ни кто она. Хотя поступку незнакомки не удивился — многие шляхтянки устраивали лазареты для повстанцев в своих имениях, носили траур по погибшим, хотя это специально запрещалось, и по личному приказу минского губернатора за появление на людях в черном платье надлежало заплатить штраф в 50 рублей серебром.
Шли дни, а Ян все никого не видел, кроме своей таинственной хозяйки. Понемногу он начал вставать, ходить по комнатам — все темные, пустынные. Пытался открыть хотя бы одно окно — но то ли он так ослаб, то ли ставни заржавели от старости… Что ж, нельзя упрекать за предосторожности тех, кто рискует жизнью ради благородного дела. Возможно, дом считался заброшенным, и не надо, чтобы случайный прохожий обнаружил в нем признаки жизни. Правда, здание, видимо, стояло на отшибе — через окна и вечно влажные стены не проникало ни единого звука, как в могиле. Но жандармы проверяли даже заброшенные дома…
— Только кровь и огонь открывают двери этого дома,— успокоила хозяйка, и Ян в очередной раз утонул в ее огромных глазах цвета серого мартовского неба. Так, хозяйка не ошибается — враг сюда не войдет, не пролив крови. Оружие при инсургенте. Сабля, украшенная единственным, но зато огромным бриллиантом — наследие прадеда. И пистолет, правда, без патронов… Но Ян почему-то был уверен, что в этом доме найдутся и порох, и пули… Ведь откудато брались на столе хлеб и вино, другие нехитрые яства, вкуса которых он тоже не помнил. Беседы между гостем и хозяйкой напоминали весенние ручьи — то прячутся под снегом, то снова блестят на солнце, то приостанавливаются, тяжело перекатывая камешки. Ян рассказал о себе все… И о первой несчастной любви, и свою мечту повторить славу отца — стать художником… О лемпарде, последнем в этих краях, который однажды попал на прицел Янова ружья — но охотник так и не решился нажать на курок, и позволил лесному великану с пятнистым желтым мехом, старому, но все еще грозному — уйти, чтобы встретить смерть, достойную последнего из рода, смерть на свободе. И о лесных птицах с синими перьями, что прячутся в зарослях боярышника и кричат голосами младенцев, о русалках, что качаются на сплетенных ветках березы, а если положить под деревом борону — русалка запутается в ней волосами и будет тебе служить… Когда-то Ян хотел поймать такую… Но зачем пойманная любовь? Разве ее сравнишь с такой, которая рождается сейчас в его груди, вызревает, как жемчужина в своей ракушке, от первой песчинки, причинившей непрерывную боль, и обрастает, медленно и неизбежно, все новыми слоями перламутра, увеличивается и сияет, и все больше бередит душу и болит…
Ян и хозяйка молча бродили по полутемным комнатам. Их медленные движения напоминали старинный придворный танец — без прикосновений рук, с взаимными церемонными поклонами, с тайным огнем — по крайней мере, в груди Яна он пылал… Как пылал фонарь в его руке, когда по крутым темным ступеням они с хозяйкой спустились в подземелье дома. Об этом попросил Ян — ведь подземелья были и под домом его предков на Волоцкой, у минской Соборной площади. Они существовали еще до того, как Ваньковичи построили свой дом, и где заканчивались — никто до сих пор не изведал. Говорили, что в центре города земля — как муравейник… Что ж, Ваньковичи пользовались своими подземельями неоднократно… Темными узкими ходами пробирались они на тайные свидания с другими заговорщиками, убегали из осады, прятали там оружие… Но здесь, в этом доме, подземелья выглядели иначе. Высокий потолок, посередине — толстая каменная колонна… Хозяйка обняла ее, приложилась к камню лбом.
— Послушай…
Ян тоже прислонился к колонне с другой стороны. Глухой звук — будто под землей кто-то бил огромным молотом по огромной наковальне, и от ударов вздрагивали даже каменный пол и колонна.
— В каждом городе есть такое место,— тихо проговорила хозяйка.— Сердце города… Возможно, это великан Менеск все еще крутит свои жернова и перемалывает камни — иначе они будут расти и заполнят всю землю. А может, это бьют источники — кровь земли. Выпусти ее вконец — и земля умрет. А может, это барабаны, которые сзывают подземную стражу — знаешь, под каждым городом есть своя подземная стража?
— Я знаю только одно — я люблю тебя,— прошептал Ян и осторожно положил ладонь на руку хозяйки, прижатую к камню колонны. Какие холодные пальцы… Тонкие брови пани изогнулись, как будто от недоверия.
— Это подземелье помнит историю одной страстной любви…
Красавица отошла от колонны и начала рассказ тем же тихим голосом, как будто кто-то мог подслушать.
— История, старая, как мир… Здесь жил купец с тремя дочерьми. Две родные, одна приемная. К барышням взяли гувернанта. Никто не подумал о том, что молодой человек слишком хорош для того, чтобы брать его в дом, где живут девушки. Все три девицы стали мечтать об одном юноше. Любовь досталась только одной из них, неродной. Старшие узнали, что 90 сестра сговорилась бежать с любимым. Они связали счастливицу шелковыми шарфами, заперли в этом подвале и побежали за отцом. И как раз случилось наводнение. Свислочь разлилась… Подземелье затопило. Вот и все… Когда жених, тщетно прождав, пришел сюда и увидел труп, плавающий в темной воде… Нравы тогда были еще более дикими, чем сейчас. Он убил обеих сестер — убил мизерекордией, специальным кинжалом, которым добивали поваленных рыцарей, воткнув его в щель между латами и шлемом. А потом повесился. Тоже здесь, в подвале. Страшно и банально, правда?
Непонятная улыбка тронула тонкие губы девушки. Ян потянулся к ней… И снова мир расплылся в его глазах… Ванькович очнулся только в постели — как же она, бедная, его сюда притащила из подвала? Может, в доме есть еще кто-нибудь?
Но проверить не получалось. После своего признания Ян ослаб… С трудом поднимался, чтобы пройтись по комнате… Зато теперь каждый вечер к его кровати подходила хозяйка, чтобы поцеловать в лоб. После этого наступал тяжелый сон… Тяжелый — ведь все больше бередила мысль о том, что делается там, за закрытыми ставнями. Как он мог на такое время забыть о своем долге перед отечеством, перед товарищами? Сообщила ли хозяйка им, что он жив? Чем дальше, тем больше сомнения переполняли Яна, и к его любви примешивался яд. Он любил — и боялся этой бледной красавицы, все больше боялся прикосновения ее холодных губ к своему горячему лбу. В ночном бреду призрачные водоросли оплетали его, он захлебывался в воде. Нет, так дальше невыносимо. В конце концов, он из рода тех, кто не изменял родине даже ради любви. Только бы открыть дверь… Все чаще приходила страшная мысль: это плен… Неужели он попал прямо в руки тех, с кем боролся? Но ведь она спасла ему жизнь… Теперь она должна его отпустить! Все равно он вернется — как возвращается посаженный на цепь зверь… На все расспросы и просьбы ответ — блуждающая улыбка, поцелуй… А когда настаивал — ее лицо по-детски морщилось, из горла вырывалось жалобное рыдание… А глаза снова наполнялись болью. Так что делалось стыдно за недоверие. А потом — снова охватывал ужас, что это — навсегда… Эти полутемные комнаты, путаные речи, осторожные шаги… У Яна не было сил даже повысить голос. Рана уже зажила, а у него все еще ощущение, что теряет кровь… И еще… Только теперь Ян осознал, что в доме нет икон. Только распятие — простое, из черного дерева — над дверью, навсегда, возможно, закрытой для гостя. Как она говорила? Эту дверь открывают только кровь и огонь? Может быть, в этих словах совсем другой смысл? Крови, когда Ян попал сюда, было достаточно… И он же тогда, когда упал на мостовую, зажег огонь перед стеной, в которой — возможно, и правда! — не имелось двери!
Когда девушка пришла поцеловать его перед сном, Ян сделал вид, что крепко спит, уткнув лицо в подушку. Хозяйка долго стояла над ним, Ян чувствовал ее пристальный взгляд. Дыхание у того, кто спит, ровное и глубокое. Только бы не сдвинуться, не вздохнуть прерывисто… Еще немного — и не выдержит… Но почти беззвучные шаги отдалились от кровати. Ян выждал еще немного и поднялся. Почему все-таки она, если была врагом, не спрятала его саблю?
Перед дверью без засовов, без отверстия для ключа, Ян высек огонь… Листок, вырванный из блокнота, с очередным нарисованным карандашом образом хозяйки дома, съежился, потемнел… Лепестки огня шевелили его на полу, словно жадные жуки. Пора… Ванькович обнажил левую руку до локтя и полоснул саблей. Огонь и кровь! За спиной послышалось чтото вроде тонкого жалобного плача. Дверь не открылась, но стала словно прозрачной, как болотный туман. И Ян рванулся туда…
Он упал на мостовую перед крыльцом опустевшего дома. Тусклое утро поздней осени показалось его отвыкшим от света глазам ослепительным, как солнце. Где-то процокали копыта… Видимо, извозчики начали работу. Заплакал ребенок… Ему отозвался сердитый заспанный женский голос. Лесничий поднялся. Да, это был его мир, его город, его горе… И его долг. Сколько он пропустил? Неделю жизни? Месяц? Или пролетели годы?
Он даже не оглянулся на таинственный дом. Как не оглядываются на готового выстрелить в спину бывшего друга.
Восстание утопало в крови. Империя не хотела уступать и наименьшую часть своей власти. Поэтому душила всех последовательно и беспощадно.
Повстанческий командир Лелива снова стал грозой врагов. Но надо ли объяснять, что бледное лицо незнакомки виделось ему и во сне, и наяву, и ни одна женщина не могла сравниться с ней. Это была слабость — но иногда Яну становилось так больно, что он жалел, почему не остался навсегда в доме на Францисканской. Ну, о подвигах живописать не стану… Я не имею способностей баталиста. Отряд Яна дрался на Подляшье и под Брестом… Его снова ранили, и некоторое время он скрывался в подвалах минского имения Ваньковичей — инсургенты решили: менее всего ищут то, что у всех на виду. Болела рана на плече, но сильнее болела рана невидимая. Каждый вечер, когда Ванькович ложился в постель, ему казалось, что над ним склоняется тонкая фигура, и холодные губы трогают лоб. Почему она не оставит его в покое? Там, в подвалах родового дома, Ян и высек красивую мраморную статую. Кого она изображала — понятно… Статуя не предназначалась для чужих глаз. Ян похоронил ее там же, в подвалах. Прочитал над ней молитву… И словно почувствовал себя освобожденным. Потом с помощью писательницы Элизы Ожешко, с которой он дружил, уехал за границу. Еще повоевал в Галиции, позже перебрался в Париж. Российские власти забрали поместье в Слепянке, во время обыска исчезло и самое ценное — портрет Александра Пушкина кисти отца Яна, Валентия Ваньковича. Портрет, которым так восхищались современники… Возможно, он до сих пор украшает кабинет какого-нибудь жандармского чиновника.
Ян Ванькович дожил почти до нашего столетия. Не знаю, тревожил ли его призрак прекрасной девы из дома на Францисканской, но мраморная статуя до сих пор — в подвалах дома Ваньковичей. И я не хотел бы быть тем, кто ее выкопает. Ну, а дом на Францисканской, спросите вы… Есть, почему бы ему не бывать. И крыльцо имеется перед глухой стеной. Но дом совсем не заброшен — на первом этаже четыре крохотных магазинчика: табак, зелень, канцелярские принадлежности и изделия из жести. На втором этаже ютятся семьи хозяев, как семечки в перезрелой тыкве. Белье развешано на веревках, протянутых от окна к окну, дети ревут, бабы верещат. В подвалах — склады: бочки, ящики, Джомолунгма ведер и жестяных тазиков… История о купце и его трех дочерях подтверждается городской хроникой. Но обитатели дома в привидения явно не верят. Конечно, никто из них не пытался открыть несуществующие двери огнем и кровью… Да и пробовать не собирались.
Влад замолчал, и в тишине все услышали треск — догорала еще одна свеча, и огонек фитиля тронул влажную поверхность стола. Дорота быстренько задула умирающий огонь. Пан Белорецкий нарушил молчание:
— Сегодняшние декаденты страшно любят истории о вампирах и ламиях.
— И правда,— заметил Ной.— У нас на выставки приходила одна художница-акварелистка, которая распускала о себе слухи, будто она вампирша. Придет — страх смотреть: с набеленным лицом, обведенными черным глазами и браслетом на ноге, а клыки напильником заострены… Чтобы эти клыки все видели, она все время поднимала верхнюю губу, как побитая кошка. А на губах — красная краска. А началось все с того, что какой шлемизул вякнул ей насчет особенно пикантной бледности ее лица… Мне рассказывали, что когда она целовалась, то обязательно до крови.
Все расхохотались.
— Признайся, на себе попробовал? — спросил Влад.
Ной покрутил головой.
— Знаешь, у меня все-таки есть какой-то… художественный вкус.
— Короче, тебе нравятся другие,— отметил Влад неожиданно мрачно, и временные обитатели дома замолчали, будто было сказано что-то опасное.— Что ж, моя мать говорила, что любовь — это танец… Сложный танец двоих, где почти невозможно сохранить равновесие — один делает шаг вперед, другой на шаг отступает… Один склоняется, второй выпрямляется… Потом наоборот… Неверное движение — и все нарушено, тени разошлись, маски слетели на паркет, красное конфетти сердец хрустит под каблуками.
— Я вообразила средневековую паванну, которую мы танцевали на вечеринке… — тихо проговорила Дорота.— Паванна на смерть инфанты — так, кажется, это называлось?
Влад, будто отгоняя тоску, тряхнул густыми волосами, вскочил и склонился в танцевальном па перед Доротой.
— Паванна!
— А как же без музыки? — возразила Зося. Но Дорота поднялась, и начался удивительный танец — в тишине, в темной комнате, в мерцании свечей… Медленно, чинно… Один за другим все, даже Андрей Белорецкий, присоединялись к этим пляскам, словно к похоронной процессии… Никто не улыбался, не говорил, не пробовал напеть мотив, только движения сливались в едином ритме. Настала часть паванны, которая называется каприоль, когда танцоры имитируют скачку лошадей. Тени все быстрее скользили по стенам, люди склонялись и выпрямлялись, менялись партнерами… Дыхание учащалось… Руки не спешили прерывать прикосновение к рукам…
Если не можешь сказать — танцуй…
Если невозможно кричать — танцуй…
Если рядом смерть — танцуй… Как танцуют облака и огонь, как танцует сама земля в объятиях ветра…
Влад схватил Зосю, пан Белорецкий задержал руку побледневшей Дороты в своей руке…
Стук в дверь прервал шум дождя и остановил безумный танец.
Незваных гостей было трое. Они вошли вместе с дождем, ветром и тревогой. Вода стекала по остроконечной шапке-шлеме главного. Молодое лицо, широкое в скулах, светлые прямые брови и взгляд человека, который не сомневается, как не знает сомнений ружье у него за плечами. Двое других, один в крестьянской свитке, второй в солдатском мундире со споротыми нашивками, держали ружья наизготовку, и на лицах у них только настороженность и страх… Смесь, которая делает людей убийцами.
— Больше в доме никого нет?
Зося подскочила к пришельцу, зарумянившись.
— Привет, товарищ Александр.
Гость едва заметно кивнул головой.
— Добрый вечер, товарищ Зося. Ты здесь… забавляешься, смотрю.
Андрей Белорецкий вдруг рассмеялся. Нехорошо рассмеялся, сухо.
— Молодец, девочка. Будешь комиссаршей.
Зося с досадой оглянулась.
— Ну зачем вы так, пан Белорецкий.
— А у вас, господин, кстати, документы есть? — сейчас же холодно откликнулся Александр, и фольклорист поежился, словно ступил босиком в холодную воду.
— Если вам не противно — то покажу свой паспорт, еще царской России,— Белорецкий порылся в карманах пиджака, и на свет появилась скомканная бумажка. Но пришельцы даже не прикоснулись к ней.
Александр обвел светлыми глазами комнату.
— У вас тут уютненько… Даже свечи есть. Вон сколько… А в городе по карточкам свечи получают.
— Буржуи…— проворчал человек в солдатской шинели.— У них здесь неизвестно чего припрятано.
— Завтра национализируем, оприходуем,— равнодушно произнес Александр. Зося бросила быстрый виноватый взгляд на подругу, но Дорота молчала, опустив голову.
— А вот есть ли здесь принадлежащие к контрреволюционной организации социал-революционеров? — Гости крепче взялись за ружья, наступило молчание.
Дорота вскинула голову.
— Здесь нет политиков. Мы просто… рассказывали сказки.
— Ну да,— подтвердила Зося,— Пан Белорецкий — профессор, он изучает фольклор… Обряды всякие, легенды. Песни народные. Этот парень, Ной — художник, очень талантливый. Дорота — учительница, как и я, только я естественные науки преподаю, а она — языки. А Влад — артист…
— Артист, говоришь? — Александр кивнул головой в сторону Влада.— А разве не ты говорила, что он эсер?
— Неправда! — Голос Зоси дрогнул и стал тонким, как стебелек льна.— Как ты можешь, Саша… Я тебе доверилась… Это же между нами двумя речь велась. Рассказывала шутя… я же не думала… И не эсер он давно… Так, чудак, бродяга…
— А революция шуток не любит,— пришелец начал, похоже, веселиться.— Не сцы, Зойка, врагов надо истреблять, тогда и заживем в лимонаде,— и повернулся к Владу.— Ну, ты, руки подними…
Двое наставили на Влада свои ружья, звякнули затворы, как могильные лопаты о крышку гроба.
Влад медленно поднял руки. На его бледных щеках вспыхнули красные пятна. На Зосю он старался не смотреть. А та отчаянно кричала, дергая знакомого за рукав.
— Саша, Сашенька, ну пойми же… Это ошибка. Это все друзья. Белорусы. Талантливые, честные… Республике они нужны. Ну пусть они… твои… опустят ружья… Как же мне дальше жить — с таким…
На последних словах голос девушки сорвался на шепот. Александр властно обнял ее, встряхнул.
— Какая ты еще… несознательная. Врага разоблачить — не стыд. Врага разоблачить — почетно. А свидетели мешают, это я понимаю… Ну я же сказал, не сцы, девка, я все устрою. Свидетелей никаких не будет.
И повернулся к оцепеневшим людям.
— Всем — на выход!
— Так лодка только одна, командир! — прохрипел гость в крестьянской свитке. Его горло обматывал грязный шарф, сделанный, похоже, из церковной парчи.— В лодку только пятеро сядут.
Александр пожал плечами.
— Значит, остальные сами поплывут. Ну…
И мгновенно, как бросок летучей мыши, выхватил из кармана револьвер.
Зося попыталась отвести его руку.
— Сашенька, не надо!
— С ними хочешь? Дура! Они — буржуи. А ты — пролетарка. Выбирай, с революцией ты или нет?
Зося растерянно молчала, прерывисто всхлипывая.
— Была одна история на берегу Свислочи,— сквозь зубы проговорил Белорецкий.— Подрались из-за красотки два шляхтича… Истекают кровью, один другому и говорит: «Что же мы, оба умрем, а даме нашей одинокой жить… Пошли, пока на ногах, к ней — пусть выберет, кому умереть. А другой перевяжет свои раны и познает счастье». Пришли к дому паненки, алой кровью путь поливая — а из ее окна третий, счастливый, вылезает… Короче, умерли все,— не совсем логично завершил рассказ пан Андрей.
— Жаль, я не нарисую тебя, Зося,— тихо проговорил Ной и улыбнулся.— Из-за меня можешь не мучиться совестью. Ты не виновата.
И шагнул к двери…
— Подожди, Ной! — Зося пыталась успокоиться.— Хорошо. Хорошо, Саша. Я все поняла. Да. Это честь. Я не стыжусь свидетелей. Пусть они остаются. Забери только того, кто вам нужен.
Александр широко улыбнулся.
— Похоже, нам нужны все. Что-то слишком подозрительные у тебя друзья, Зойка. Конечно, девкой полна улица, но женой полна только печь, в дом с улицей не заходят. Открывай дверь, кудрявый! Чего стал!
— Эту дверь открывают только огонь и кровь,— проговорил Влад, рванулся и, падая, сбросил на пол похоронные свечи. Выстрелы, визг… Огонь побежал по скатерти, по портьерам… Загорелись старые газеты, разбросанные как попало по полу… А потом пролилась кровь…
И двери открылись.
Для каждого — свои.
…Красный карбункул светился в черных холодных волнах, только что освобожденных из-подо льда. Художник смотрел с моста в Свислочь. Обрывки газеты белыми бабочками кружили над водой, опускались на волны. Самое подходящее место для несправедливых слов. А начиналось все так хорошо… Персональная выставка, заказ на росписи для Дома крестьянина… Абстракционизм — рука империализма. Выкормыш, выродок, враг… Слова лишались нормального смысла. Боже мой, ну почему он не может рисовать, как все — портреты вождей, счастливых колхозников, стахановцев… Пытался же — не так, слишком тревожно, слишком сложно… Картины, наверное, уже вывезли из мастерской. Интересно, разберут по дачам или сожгут? А куда вывезут его, их создателя? Самое страшное — это уже он знал — заступаться и даже сочувствовать никто не станет. Он сам еще недавно убеждал себя, когда узнавал об арестах знакомых: этот, недотепа, наделал ошибок… А тот, пожалуй, и правда замаскировавшийся враг. А этот, ясно, невиновен. Но — разберутся без нас, выкрутится, оправдается. Теперь пришли за ним. Карбункул светился сквозь волны. Самое время попробовать достать…
Сверкающий зал дома профсоюзов взорвался аплодисментами. Директор образцовой детской воспитательной колонии, стройная, с коротко стриженными рыжими волосами уходила с трибуны, широко улыбаясь. Доклад был хороший. Правильный доклад. Но дела двух пятиклассников вчера исчезли. Бедные Полинка и Алесь. Дети врага народа. Она, искупая 102 давнишнюю ошибку юности, спасала таких детей, как могла. Чем они виноваты? Меняла фамилии, переправляла года рождения. Учила, как отвечать: сирота, родителей не помню… Заместитель по комсомольской работе, недавно присланная с Урала, вчера на что-то намекала — пронюхала, паразитка. Что ж, рано или поздно…
Человек в телогрейке, с измученным черным лицом, сидел на деревянной вокзальной скамейке, сплошь изрезанной ножиками. Худой узелок лежал у ног, обутых в привидения прежних ботинок — перевязанные веревочками, дырки заткнуты газетами.
— А что это, гражданин, у вас за газетка торчит?
Человек привычно послушно поднялся, руки сами сложились за спиной. Один из патрульных наклонился. Дернул за край бумаги, что показывался из ботинка незнакомца.
— Ты… ты это что? Портрет товарища Берии поганить? А ну, документы!
Человек дрожащей рукой достал из-за пазухи бумажки.
— А-га, возвращаемся из мест дальних. Освобожден за активное участие в агитбригаде. Артист, значит… Командирован в Витебский театр… Кто это у вас такой добренький в начальниках? Разберемся, гнида! А ну, пошел…
— Эта реформа правописания не соответствует самой природе нашего языка,— голос заведующей кафедрой, сухопарой женщины с рано поседевшими, когда-то черными, косами, уложенными короной, был тихий, ровный, совсем лишен эмоций. Но присутствующих охватывал ужас, как будто она истошно кричала. — Приближение к русскому языку — не тот путь, на котором наша национальная культура может полностью раскрыться. Ведь каждый язык — живой организм, который развивается по своим законам, и культурный человек должен беречь все языки мира, не давать им исчезать и терять самобытность. Тем более мы, белорусы, должны гордиться своим языком, на котором писались Статут Великого Княжества Литовского и предисловия Скорины, и хранить его.
Два молодых преподавателя, бросая друг на друга настороженные взгляды, торопливо записывали слова кураторши. Один из них должен был успеть доложить куда следует первым, и тем самым спастись.
Над вересковой пустошью горела острая звезда, тени Дикой Охоты скользили над землей… Андрей Белорецкий подавил крик и бросился бежать в валежник, что темнел рядом. Теперь он не мог бегать так быстро, как в молодости. Да и глаза, ослабевшие от работы над неразборчивым почерком средневековых переписчиков, даже луну видели в виде светлого расплывчатого пятна — словно накрахмаленный чепец заброшен в печку. Дом на Плебанских мельницах становился грустным преданием, превращаясь в пепел.
— Стой, гад! — выстрелы за спиной уже не беспокоили. Светлое белорусское будущее было здесь.