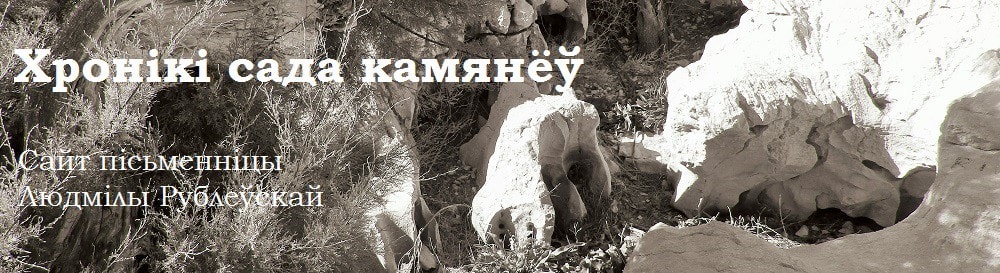Людмила Рублевская
АВАНТЮРЫ
ПРАНТИША ВЫРВИЧА, ШКОЛЯРА И ШПИКА
Медный шелег — это вам не серебряный грош… И тем более не червонный талер.
Но чтобы определить, куда двигать дальше от этой неуютной развилки, где только и есть что три осины, покосившийся деревянный крест да огромная, как саксонская кровать короля Августа, и бездонная, словно карманы его фаворитов, лужа, то и медяк сгодится.
Пранцысь — вчерашний ученик Менского иезуитского коллегиума, а сегодня — пройдоха, голодранец, бродяга, галыганец и как там ещё чествовала его торговка булками на Нижнем рынке, и что впереди — неизвестно, ведь в восемнадцать лет даже святой Франтишек Асизский имел в голове ветер, а в руках — чарку вина…
Правда, вином, сладким да соблазнительным, подобно яблоку в руке прабабки Евы, видимо, угоститься Пранцысю придётся ещё не скоро… Имеем в виду — за собственный счёт.
Но где-нибудь да и найдётся дармовой кубок для не дюже крепкого, однако ладного голубоглазого школяра с улыбчивым ртом и упрямым русым чубом… Где?
Пранцысь подкинул шелег вверх. Назад он вернулся будто бы неохотно, несколько раз перевернувшись в воздухе — ясное дело, компании, даже такой же медной, в суме хозяина ему не предвиделось. Боевитый всадник с мечом на тусклом диске монеты скакал в сторону Воложина. А может, Варшавы… Или Дрездена…
А почему бы школяру, который основательно овладел кухонной латиницей, не дойти до Дрездена или даже до Рима? Повсюду найдётся жирная торговка булками, которая ради весьма полезной для разгона апатии и сжигания лишней желчи перепалки с соседками по базару иногда теряет бдительность, и уж, ясное дело, догнать не способна шустрого, как жидкое серебро, потомка обнищавшего шляхетского рода Вырвичей герба «Гиппоцентавр» — где несколько столетий кентавр с благообразным, зело кротким лицом замахивается мечом на собственный хвост, превратившийся в клыкастого дракона. Отец, пан Данила Вырвич, а он иногда после трактира уподоблялся побитому дракону, говорил, изображение на их гербе означает, что в каждом прячется и ангел, и скот покорный, и зверь хищный, и чтобы оставаться человеком, надобно всегда иметь при себе сверкающий меч шляхетской чести и отваги…
Осины жалостливо зашуршали узкими листьями, будто костёльные кликуши в спину заскулили: ой, пропадёт, сломает шею, погубит душу свою непокора чубатая…
А Пранцысь перекрестился на скособоченный крест с остатками оброчного рушника, лет двадцать назад сотканого опасающейся, что не поведут к венцу, или что не вернётся из славного королевского войска её человек, ткачихой… Поправил на голове шапку шляхетскую с настоящим, хоть и молью побитым, соболем и желтоватым диамантовым гузом — единственным, что кроме потемневшего от времени прадедового золотого сигнета да сабли с выгравированым на эфесе гербом «Гиппоцентавр» сумел подарить сыну-студиозису старший пан Вырвич. Старательно начищенный Гиппоцентавр был во время срочной ретирады позорно покинут в конвенте — общежитии коллегиума… Вспоминая об утраченном шляхетском оружии, Прантиш подавил горький вздох и пошагал — туда, куда ветер дует и летят первые осенние листья, и облака, и птицы Симург, и мечты недоучек иезуитского коллегиума.
Глава первая Как Пранцысь купил алхимика
| К |
арета была роскошной — и грязной. Грязной, как мужицкий кожаный лапоть — поршень. Из-за налипшей
грязи нельзя было рассмотреть даже герб на дверках. А кони сытые, резвые… Жижа фонтаном из-под копыт… Эх, когда бы здесь кусты на обочине, да сумерки, да кони немного замедлили… Тогда бы Пранцысь прицепился к экипажу, и с помощью святого Франтасия доехал хоть до Каменной Горки. Но было светло, а кучер сердито посматривал по сторонам, как филин в поисках неосторожной мыши. Пранцысь тоскливо глядел вслед карете, когда вдруг… Неужто святой Франтасий посодействовал? — кучер, услышав окрик хозяина, натянул вожжи… Карета остановилась. Но мудрый школяр не спешил подбегать — мало чего заблагорассудится панам? Может, злобу на ком-либо сорвать захотелось… Известно, шляхтич к шляхтичу должен обращаться «пан-брат», как с равным, независимо, магнат ли ты, или «посконный», у которого ни одного холопа не имеется. Но в действительности шитый золотом кунтуш облезлому соболю не ровня. С братьями Володковичами, что с Радзивиллами водятся, столкнёшься не в добрый час, не приведи Господь — сто и одна плеть обеспечены… Не за понюх табаку, для форсу. А из окошка кареты между тем высунулось усатое лицо путешественника. Лицо красное, усы пшеничные длиннющие, на шапке диамантовый гуз почти со сливу, и от злости чуть не огнём дышит. Остановился краснолицый взглядом на Пран-
евом пальце поблескивал тускло — недаром шляхтич скорее с голоду сдохнет, чем без знаков своего звания останется. Парень в очередной раз пожалел, что сабли нет. Эх, где ты, сабелька… Пусть чёрная, не парадная, в ножнах из кожи угря… Без коня тоже плохо, но всегда соврать можно, что проиграл верного дрыгканта в карты. А шляхтич без сабли — всё одно что голый.
— Эй, ты, гицель! Школяр! Тебе говорю, не луже. Подойди. Фортуну свою лови!
Ага, фортуну… Такой красномордый разве что кулаком в рыло одарит.
Но Пранцысь осторожно приблизился, готовый мгновенно отскочить.
— Что, у иезуитов учишься? — скользнул путник взглядом по Пранцысевой одёжке. — Шляхтич?
— Шляхтич! — гордо ответил Пранцысь, положив руку с сигнетом на воображаемую саблю.
— А деньги имеешь, бездельник? Стоять! — рявкнул, заметив, что Пранцысь при неделикатном вопросе о деньгах отпрыгнул на три лужи, а Пранцысь в свою очередь заметил самое досадное, что можно увидеть на пустом осеннем большаке, а именно ствол направленого на него пистолета. Тут особо не побегаешь… Да и кучер вон какой грозный, и тоже с пистолетом за кушаком — этот не замедлит по хозяйскому приказу погнаться.
— Ты что думаешь, пад Агалинский грабить тебя будет? Я продать одну ценную вещь желаю. Ну, хоть какая ломаная полушка имеется?
Пранцысь неохотно полез в карман.
— Вот… Шелег…
— Матерь Божая Ченстоховская! Целый шелег! — пистолет затрясся в руке краснолицего — так захохотал. — Слышь, звездочёт? Я продам тебя за целый шелег! — добавил он, повернувшись к кому-то в карете.
Потом снова спросил у путника:
— Как тебя зовут? Имя скажи!
— Пранцысь Вырвич, славного рода Вырвичей из Подневодья, герба «Гиппоцентавр»!
— Пусть будет Вырвич… Записывай… — последнее снова было сказано к неизвестному в карете.
Пранцысь тоскливо поглядывал по сторонам, высматривая спасение. Вдруг дверка с заляпаным грязью гербом распахнулась, и князь Агалинский выволок из кареты тощего немолодого типуса в длинной чёрной одёже, похожей на мантию преподователя коллегиума, с бритым по немецкому обычаю лицом. Мужчина посматривал колючими тёмными глазами из-под отросших чёрных лохм так ненавидяще, что Пранцысю показалось — сейчас услышит привычный окрик: «Это самый ленивый студиозус от Тибра до Борисфена! Берёзовых розог ему…» Между тем пан Агалинский могучей рукой едва не оторвал за загривок типуса от земли, хоть тот был выше его на полголовы, и толкнул в грязь, просто под ноги школяру.
— Давай шелег, сударь!
Пранцысь протянул на ладони свою последнюю монетку… Агалинский взял её двумя пальцами:
— Вот! Небо свидетель, слово шляхтича: с этой поры мерзавец Бутримус принадлежит тебе, делай с ним, что хочешь, — и полез назад в карету, насмешливо выкрикивая на прощание. — Вот где счастье, парень, привалило. Это учёный муж, алхимик. Он тебе золота наварит, засыплешься. Не забывай только бока ему подправлять колом, чернокнижнику проклятому!
Из кареты просто в лицо Прантишу вылетел бумажный свиток, тот еле успел его поймать.
Кучер тоже подарил на прощание ошалелому Пранцысю очень неприятную ухмылку, дёрнул вожжи…
Только когда карета отдалилась на расстояние свиста, Пранцысь немного очухался и перевёл взгляд на своё новое владение.
Человек молча поднялся на ноги и отряс длинную чёрную свитку. Его нос напоминал клюв хищной птицы, губы презрительно поджатые… Так что Пранцысю показалось — это не он купил лохматого проходимца, а совсем наоборот.
Может, пока не поздно, стоит удрать от этого типуса подальше? А вдруг он действительно колдун… Прантиш развернул свиток: это была оформленая как положено бумага на владение слугою мужского пола Балтромеем Лёдником, мастером тайных наук, доктором и толмачом, который по причине невозможности выплатить долг в двести дукатов дал присягу служить своему пану пожизненно, без платы и права уйти, и пан может распоряжаться им, как ему угодно. Имя Прантиша немного криво вписали на положенное место, чернила ещё не просохли, и последняя буква фамилии имела размазанный хвостик, будто её задержали, когда собиралась убегать с подозрительного листа.
Между тем алхимик вперился в своего нового хозяина мрачным пронзительным взглядом. Молчание затянулось, как варшавский сойм. Его нарушил Бутримус.
— Ну?
Пранцысь растерялся.
— Что собирается делать мой хозяин? Здесь ночевать, или как? Пан Прантиш, матерь Божья… Только безмозглого мальчишки мне не хватало во владельцы.
Голос звездочёта даже скрипел от презрения. Вырвич обиделся. В конце концов это не его только что продали как лапотного мужика, а спесивого доктора. Нужно показать ему, кто на каком шестке будет ночевать!
— Куда прикажу, Бутримус, туда и пойдём… В ближайший трактир, например.
— Было бы кстати, чтоб вы называли меня доктором, — мрачно промолвил слуга Пранцыся. — Докторского звания меня никто не лишал, так же, как Платон не перестал быть философом, когда его тоже продали в рабство. — Помолчал, неохотно продолжил: — Трактир — это неплохо. Последний раз я ел… Давно, короче. Но за что там резвиться? Вы же, как я понимаю, последний шелег потратили на мою драгоценную персону?
Пранцысь озадаченно хмыкнул. Действительно, денег нет. А пан обязан заботиться о своих слугах. Какое уважение к пану-голодранцу, который и себе кусок хлеба не купит? Правда, сейчас Прантиш был богаче своего папани на целого слугу!
У пана Данилы Вырвича ни одного холопа не осталось, если не считать старой Агаты, всё ухайдакалось на шинок.
— А у вас… у тебя есть деньги?
Доктор ошпарил юношу взглядом.
— Если бы у меня были деньги, меня бы здесь не было.
Ну что же, направимся в трактир.
И побрел в сторону Воложина, как чёрный аист с перебитыми крылами, не обращая внимания на школяра. Пранцысь растерялся. А что, если доктор набросится, бумагу о купле отберёт, порвёт, убежит? Тощий, но жилистый и злой, как борзая. Пранцысь так бы и сделал на его месте. Ясно, что холопское положение этому типусу внове.
Но школяр — это вам не жирный карась, которого можно прижать в вёрше. Главное, не напугать этого… Бутримуса. Дойти с ним до людного места. А там — перепродать хоть кому. Он же учёный, лечить, видимо, умеет, звёзды читать… И Пранцысь бодро догнал своего слугу, который флегматично разбрызгивал ногами осеннюю жижу.
— Пан Агалинский говорил, ты золото делать умеешь. Это ты его обманывал, видимо? Наш профессор Кумоцкий говорил, что это байки да мошенничество, в действительности никому не удавалось создать ни крупинки искусственного золота!
Доктор одарил школяра ещё одним острым презрительным взглядом, хоть вместо гвоздя в стену вбей, приостановился, пошарил в тайных карманах своего балахона и достал маленькую стеклянную бутылочку, не больше мизинца.
Пранцысь жадно всмотрелся… В бутылочке темнело чтото похожее на чёрный уголь. Доктор потряс содержимое, и школяр заметил в чёрном золотые искорки. Если это золото, то за него и булки не дадут… Губы Бутримуса искривила горькая улыбка.
— Да, судьба зло шутит над теми, кто отдаётся гордыне ума и считает, что ему под силу взнуздать стихии, созданные Богом… В этом мизерном сосуде, юноша, десять лет моей жалкой жизни, всё моё родовое имущество и наконец мои достоинство и воля… Щепотка золота, смешаного с пеплом… Я действительно стою не больше шелега.
Сверху посыпались мелкие, как прозрачные маковые зёрна, капли дождя. Бутримус спрятал бутылочку в карман и двинулся дальше, и летел за ним осенний ветер, как местечковый недоросль за юродивым, и дразнился прозрачным языком и дёргал за полу… А Прантиш подумал то, о чём всегда думает уверенная в себе сильная молодость, встретив чьё-то взрослое разочарование: «Я никогда таким не стану. Со мною ничего подобного не случится».
Слова из алхимика приходилось вытягивать как мёд из колоды — с осторожностью, решительно и с риском быть ужаленным.
Бутрим Лёдник был сыном полоцкого скорняка. Тот имел маленькую мастерскую по выделке шкур и большие надежды на расширение дела. Но единственный сын, который получил звучное имя Балтромей, отца сильно разочаровал, так как от вони сырых шкур весь покрывался болячками и обмирал, как барышня после десяти мазурок. Единственное, на что был способен — смешивать разные соли и жидкости… Но скорняка из него не вышло бы никогда, хоть с самого всю кожу сдери. Недотёпу пришлось отдать в ученики к чудаковатому владельцу книжной лавки и переплётной мастерской купцу Ивану Реничу. Добрейший человек, только странный: идёт улицей, в книгу нос уткнув, ночами в трубу на звёзды смотрит, ящериц и других тварей в банках со спиртом держит, да ещё глаз всё время дёргается, будто на него невидимая муха садится. Одно слово — некому рассудка прибавить, потому как с маленькой дочкой остался, так новую женщину в дом и не впустил. Жена от чудака самым бесчестным образом с заезжим уланом сбежала. Так Ренич, вместо чтобы в суд подать на блудницу, да чтобы за волосы домой притащили, за прелюбодеяние по закону отвечать заставили, только слезу утёр да отмахнулся от предложений: пусть, мол, живёт госпожа Ренич как хочет, как ей счастливей. А ещё подозрительно, что с евреями дружит, с аптекарем Лейбой сколько вечеров за учёными разговорами провели! Говорит — все мы Божьи существа, всем Господь одну землю дал, в одном городе поселил, на один рынок ходим — и нечего нам делить, когда враги нашу землю поделить мечтают. Не иначе, кабалист и чернокнижник.
Вот здесь, среди тяжеленных фолиантов и уютных томиков ин-кварто, псалтырей с золотыми буквицами и философских трактатов с загадочными рисунками Бутрим себя и нашёл, до книжной науки оказался очень сообразительным, и в создании чернил разных… Трактат Теофила «О разнообразных искусствах» выучил он наизусть лет в двенадцать, и умел составить краску «посх» первого и второго рода, и краску виридоновую, и аурипигмент… Изучил также «чем владеют греки в отношении разных красок и смесей, что знают в Тоскане о финифти и разных видах чернения и чем выделяются арабы в своих кованых, литейных либо чеканных изделиях, каким разнообразием сосудов, гемм, резной кости с золотом и серебром знаменита Италия, как любят во Франции разные украшения в окнах и насколько в чести утончённые работы из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня в Германии». А аптекарь Лейба научил его разбираться в зельях и микстурах, составлять тинктуры, рассказал о соотношении в организме жидкостей, иначе — гуморов, а именно крови, жёлтой желчи, чёрной желчи и слизи, а ещё научил латыни и староеврейскому…
Иван Ренич способности парнишки заметил, сердцем к нему привязался, теперь было ему с кем вместе на звёзды смотреть и заспиртованых ящериц изучать. Бутрим усвоил все переплётные приёмы и мог работать теперь на хозяина. Но жажду знаний Ренич считал главным достоинством человека, поэтому выделил деньги на обучение юного Бутрима, а кое-что прибавил и аптекарь Лейба. Пришлось скорняку смириться с тем, что сын пойдёт по учёной части. Закончил Лёдник Полоцкий коллегиум, получая на каждом курсе золотую медаль, потом отправился в университет в Праге, закончил там факультет искусств, изучая семь свободных наук и царицу наук — философию, потом перебрался в Лейпциг, поступил на медицинский факультет… Новые и новые знания пьянили сильнее вина. Обрёл докторскую цепь на грудь, но более, чем богоугодное лекарское дело, захватили его науки тайные. И прежде всего — алхимия. Найти философский камень! Какая высокая цель жизни! А что, даже другой полочанин, славный Франтишек, сын Скоринин, несколько лет на обретение того камня уханькал, перед тем, как начал книги печатать. Год за годом Бутрим приближался к разгадке… Путешествовал, знакомился со знаменитыми мыслителями и алхимиками, видел такое, что земному глазу видеть не должно. И на войне пришлось побывать, и чуму встретить, из плена убегать, и во дворцах красоваться. Даже к бешеному Мартину Радзивиллу попал, который чернокнижием занялся и к себе всех знатоков тайных наук созывал… И едва уцелел, потому что утомлённый красотой многочисленных «кадеток» князь чего-то неземного захотел. И чегой-то забрал в голову, а скорее натрепал ему от зависти кто-то из учёных коллег, что молодой Лёдник может вызвать для панского утешения Сильфиду, воздушного духа красоты необычайной, который одарит земного любовника способностью летать и язык птичий понимать… Вот только не желает Балтромей признаться в этом своём умении, чтобы единолично прелестями духов воздушных пользоваться. Так что когда не менее бешеный брат Мартина Героним Радзивилл, по прозвищу Жестокий, вместе со вторым братом, гетманом Михалом Радзивиллом и племянником Каролем взяли штурмом Мартынов замок, а учёную шайку разогнали, Бутримус воспринял это как спасение, потому что хозяин всерьёз намеревался пустить упрямого алхимика на ингридиенты для опытов.
Пока муж учёный по миру бродил, и молодость прошла, и родителей чёрная оспа забрала — толку, что сын на лекаря выучился. Но не было времени горевать. Алхимик засел в родительском опустелом доме и начал Великое Действо — добывать философский камень… На редкие составляющие ухайдакал и свои и родительские деньги. Дом и мастерская пошли в залог. Но этого не хватило. А тайный процесс был уже на той стадии, когда нельзя отойти от пылающего тигеля, когда нельзя прерывать дело. Бутрим постепенно прекратил лечить даже самых богатых клиентов. И наконец заложил одному из них — пану Агалинскому — последнее, что имел: себя самого, пообещав, что вот-вот сумеет превращать железо и олово в самое чистое на свете золото, и тогда расплатится сполна. А иначе будет служить ему до гроба.
Агалинский ждал целый год. Наконец золото сверкнуло в углях тигеля… Но когда пан осознал, сколько будет стоить одна монета из такого искусственного золота, и сколько лет нужно собирать на неё блестящий металл — разъярился и затребовал долг. И Лёдник перестал быть вольным человеком.
В ужасе Бутрим оглянулся на свою судьбу… И понял, что это — Божья кара. Он дал себе слово, что больше никогда не пойдёт против Божьего промысла, не станет не только заниматься алхимией, но и даже составлять гороскопы, навсегда отречётся от колдовства и гадания.
Пану Агалинскому эти перемены очень не понравились. Получалось, что не только золота, но и предсказаний согласно звёздам от Бутрима не дождаться. Агалинский пригрозил, что отдаст упрямого звездочёта служить на конюшню. Но раскаявшийся алхимик только нудел о Божьей воле и грехе чародейства, читал каноны святому Киприану, который когда-то сжёг собственные магические книги, и никакие уговоры, даже по рёбрам и по спине, на него не действовали. А поскольку знатоком различных ядов Лёдник был выдающимся, также его подозревали в способностях к сглазу и чёрным заговорам, то Агалинский стал бояться кусок в горло класть. Тогда и пообещал пан на горячую голову, что продаст бесполезного должника первому же прохожему на этой дороге. Вот и получилось то, что получилось…
Прантиш быстренько прикинул: если бы в трактире его слуга начал составлять за деньги гороскопы, можно было бы неплохо заработать… Кто же не хочет заглянуть в будущее! Даже отец Прантиша, пьянь и буян, на каждый большой праздник заказывал себе предсказание у аптекаря из ближайшего местечка, который подрабатывал звездочётом. Но если этот упрямый Лёдник астрологию отринул, можно использовать другие его навыки…
— Послушай, Бутрим, а ты лекарскую науку не забыл?
Алхимик презрительно хмыкнул.
— А что, пан разболелся?
— Не дождёшься! А вот в трактире, куда мы придём, больные обязательно найдуться. И заработаем денег! Только вот что… — Прантиш в задумчивости разлохматил русый чуб, который выбивался из-под шапки, будто этого мало наделал ветер. — Кто же поверит, что известный доктор — слуга школяра… Чтобы к тебе пошли пациенты, нужно напустить важности. Ты, главное, молчи и рецепты помудрее да поудивительнее выписывай на латыни. А я сам всё скажу.
Бутрим мрачно взглянул на проворную фигуру своего хозяина, заглянул в его голубые глаза, такие честные, что сразу хотелось ощупать свои карманы, и тоскливо вздохнул.
— Что-то мне подсказывает — я сто раз пожалею, что пан Агалинский не послал меня служить на конюшню.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Как Бутрим Лёдник и Прантиш Вырвич
в трактире куляли
| Е |
сли бы Прантиша спросили, в чём глубокий философский смысл существования придорожного трактира, школяр не задумываясь ответил бы: в том же, в чём смысл жемчужин, нанизаных на нитку. Зачем нитка, если на ней не будет жемчужин?
Этот трактир под звучной вывеской «Рим» не был самым шикарным… Три ободраных тополя жались к стенам, будто пьяные гости. Зато у самого трактира стояло несколько экипажей — от скромной таратайки до основательной кареты, хоть и без гербов. А это был добрый знак — есть с кого брать подати!
Воздух в трактирчике можно было резать ножом. Сразу чувствовалось, что любимые блюда завсегдатаев — капуста и шкварки, а любимые напитки — пиво и водочка. Стеклянный бог имел здесь постоянную паству. «Три! Восьмёрка! Венера! Собачьи очи!» — выкрикивали игроки в кости. Слепой певец, худой как тростина, с вытянутым бледным лицом, в сопровождении скрипки и басетли-контрабаса выводил тонким голосом «Дороту». Старый шляхтич с обвислыми усами, в сарматском наряде, мех которого побила моль как Михал Глинский — татар, с самой кислой миной потягивал пиво. Молодая симпатичная трактирщица с чёрными волосами, убранными под ослепительно-белый чепец, почтительно выслушивала его шляхетское ворчание о падении нравов.
Лекарь и его «ассистент» скромно уселись за угловой столик, едва не теряя сознание от соблазнительных запахов, и Вырвич начал разведку. Пятеро мужиков, похоже, с Городенщины, подозрительно оглядывались по сторонам, очевидно испуганные слухами о невероятных проходимцах, которые ждут честного христианина в каждом шинке, этих дикарей развести на что-либо было мало надежды. От городенцев очень явственно несло козлиным салом, которым простолюдины, отправляясь в путь, смазывают одежду от паразитов. А вот трое шляхтичей, неистово занятых игрой в кости, были очень обнадёживающей компанией, диамантовые гузы на их шапках посверкивали, как искорки, и не попробовать обчистить их карманы просто грех… Правда, не видно было никого, похожего на личность, которая могла бы приехать в шикарной карете без гербов, которая стояла у трактира. Шляхтич в побитом молью мехе был точно не из таких. Видимо, особенно важные гости отдыхали на втором этаже, где находилось несколько комнаток. Может удастся сбыть тем гостям алхимика? Прантиш, как парень совестливый, не против был подыскать лекарю приличных хозяев. А тот малец за столиком под самой лестницей, похожий на «юриста из палестры», мелкого чиновника, который выполняет черновую работу в суде, непременно доносчик: вон как прикидывается, будто ему безразлично, что вокруг него говорят, а сам так и шарит блеклыми глазами, выискивая крамолу. Этого нужно остерегаться… Неизвестно, на кого работает. 1759 год от Рождества Христова, времена смутные, московские войска разъезжают по стране, одни магнаты сотрудничают с россейцами, иные интригуют против, соймы срываются один за другим… В Пруссии война, король-саксонец удрал из своего Дрездена в Варшаву. С собственным народом сладить не может, а до здешнего ему и совсем как до сухой груши… Он даже по-польски, сидя на польском троне, не научился изъясняться, не говоря о белорусском языке. А соседи, слабость властей чувствуя, не против снова пройтись по литвинских землях. Потому что земли эти — искони на перекрёстке, добывают их, как философский камень, упорно, столетиями, не жалея средств и жизней человечьих, и если бы из костей и крови вырастали белые деревья с красными листьями, как в бабушкиной сказке, то пущи и леса земли этой напоминали бы красное море…
Пранцысь оглянулся на Лёдника: тот сидел, выпрямив спину, будто готовился принимать экзамены, и даже по сторонам не смотрел, казался здесь в своей чёрной хламиде таким же обычным, как пушка на току. Черноволосая трактирщица, которая сновала между столами с кувшинами пива, будто лёгкий челнок между камышами, подозрительно скользнула глазами по тёмной фигуре в углу… Прантиш понял, что надо начинать своё дело. Сорвал шапку с облезлым соболем и торжественно махнул ею, будто вызывал бога северного ветра.
— Уважаемые господа! Только сегодня, проездом в Париж из Лемберга — известный лекарь пан Балтромеус Лёдник, мастер оцелений, знаменитый алхимик и звездочёт, который лечил королей и князей. Любую болезнь он узнает и назначит лекарства от неё! Меня вылечил за один день от самой жестокой лихорадки! Всего три шелега за консультацию!
Лёдник поджал губы, будто его обзывали висельником, но есть, видимо, хотел и он, поэтому достал из карманов своей замусоленной чёрной свитки бумажки и карандаш, положил их перед собою на стол, готовясь выписывать рецепты.
— Пан-брат, а от нарывов в горле пан лекарь поможет? — настороженно спросил старый шляхтич, отодвинув бокал пива.
— Ото всего! — уверенно подтвердил Прантиш. — Три шелега!
К заезжему эскулапу потянулись клиенты. За старым шляхтичем, который, очевидно, всё ещё вместо носков приказывал насыпать в свои сапоги перетёртую солому — игроки в кости, за ними — чернобородый извозчик, у которого ломило руки перед дождём, потом — две женщины-кухарки… Даже миловидная трактирщица долго сидела перед алхимиком, и тот терпеливо проверял её пульс по очереди на обеих руках. Деньги брал Прантиш, и вскоре ему идея продать лекаря уже не казалась хорошей. Если вот так водить его по шинкам да застенкам, как цыгане медведя, то можно неплохо жить! Лёдник обслуживал больных наилучшим образом. Важно выслушивал, ощупывал, сурово допрашивал и выписывал мудрёные рецепты, кому oleum mentha, кому unguentum commune, кому syropus koraiba. Под его взглядом люди мельчали, как школяры, но и в спасение верили легко, по тому же принципу, по которому считается, что чем более горькие лекарства, тем они сильнее. Лёдник одному перевозчику даже руку повреждённую ловко вставил на место, покрутив и дёрнув. Сразу было видно, что лекарю не внове никакие раны.
Прантиш заказал пива и свиных рёбышек с капустой столько, сколько могли съесть двое очень голодных мужчин. Конечно, рядом с лекарем не сел — где это видано, чтобы шляхтич ел за одним столом со слугою! Особенно согревала мысль, что кичливому доктору, наверно, доводилось садиться за один стол с такими родовитыми личностями, которые Прантиша, сына обнищалого шляхтича-пьянчуги, и на крыльцо не пустили бы… Если бы не приходилось изображать из себя ассистента, Прантиш показал бы холопу его место! А пока просто пристроился подальше… Заметил, что слуга его, прежде чем пододвинуть к себе тарелку, перекрестился по-православному обычаю, щёпотью.
Пиво было не самым поганым, не заяц сварил, но Прантиш приметил, что молодая трактирщица, которую, как узнал проворный школяр, звали Адэля, несколько раз бегала наверх с кувшинчиком, куда наливала вино из особого бочонка. Вино, очевидно, куда как вкуснее, чем то пиво. Пранцысь решил, что лучший способ отведать доброго напитка — подкатиться к трактирщице. Но та только поморщила вздёрнутый носик: мол, уважаю вашу милость, но не для пана деликатесы, титуловаными панами выкупленые.
Между тем Адэля в очередной раз, цокая по ступеням красными каблучками, которые так соблазнительно показвались из-под складок юбки, побежала наверх, на этот раз не так быстро, потому что серебряный тазик в её руках был полон тёплой воды. Точно — наверху благородная дама… Пранцыся так и подмывало посмотреть на таинственную незнакомку. А может через Адэлю предложить ей услуги своего лекаря, вот и будет предлог для визита?
Вырвич оглянулся. Лёдник мрачно уставился в бокал, будто хотел увидеть сквозь него своё жалкое будущее… Но в бокале пенилось всего только не самое лучшее пиво. Музыканты завели очередную песню, заплакала скрипка, загудела басетля, задрожали по углам вечерние тени, которых не могло разогнать трепетное пламя бледных свечечек, готовящихся стать грязными лужицами воска.
Куды едзеш, Рамане? Ой, вір-вір, бом-бом.
На кірмаш, васпане!
Ой, вір-вір, бом-бом.
Куда едешь, Роман?
Ой, вир-вир, бом-бом.
На ярмарку, господин!
Ой, вир-вир бом-бом.
Пер. с белорусского.
Алхимик провёл длинными пальцами по худому лицу, будто не узнавая себя. Полез в карман и достал маленькую стеклянную бутылочку… Пранцысь знал, что в ней.
А што вязеш, Рамане? Ой, вір-вір, бом-бом.
Воз дзяўчат, васпане!
Ой, вір-вір, бом-бом.
Пачым цэніш, Рамане? Ой, вір-вір, бом-бом.
Па чырвонцу, васпане! Ой, вір-вір, бом-бом.
А что везешь, Роман?
Ой, вир-вир, бом-бом. Воз девчат, господин!
Ой, вир-вир, бом-бом.
Почем ценишь, Роман? Ой, вир-вир, бом-бом.
По червонцу, господин!
Ой, вир-вир, бом-бом.
Пер. с белорусского.
Скрипка рыдала, будто была живым существом, которое потеряло самое дорогое. За соседним столом даже притихли на мгновение голоса игроков в кости. Бутрим поднёс бутылочку близко к глазам, встряхнул, вглядываясь в своё последнее золото… Даже издали Пранцысь видел, как кривятся его губы.
Куды едзеш, Рамане? Ой, вір-вір, бом-бом.
На кірмаш, васпане!
Ой, вір-вір, бом-бом.
А што вязеш, Рамане? Ой, вір-вір, бом-бом.
Воз хлапцоў, васпане! Ой, вір-вір, бом-бом.
Пачым цэніш, Рамане? Ой, вір-вір, бом-бом.
Па талеру, васпане!
Ой, вір-вір, бом-бом.
Куда едешь, Роман?
Ой, вир-вир, бом-бом.
На ярмарку, господин!
Ой, вир-вир, бом-бом. А что везешь, Роман?
Ой, вир-вир, бом-бом. Воз парней, господин!
Ой, вир-вир, бом-бом.
Почем ценишь, Роман?
Ой, вир-вир, бом-бом.
По талеру, господин!
Пер. с белорусского
Кого-то продают за талер, а кого-то и за шелег, всем есть цена в этом не лучшем из миров… Басетля глухо поддакивала высокому голосу слепого певца. Прантиш нащупал в кармане башенку — кубок с астрогалами, игральными костями. Может, присоединиться к компании? Иногда удавалось же выигрывать да мошенничать, если не наткнёшься на более сильного мошенника. В коллегиуме он и ещё один щавлик с младшего курса, Михась Мицкевич, тоже из небогатой шляхетской семьи, были самыми сильными игроками. Мицкевич, правда, особенные способности имел: три раза подряд мог «венеру» выбросить — все шестёрки, и никто не поймал его на шельмовстве. Тот щавлик твёрдо намеревался, когда подрастёт, ехать в Лемберг, учиться у лучших шулеров и потом королей обыгрывать. Пранцысь же мечтал стать славным воином, завоевать богатство и титулы саблей, которую, кстати, тоже в ближайшее время стоило раздобыть. Выпитое пиво приятно кружило голову и вынуждало к подвигам.
Черноволосая трактирщица снова спустилась вниз и налила в кувшин из маленького бочонка особого вина. Пранцысь сразу же подскочил к молодке, как аист к луже с лягушками, затараторил, зашутил… Но трактирщица и сама имела язычок острый, как сабля королевского улана, и голубые глаза Пранцыся никак не могли пробиться к её закалённому опытом трактирного ремесла сердцу. Это она шляхтичу отказывает? Эх, была бы у него сабля!
Кувшинчик в руке Адэли притягивал, как горячая смола — пылинку… Женщина ловко уклонилась от нахального юноши и двинулась, оглядывая своё хозяйство, как гетман — поле битвы. Поровнялась со столом, где сидел Лёдник… Что-то тихо сказала ему… И — что такое? Поставила перед Пранцысевым слугой заветный кувшинчик!
Школяра пронизало злобой. Балтромей поднял на женщину тёмные глаза:
— Простите, пани, я сейчас не могу позволить себе токайское.
— Это угощение от меня пану лекарю!
А с какой наигранной стыдливостью произнесла! И даже будто невзначай прижалась к чародею! Пранцысь ничего не мог понять. Он, Вырвич — юный, весёлый, красивый, а доброе вино на дармовщину достаётся старому мрачному чернокнижнику с клювастым носом! Что он — присушивает женщин латиницей? Или носит с собою мясо молодого жеребёнка, высушенное в новом глазурованном горшке, или волосы с конца волчьего хвоста, а может собственную кровь, выпущенную в пятницу, смешанную с заячьими ядрами и печенью голубицы, в порошок превращённую, подсыпает женщинам?
Ещё немного пошептавшись с лекарем, Адэля ушла, даже не взглянув на голубоглазого чубатого школяра. Лёдник проводил её взглядом, неспешно налил вина, красного и густого, как кровь, в свой опустелый бокал, даже какое-то мечтательное выражение появилось на лице… Вспомнил, очевидно, свои золотые деньки, когда ещё и не такое вино смаковал.
А смолы тебе горячей!
Пранцысь рванулся вперёд и выхватил бокал просто изпод носа алхимика. Глядя в глаза своему слуге, неспешно выпил. От злобы даже хорошо не распробовал. Но вино, кажется, отличное… И крепче пива. Значительно крепче. Брякнул пустым бокалом о стол. Лёдник, будто изучая редкую болезнь, смотрел на хозяина. Снова налил полный бокал. Протянул руку…
Пранцысь снова опередил слугу. Медленно поднёс бокал к губам, выпил, не отрывая взгляда от чёрных глаз, в которых больше всего на свете хотелось увидеть вместо притоенной искры насмешки — настоящую обиду. Но держать взгляд на одной точке становилось всё тяжелее, лицо мерзавца Балтромея начало каким-то непонятным образом двоиться.
Пустым бокалом стукнул о дубовый стол. Лёдник снова промолчал, посидел, опустив голову. Пранцысь, немного пошатываясь, нависал над ним угрожающе, как циклоп над Улиссом. А что — он, пан Вырвич герба «Гиппоцентавр», сильный, большой… Ух, какой хват! Что перед ним какой-то доктор, даже если и в Праге учился! В голове играли скрипки и волынки, пол пошатывался в такт музыке, так что пришлось опереться обеими руками о стол.
Алхимик, как ни в чём не бывало, наполнил бокал. Пранцысь снова успел первым, хоть и расплескал драгоценной жидкости… Но его руку вдруг стремительно, как клещами перехватила рука лекаря. Лёдник холодно промолвил, не глядя на школяра.
— Думаю, вашей милости уже достаточно.
— Да т-ты как посмел! Да я т-тебя… Хам… Плет-тей попро…про…
Однако язык не успевал за возмущёнными мыслями, мир вокруг зашатался, как отражение в вешних водах. Вырвич только осознал, что кто-то взвалил его на плечо самым позорным образом, как мешок с горохом, и куда-то понёс. Да ещё низкий голос где-то рядом ворчал:
— Глупый мальчишка…
На этом длинный день приключений для Пранцыся Вырвича завершился.
ГЛАВА третья
Как Прантиш познакомился с воеводовой дочкой и едва не потерял алхимика
| У |
тро началось с головной боли. Этакое нормальное шляхетское утро. Прантиш еле продрал свои когда-то яркие голубые глаза. Он лежал в кровати не самой шикарной, но всё-таки в кровати, а не на полу… Хоть и на извечном для придорожного трактира сенном тюфяке. Похоже, им выделили, как почётным гостям, комнатку на втором этаже. Адэлина любезность? Память понемногу возвращалась, и это не радовало. Неужто его сюда принёс Лёдник? Прантиш вспомнил, как выхватывал бокалы из-под большого носа доктора с радостным чувством, что это настоящий подвиг, и щёки загорелись от стыда. А где этот доктор? Не сбежал ли? Вырвич попробовал приподняться, но от этого мир поплыл купальским хороводом, даже отблески пламя примерещились… О, Боже, как болит голова!
— Что, наискался пан ин вина веритас? — насмешливый голос рядом воспринялся с облегчением. Школяр повернул голову, от чего в глазах потемнело. Когда туман рассеялся, Прантиш понял, что доктор, уже без своей чёрной мантии, в одной белой рубахе и саксонских портах, размешивает в кубке какой-то отвар, от которого идёт запах собачьей мяты.
— И часто пан Вырвич доходит до такого состояния? — насмешливо проскрипел алхимик.
— Я не люблю быть таким… Таким, как мой отец…
Вырвич сразу пожалел о своих словах… Вот оно, что у трезвого на уме…, embritas et amor cuncta sekreta produnt. Но Лёдник даже не хмыкнул. Только спросил, продолжая что-то взбивать в кубке:
— А вот что мне интересно… Мой пан такой боевитый, а без сабли. Видимо, в геройской сечи своё оружие покинул?
— Ага, в сечи… — вот же умеет людей ущипывать. — В конвенте забыл.
— Значит, убегать пришлось… Неужто дочку какого-то профессора соблазнил?
Злые слова Лёдника однако звучали скорее ворчливо, нежели издевательски, тем более сам он сунул под нос хозяину глиняный кубок с отваром. — Поднимайся… Пей…
И даже помог приподняться. Прантиш торопливо глотнул горячую душистую жидкость — страшно сушило… В глазах почти сразу прояснилось, утихла головная боль. Хорошо иметь своего лекаря!
Между тем Лёдник смотрел на юношу как-то странно.
— И ты не спросил, что в кубке? Не приказал мне отпить самому? А если бы я тебе яду подлил?
— А что, ты мог? — весело спросил Вырвич, откидываясь на тюфяк. Алхимик молча стоял над ним, худое лицо его ещё больше вытянулось… И Прантиш вдруг понял, что лекарь не привык, чтобы ему вот так верили. Видимо, среди не самых лёгких ближних тёрся…
— Можешь быть спокоен, пан Франциск, я подавал людям только лекарства… — голос алхимика звучал глуховато, будто он всё ещё был под впечатлением.
— А я и не переживал! — Прантиш сладко потянулся. Знает же алхимик своё дело! Даже тошнота прошла… Эх, как хорошо, когда тебя не будят едва не с первыми петухами, чтобы вставать на уроки… Сейчас бы саблю в руки, да на коня, да чтобы за тобою верное войско! Где та сабля с выгравированым на эфесе Гиппоцентавром…
— Кстати, я не Франциск, а Франтасий!
Лёдник искренне удивился.
— Тоже православный?
— Вырвичи веры не меняют! — гордо сообщил Прантиш. — А мой святой покровитель, мученик Франтасий, ух какой святой! Ему и его сподвижникам римляне в головы гвоздей набили, а потом отрубили. Так мученики головы подняли и к своему епископу Франтону распрощаться пришли.
Вот что вера творит!
Вырвич зевнул, но спать больше не хотелось. Лёдник завязывал мешочки с сухими травами, из которых варил отвар, и молчал, как стена. Надо же, какой нелюбопытный… Или нарочно притворяется.
— Никаких профессорских дочек я не соблазнял, потому что не было случая, — лениво нарушил молчание Прантиш. — А удирать пришлось… из-за Воронёнка.
— Птицу на лекцию притащил? — пробурчал лекарь. —
Шут…
— Воронёнок — так моего приятеля прозвали… Ну не то, чтобы приятеля… Как с таким дружить… Он горбунок был. Больной такой, смешной… Но умный, холера.
Пранцысь закрыл глаза, чтобы до чёрточки представить лицо бедного Воронёнка.
В действительности его звали Денисием. Был он из семьи небогатой, но всё-таки не такой бедной, как Вырвич, который попал на учёбу только благодаря крёстному-писарю. Оба были из православных семей, иезуиты брали на учёбу всех, рассчитывая, что до окончания каждый схизматик убедится в правильности католической веры.
С Прантишем вообще получилось досадно — среди его однокурсников очутился сын пана из соседнего имения, который не раз видел, как Прантишев отец вывозит на своё поле навоз, торжественно воткнув в кучу на возу саблю. Если шляхтич при сабле — значит, нету шляхетской чести урона! Вырвичу жизни не стало — дразнили его Навозником, нос зажимали, стоя рядом… Только Пранцысь никому обиды не спускал. Даже если сразу не осилит, если самого побьют совместно — потом всё равно достанет, по одному отследит… Всё время ходил побитый, сидел на ослиной скамейке, кожаной дисциплины пробовал — специальной плётки… Зато издеваться над ним осмеливались только за глаза. А над Воронёнком не издевался только ленивый. А он и слова никому не скажет, только улыбается, глазастый, востроносенький, бледный, даже светится… И не плакал никогда, и не жаловался… Зато в учёбе — первый. Всё или над книжкой, или над тетрадью склонится, пишет что-то, скребёт пером… Однажды увидел Пранцысь, как несколько студентов прижали Денисия к стене и начали ему «горб выравнивать». А тот только смотрит во все глаза да губы поджимает, чтобы не закричать… И что-то Пранцыся как рукой за сердце схватило. И он разогнал шутников, сам трёпку получив. Ушёл, конечно, не ожидая благодарности от Воронёнка… А на следующий день тот подсказал ему все спряжения латинского глагола «глядеть». Так и завязалась меж ними дружба-не дружба. Просто Пранцысь не мог видеть, как Воронёнка бьют, а тот за него уроки делал да рассказывал столько удивительных историй, что если бы на лекциях такие — Пранцысь бы первым учеником был. Воронёнок где-то прочитал трактат Альберта Великого «Книга тайн». И они всерьёз обсуждали, где взять специю под названием физалис и жир дельфина. Потому что если слепить из смеси этих веществ зёрна, подержать над огнём, разведённом на коровьем навозе, и дым от этой радости заполнит помещение, все, кто находится там, покажутся друг другу великанами в облике коней и слонов. Вот бы такое чудо сотворить на занятиях по латыни! А ещё можно взять кровь осла, жир морского зайца и цветок клёна, смешать, поджечь у собственной кровати… И во сне увидишь, что тебя ждёт в будущем. Прантиш и Воронёнок долго гадали, что это за чудовище — морской заяц, однако заменить на другие ингридиенты не решились.
Но встречались они для бесед только тогда, когда никто не видел — Пранцысь уже имел свою банду, несколько ребят, особенно отчаянных, которыми верховодил, и боялся унизиться в их глазах нестоящей дружбой. А Воронёнок покорно принимал такое отношение. В нём даже тени воинственности не было. Похоже, и оружие в руках держать не умел, даже палку-пальцату, на которых извечно дрались школяры, оттачивая благородное искусство фехтования. Единственным его оружием был странный бронзовый стержень, похожий на гвоздь, который Воронёнок использовал в качестве закладки для книжек. Однажды он объяснил Пранцысю, что это не просто гвоздь, а стило — древнегреческий инструмент для писания! Им выводили буквы на восковых табличках, и Воронёнок тоже пробовал этим стилом царапать на мягких липовых дощечках стихи — утверждал, что таким образом лучше всего ощущает мудрость античных поэтов. Пранцысь подумал, что стилом совсем не обязательно пользовался древний поэт, им мог подсчитывать прибыль какой-либо афинский торговец зеленью, или ковырять надоевшие уроки такой же школяр, как они… Или вообще эта штуковина не имеет никакого отношения к Греции, а бедного калеку менский купчина просто обманул… Слишком она была тоненькая, в пальцах еле удержишь, такой писать неудобно. Но Пранцысь о своих сомнениях промолчал, справедливо считая, что отбирать у младенца погремушку слишком жестоко.
Учитель латыни пан Бонифациус, который заискивал перед богатыми наследниками, сильно не любил Воронёнка, который в его глазах оскорблял сарматский идеал шляхетства. Пранцыся пан тоже не любил и не раз лупил по рукам кожаной дисциплиной. Но Воронёнок его особенно раздражал, так, как мог дать ответ на любой самый сложный вопрос, даже прицепиться было не к чему. И когда однажды ребята на уроке латыни выпустили в классной комнате ворону, пан Бонифаций обвинил во всём бедного Воронёнка — на что шутники и рассчитывали. И отправил беднягу в карцер, предварительно безжалостно отхлестав.
А Пранцысь промолчал… Не попробовал защитить Воронёнка… Доносить на товарищей — это же бесчестье! А взять на себя… Значит, признаться, что судьба уродливого калеки тебе не безразлична, что Навозник тянется к навозу.
В карцере бедный Воронёнок так простыл, что уже не пришёл в себя. И так кашлял как в бочку, а тут… Сгорел за три дня. Пранцысю только и осталось, что его тетрадка с каракулями… Отрывки историй, стишата, непонятные формулы… Родственников у Воронёнка не было, никто из-за его смерти не разволновался.
Пранцысь понял, что значит по-настоящему презирать себя. Он должен был что-то сделать, чтобы уменьшить чувство вины и гнева. И однажды пан Бонифациус, поздно придя в свою комнату, услышал хлопанье крыльев и страшное карканье. Погасла свеча. Вокруг летала нечистая сила, орала и била крылами по лысой голове, наполненой спряжениями латинских глаголов… Когда прибежали на дикие крики учителя, он мог только хрипеть, да лёжа на полу что-то от себя отгонял руками… Это «что-то» при зажжённом свете оказалось целиком материальным: по комнате летало десятка три ворон, ошалелых от несвободы и присутствия людей, перья кружились чёрной метелью, ну и обгадили Божьи твари всё, что могли.
Кто напустил птиц в комнату, выявилось быстро: в каждом классе имелись свои «цензоры», назначенные ректором, они не считали бесчестьем разоблачать товарищей. За Пранцысем прибежали целой погоней, как за литовским волком… Но Вырвича так просто не поймаешь! Эх, если бы только дедовскую саблю успел прихватить, своего Гиппоцентавра… Так что назад в Менск дороги нет.
— И как же сударь тех ворон столько наловил? — заинтересованно спросил Лёдник.
— А сетью! — захохотал Пранцысь. — Как рыб небесных! Стащил старую сеть на Свислочи, пошёл на кладбище, прицепил к деревьям… Целый мешок птицами набил! Будет теперь гад помнить о Воронёнке!
Бутримус почти с уважением улыбнулся.
— А тетрадь твоего друга при тебе?
— Вот… — Пранцысь достал потрёпанную зелёную книжицу. Лёдник неожиданно с почтением погладил кожаную обёртку, уселся в кресло и углубился в чтиво, почти водя длинным носом по страницах. Через некоторое время будто утомлённо откинулся, закрыв глаза, и с тоской промолвил:
— Господь забирает лучших… — помолчал, тихо попросил: — Можно я пока оставлю эти записи у себя?
Пранцысь позволил… Воронёнок хотел бы, наверное, чтобы какой-нибудь знаток оценил его измыслия.
Внизу оживал трактир. Слышались чьи-то сонные голоса, застучал кузнец в кузне… Вот уже кто-то лениво ругает своего ближнего, а тот, зевая, отвечает тем же, и доброго утра, родная землица…
— Пойду раздобуду пану поесть… — пробурчал Лёдник, завернулся в свой чёрный балахон и вышел за дверь. Школяр с трудом встал с кровати, встряхнул головой… Ну надо же, как разговорился со слугой — будто на исповеди. Но сожаления не было. Зато понемногу, как пузырьки со дна кубка со свежим пивом, подымалось опьяняющее предчувствие чего-то необычного, опасного и интересного, ведь приключение без опасности — как затирка без соли… Пранцысь даже схватил кочергу, которая стояла в углу, и несколько раз произвёл фехтовальные движения… Незаметно перешёл от благородных приёмов фехтования на мечах и саблях к школярской борьбе на палках-пальцатах, в которой Вырвичу не было равных. Вот так тебе, злыдень, а в печёнку не хочешь? А вот просто в сердце! Кубок упал и закатился под кровать, покидая тёмную дорожку недопитого отвара, будто хотел спрятаться от воинственного пана.
— Я сказал, из комнаты не выходи! Глупая девчонка! Отвезу к тётке в монастырь, там себе сворачивай шею и другим головы дури! Мало в Варшаве натворила! Пока я за тебя головою перед твоим благородным братом отвечаю, будешь, панна, сидеть тихо, как жареный фазан в пироге!
Голос принадлежал человеку грубому и привычному выкрикивать военные команды. Но Прантиш, конечно, сразу высунул в коридор любопытный нос… Незнакомец в чёрной шляпе с высокой тульей, обвязаной голубой лентой, в чёрном кафтане, из-под которого виднелись белоснежные кружевные манжеты и ворот-жернов, спускался с лестницы, ступени скрипели под его тяжёлыми шагами, брякали шпоры… Вырвич с волнением уставился на непроницаемую, посечённую пьяными постояльцами дверь соседней комнаты, за которыми, похоже, страдала прекрасная дама…
Вдруг в скважине замка той двери показалась шпилька, беспорядочно завращалась, как усик майского жука, что-то щёлкнуло, и двери приоткрылись. В щели сверкнул голубой глаз. Прантиша внимательно, безо всякой боязни изучали, и он постарался придать лицу как можно более важное, стоящее доверия выражение. Видимо, это удалось, потому что дверь приоткрылась шире, и Пранцысь увидел самый очаровательный облик, который только мог пригрезиться школяру. Правда, личико паненки с немного вздёрнутым носиком и пышными тёмными волосами, собраными в высокую причёску и украшенную голубыми лентами, совсем не было томно-кротким, как должно приличной прекрасной даме, а самым что ни есть лукавым. Лицо это Прантишу было знакомым: он видел его в почётной ложе школьного театра во время премьеры пьесы «Врата бессмертия» авторства двух школяров с последнего курса, а в действительности — Воронёнка-Денисия. Пьеса рассказывала о безвинно погибших благоверных князьях Борисе и Глебе, и прославляла славные рода фундаторов школы, в том числе воеводы, князя Багинского, который осчастливил своим посещением коллегиум. Князь недавно вернулся из Франции и привёз с собою самые новые веяния моды. Так что весь зал, к возмущению отцов-иезуитов, глядел не столько на сцену, сколько на расшитый перлами жюстокор, водопады кружев и завитый барашком парик воеводы. Вот рядом с ясновельможным Багинским, дородным, круглолицым, и светился красотой этот цветок, панна Полонейка Багинская, его младшая сестра, которая тоже притягивала взгляд похожим на огромный торт с кремовыми цветами платьемроговкой на обручах из китового уса, из наимоднейшей розово-голубой ткани в мелкие букетики, как у фаворитки французского короля мадам Помпадур. Платье было «локтевым» — в нём невозможно опустить руки, приходилось держать их согнутыми в локтях, не в каждую дверь войдёшь, а из шёлка, который пошёл на этот наряд, можно было пошить по крайней мере три платья обычных размеров. Молодой князь Михал имел шесть сестёр, и вырос, как одни говорили, среди муз, другие — среди гарпий. Мягкий характером, он хотел посвятить жизнь в основном музыке и рисованию… Да где там! Родственники в политику колом толкают, как сморгонского медведя на базарную площадь. Стал воеводой, а они подбивают — а чем ты не король? Послали Багинского от саксонского двора с дипломатической миссией в Санкт-Петербург, убедили включиться в борьбу за склонное к любви сердце молодой жены наследника трона Екатерины — она мол всё будет решать в будущем, а не её невзрачный муж… Стать любовником российской царицы — крепкая ступень к собственному трону! Только напрасно, не зажглась принцесса от этого огня. Видимо, не нравились ей мягкие да нерешительные, хоть и умел князь отлично играть на флейте, музыку сочинял, и картины писал не хуже итальянских мастеров. Более по сердцу пришёлся будущей царице польский посол, красавец Станислав Понятовский. И теперь князь Михал всем видом говорил о своём разбитом сердце и романтических грёзах.
Вот Полонея Багинская по характеру свободно могла царицей стать. Фанаберий было у панны-цветка, как пчёл у разоренного улья, так что школяры только издали осмеливались облизывать соблазнительное чудо взглядами — не по Сеньке шапка. Пранцысь, которому выпала сомнительная честь играть в пьесе коварного князя Святополка, особенно запомнил две чёрные мушки из тафты, которыми панна украсила набелённое личико — над правой бровью и слева у носика, что означало — сердце её свободное, но подступиться к ней тяжело. Тогда её тёмные волосы были спрятаны под высоким напудреным париком, в котором гнездились мастерски изготовленные миниатюрные пташки…
И теперь будто те пташки щебетали вокруг русой головы Пранцыся. Он даже не сообразил, что панна Полонея ему шепчет:
— Эй, ты что, глухой? Хочешь заработать десять дукатов?
Пранцысь тряхнул чубом: вот и ещё одно предложение, от которого невозможно отказаться… И из-за которого, ясно, тоже придется заиметь на свою школярскую голову молний. Но главное — не предать идеалы куртуазности! Так-с, склониться в поклоне, руку положить на невидимую саблю…
— Пусть ваша милость, многоуважаемая панна, только вымолвит свою просьбу, и я выполню её как только возможно тщательно и совершенно, не медля ни мгновения ради ясных глаз найяснейшей панны, и ради пылкого желания моего сердца служить ясной панне!
Речь Пранцыся текла как мёд, он даже загордился собой. Но панна такого мёду пробовала как видно не ложками, а кувшинами, потому только нетерпеливо нахмурила чёрные бровки.
— Наияснейшая панна хочет, чтобы пан взял у неё письмо и передал лично в руки воеводы полоцкого Александра Сапеги, который сейчас пребывает в Слуцке, а за это пан получит от меня десять дукатов, и может ещё что-нибудь от щедрости пана Александра.
Пранцысь почувствовал укус разочарования: тот Сапега, похоже, был поклонником панны Полонейки, а быть посыльным в амурных делах — это же совсем другое, чем крутить амуры самому… Панне, очевидно, не понравились колебания парня, поэтому она сморщила носик и презрительно проговорила:
— Пан боится россейцев или Геронима Радзивилла? Если так — то…
— Никого я не боюсь! — поспешно воскликнул Пранцысь, сообразив, что дела скорее не в амурах, а в политике, от которой хотя Вырвичи и были в стороне, но магнатов же, которые якшались с россейцами, Вырвич-старший не любил, сравнивая их с собакой, которую прикормил вор, чтобы без опаски залезть на хозяйский двор. — Я с превеликим удовольствием выполню волю панны…
Полонейка с сомнением взглянула в слишком честные голубые глаза Прантиша, достала из-за корсажа сложенный вдвое конвертик и отдала собеседнику.
— Только лично в руки пану воеводе! И смотри, пану Герману Ватману ни слова — это тот, который меня сопровождает. Он очень опасный человек.
Вырвич вопросительно взглянул на воеводскую дочь, взвешивая на ладони бумажку… Девушка прибавила к конвертику самое существенное — мешочек с монетами. Потом, видимо, сообразив, что теперь с посыльным, который владеет её тайной, следует быть нежнее, улыбнулась, от чего у Пранцыся будто елеем по душе помазало, и даже приложила к устам и отняла пальчики, будто намекая на возможный поцелуй… С самой Полонеей Багинской! А почему бы в таком случае боевитому школяру не получить аванс? Пранцысь рванулся к панне, но двери захлопнулись перед самым носом Вырвича.
— Сперва — услуга, потом — благодарность! — проговорил за дверью девичий голосок.
Если бы у людей могли вырастать крылья, Прантиш почувствовал бы за спиной их хлопанье, он едва не оторвался от пола… У приключения будет продолжение! Подумаешь, в Слуцк! Да хоть бы в страну мавров!
Между тем на лестнице послышались тяжёлые шаги и бряцание шпор… Подымался очевидно не Лёдник, и Прантиш быстренько нырнул в свою комнату. Там он протанцевал из угла в угол мазурку и повалился на кровать, прижимая к лицу конвертик, который сохранял запах дорогих духов. Вот будет чем похвастаться Лёднику! Хоть нет, нечего раскрывать слуге тайные дела хозяина — пусть только подивится, что тот раздобыл за утро десять дукатов, и имеет кое-какие важные, связанные с первыми лицами королевства дела! На это стоит, конечно, намекнуть… Вот только где тот лекарь пропал? Может, с Адэлей мурлычет? Теперь Пранцыся это не обижало. Трактирщица — слуге, воеводская дочь — хозяину! Вот так!
Лёдник обещал раздобыть еды… Трактир уже во все просмоленные стены гудит, и представляются во всей немилосердно ароматной вкуснотище горячие клёцки, политые сметаной…
Прантиш убедился, что страшный неизвестный Ватман заперся с опекаемой им дочерью воеводы, путь свободен, и двинулся вниз.
Сперва он ещё сверху увидал Адэлю, которая молча стояла у лестницы, спрятав руки под передник, будто они у неё замёрзли. Достаточно было одного взгляда на её лицо, чтобы понять — случилось что-то ужасное. Лицо было застылым, даже с улыбкой, но такой, которую затюканный школяр адресует цензорам, стоящим у позорной скамьи с розгами в ожидании, когда он спустит штаны да удобненько приляжет.
Сойдя ещё на несколько ступенек, Пранцысь увидел и тех, кому Адэля униженно-покорно улыбалась. Трое были в мундирах коронного войска, один в парике и чёрном камзоле, с такой напыщенной, презрительной харей, что вокруг сразу представлялся зал очередного сойма, голоса которого куплены заранее. Здесь же, как крыса вокруг ловушки с куском сала крутился и шпик, которого Пранцысь высмотрел вчера в трактире.
А самое неприятное, что между двух коронных солдат стоял Лёдник. Спокойно так стоял, покривив губы и понурив голову, будто уже распрощался с белым светом. Длинные тёмные волосы свисали по сторонам его худого лица, как будто владелец хотел отгородиться ими от своих беспощадных ближних.
— А это его ассистент! — вдруг заблажил шпик, показывая на Пранцыся пальцем с длинным жёлтым ногтем. — Тоже чернокнижник!
Вырвич остановился на нижней ступеньке лестницы, готовый ринуться наверх.
— Этот мальчишка ни при чём! — горделиво закинул голову Бутрим. — Я его только вчера на дороге встретил, уговорил подзаработать. Он обо мне толком ничего и не знает…
— Кто клятвам ведьмака верит, наверное, каждое утро дурману себе в чай добавляет, — сурово молвил похожий на худого петуха пан в чёрном камзоле. Повернулся, обшарил глазами Пранцыся, ещё больше скривился. — Ты кто?
— Я — шляхтич, Пранцысь Вырвич герба Гиппоцентавр, — торжественно объявил Вырвич, ещё немного подвигаясь назад. Чего-чего, а удирать школяр научился так, что ноги сами за него думали.
— Гиппоцентавр? — недоверчиво протянул Юдыцкий. — Вырвичи пользуются гербом «Далега».
— Мы — старшая ветвь, из Подневодья, имеем право на оба герба, — с достоинством объяснил Прантиш. — Мы с отцом — последние из рода. А что плохого сделал этот… человек? Он же просто лекарь! У него и диплом есть!
Важный захохотал, будто по орехам каблуками прошёлся.
— Лекарь! Тело, может, он и вылечит, а душу загубит! Чернокнижник он!
— Здесь свои доктора имеются! — взвизгнул шпион. — С соответствующими бумагами, которые здешних клиентов принимают по согласованию с властями! Ян Гутник, Людвиг Высоковский… Вы, уважаемый пан судья Юдыцкий, Высоковского должны помнить, он вам ещё чирей на бедре прижигал, когда вы с охоты возвращались… А этот гицель добросовестных докторов заработка лишает!
Вот оно что… Значит Лёдник по наущению Пранцыся просто заступил на чужую территорию! Это же только кажется, что достаточно навыки иметь да нужду в хлебе насущном… А попробуй даже на базаре с шапкой нищенской присесть — тут же «законные» нищие налетят, по шеям «захватчику» надают. А не дай Бог тому ещё пару копеек от милостивых прохожих перепадёт…
Лёдник, видимо, тоже это понимал, потому что не сделал даже попытки защититься, засвидетельствовать о своей высокой квалификации и европейском образовании, а тоскливо изучал запорошенный грязной соломой пол, будто спину безнадежно больного.
— А может, мы просто компенсируем уважаемым докторам убытки, которые межвольно, не желая того, им нанесли? — проникновенно сказал Пранцысь. Носы шпика и жолнеров сразу повернулись к школяру, будто на запах жареного кабана. Ага, деньги все любят! Пранцысь белозубо улыбнулся, хотя от мысли, что придётся потерять только что приобретённые дукаты, даже душа переворачивалась, сминая свои перья.
Но пан в чёрном сюртуке, который, как выявилось, был печально известным судьёй Юдыцким, которому Радзивиллы поручали самые грязные дела, был непоколебим, это означало, что он надеется получить намного больше в ином месте, чем от недоученного школяра да бродячего лекаря. Пан хищно всмотрелся в лицо Лёдника.
— Компенсации здесь маловато… Такой богомерзкий облик не забудешь. Тебя, дорогой, десять лет назад я видел в Черновчицах при дворе несчастного князя Мартина Радзивилла, среди других чернокнижников, которые дьявольским искусством свели его с ума. А его княжеская милость пан Героним Радзивилл этих ведьмаков приказал ловить и в узилище к нему везти.
Лёдник хотя и не пошевелился, но побледнел. Попасть в подвалы Радзивилла Жестокого — всё равно что в пекло… Никто оттуда не выходил живым, узники разных званий гнили живьём. А пана ещё и подбадривали крики и стоны заключённых — поэтому пыточное мастерство ценилось в его замках выше даже поварского.
— Если васпан меня помнит, то должен помнить, и где меня нашли, когда пан Героним захватил замок своего брата, — мрачно проговорил Лёдник. — В подвале я сидел, на цепи. Потому что как раз отказался по приказу пана чернокнижием заниматься.
Юдыцкий только покривился.
— Это суд определит. Вот улов у меня на чернокнижников… Недавно из Полоцка одну ведьмарку забирал, также лекаршей себя называет. Книжками торгует, тьфу! И ясно какими, если сошедший с ума брат пана Геронима у её отца книжки заказывал. Учёная баба! Куда мир катится!
Лёдник вдруг как-то встрепенулся, зыркнул тёмными глазами — это было как из потёртых, неброских ножен на мгновение показался непревзойдённо острый, смертельно опасный клинок — один из солдат невольно — сработал инстинкт старого воина — даже ударил пленника по спине, правда, тот будто и не заметил.
— А не припомнит ли пан имя той лекарши?
— А тебе зачем? — Юдыцкий довольно погладил длинные усы. — Не всё ли равно, кому соседняя петля достанется?
Соломея её зовут, Реничевна.
— Честного человека ослепила саламандровыми слезами! — угодливо подсказал шпик. — Страшной силы ведьмарка!
— Что за бред! — на щеках Лёдника даже проступили красные пятна — так вскипел. — Саламандровыми слезами называется обычный раствор карбонада натрия, от него никакого вреда быть не может…
— Ты о себе подумай! — оборвал его Юдыцкий. — Своих грехов хватает. Всё, время отправляться! — солдаты сразу же схватили Лёдника подмышки и толкнули к выходу из трактира. Адэля старалась не смотреть на алхимика, да и остальные свидетели зашились по углам так, что не видно, не слышно. Кому охота попасть под подозрение? Вчера же ведьмак многих лечил…
Юдыцкий на прощание холодно кивнул Пранцысю.
— Пусть пан в следующий раз внимательней выбирает себе знакомых.
Лёдник же даже глаз не поднял. Воронёнок когда-то так же покорно шёл в карцер, даже глазами не прося о сострадании и спасении. Суд… Какой там суд? Ясно, судья продаст алхимика Герониму Радзивиллу, а тот в своей вотчине что хочет, то и делает. А жить как с этим? Единственный выход… Вырвич взлетел по лестнице в их комнату… Потом — кубарем — назад. С бумагой в руках. На минуту показалось, что дверь соседней комнаты приоткрылась, и сверкнул в щели любопытный голубой глаз.
— Стойте! Лёдник не может быть наказан! Он мой слуга, холоп мой, мне принадлежит! Я ему приказал — вот он и лечил… У него ничего своего нет! Только я имею право его наказать!
Судья взял бумагу, внимательно прочитал, его оттопыренные губы шевелились, как две бледные гусеницы… Пранцысь встретился взглядом с Лёдником и вздрогнул. Столько застарелой боли, стыда, униженного достоинства… Вырвич осознал, что этому человеку легче было бы пойти на пытки и в петлю, чем прилюдно услышать о своём рабском положении. Правда, вид у алхимика стал ещё более чванливый, чем у судьи. Юдыцкий свернул шуршащую бумагу и вернул хозяину.
— Здесь юридический казус: с одной стороны, упомянутый Лёдник находится в зависимости от воли пана, и его имущество принадлежит пану Вырвичу. Но это положение было достигнуто по доброй воле самого Лёдника, за невыплаченный кредит. А в соответствии со Статутом Великого княжества Литовского, глава двенадцатая, артикул девятнадцатый, когда вольный человек в голод продаёт себя в неволю и даёт на это соответствующий документ, даже в таком случае не может стать полностью бесправным. И уж во всяком случае должен сам отвечать за свои поступки! Если же пан Вырвич признает, что тоже причастен к его злодеяниям…
— Да не слушайте вы глупого мальчишку! — взорвался Лёдник, чьё спокойствие сдуло как соломенную труху. — Я — лекарь, я был у Мартина Бешеного, я лечил в этом трактире, на что между прочим, согласно клятве Гиппократа и своему диплому, выданному в Лейпцигском университете, имею полное право. А с ним, с этим пацаном — я говорил — мы вчера только встретились! Он ко мне имеет отношение не большее, чем сабля к сапогу!
— Лекарь — моё имущество! — не сдавался Пранцысь. — Пан Агалинский передал мне право взыскать с него долг в двести дукатов. Пока не получу этих денег, лекарь — только в моей власти!
— Вот как… Практичный молодой человек, хвалю, — Юдыцкий демонстративно задумался. — Но будем честными — пан Вырвич заплатил за этого чернокнижника никак не двести дукатов. А… сколько?
— Сколько имел при себе! — абсолютно правдиво ответил Прантиш. Судья растянул бледные губы в улыбке.
— Большая, наверное, сумма… Так вот, сделаем всё соответственно закону. Я заплачу пану за его слугу двадцать дукатов, он лишится этого опасного соседства и сам может быть абсолютно свободным.
Предложение, о котором Прантиш вчера только мечтал.
Но сейчас выкрикнул изо всей силы:
— Мой слуга не продаётся!
Лицо судьи покрылось пятнами.
— Тогда пан Вырвич отправится вместе с нами и будет отвечать за участие в колдовских ритуалах!
Лёдник рванулся из рук солдат, испепеляя глазами своего хозяина.
— Тебе иезуиты хоть немного здравого смысла оставили, парень, или всё розгами выбили? Соглашайся на предложение судьи!
— Нет! — упёрся Прантиш, в очередной раз пожалев, что не имеет сабли. — Доктора не продам! Он ничего плохого не сделал!
Юдыцкий растянул губы в противной усмешке.
— Тогда поехали в Слуцк!
Вдруг Лёдник затрясся от какого-то странного смеха, солдаты, которые держали его, даже переглянулись — не спятил ли? А тот проговорил:
— Похоже, я не только себе несчастья приношу, но и всем, кто со мной свяжется… Предлагаю использовать меня в качестве совершенного оружия! Передайте меня, пан Юдыцкий, своему злейшему врагу.
Прантиш тоже хихикнул, а Юдыцкий покраснел от злости, это сразу заметили его жолнеры и за гнев начальника поспешили наградить нахального чернокнижника пинками.
Вырвич горделиво вскинул голову, поправил шапку с облезлым соболиным мехом… Всё равно в собственную скорую гибель он не верил, как не может поверить молодая плотвица в то, что где-то на свете есть место без воды. На лестнице послышались тяжёлые шаги и бряцание шпор. Пранцысь повернулся и увидел здоровенного, как медведь, человека со странно белыми волосами, бровями и ресницами, от чего его розовое лицо, исполосованое шрамами, с перебитым носом, казалось неестественно огромным, будто надутым. Глаза пана были тоже светлые, белёсо-голубые, но время от времени оказывались тёмными, чудовищно багровыми и бездонными. На незнакомце красовались дорогой камзол с серебряными галунами, чёрная шляпа с высоким верхом и ботфорты, ножны его сабли-серпантины блестели драгоценными камнями… Такие особо изогнутые сабли турецкой работы выбирались только для смертельных дуэлей. И хотелось быть как можно дальше от этого воина, который, похоже, может раздушить, как козявку, даже за недостаточно покорный взгляд. Представлялись вокруг грохот орудий, уланы, которые летят в атаку, да остекленелые глаза убитых жолнеров, всматривающиеся в небо с запоздалым вопросом: «Стоило ли оно того?»… Пранцысь сразу смекнул, что звероватого вида пан никто иной, как Герман Ватман, спутник дочери воеводы.
Юдыцкого передёрнуло, как охотника при осознании, что заряды в ружье закончились, а медведь точно знает, кого валить.
— Пан Герман Ватман! Верный пёс Багинских!
— Пан Юдыцкий! Верный пёс Радзивиллов!
Паны ощерились, изображая приветственные улыбки. Ясно было, что не имея специального приказа хозяев, драться они не будут. У магнатов, как известно, свои счёты: то сговариваются, то враждуют, то снова вместе добиваются какого-то дела, а потом натравливают друг на друга своих клевретов. Ватман окинул тёмным взглядом двух преступников, взятых под стражу.
— Богатый улов, Юдыцкий!
— Дело касается ведьмарства, Ватман. Не лезь.
— Была бы охота.
— А твой хозяин всё не решится королю кукиш показать?
— Мой хозяин о своей присяге помнит. А твой всё с русалками селёдок рожает? — отрезал Ватман, напоминая об одной из известных баек, которые любил рассказывать о себе владелец Несвижа Кароль Радзивилл Пане Коханку.
— Зато никому зад не лижет. Ни россейцам, ни саксонцам, — не сдался судья.
Судовый «крючок» Юдыцкий и ландскнехт Ватман съедали друг друга глазами, наступила такая тишина, что слышно было, как зудит последняя осенняя муха. Наконец Ватман скривил рот.
— Не потеряй парик по дороге, судья!
Развернулся и пошёл наверх, от чего не только Юдыцкий, но и жолнеры со шпиком не удержали облегчённого вздоха. С деревянных ступеней от каждого шага сыпалась пыль. Сверху опекун дочери воеводы ещё раз оглянулся, Пранцысю показалось, что на этом их знакомство не закончится.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Как Прантиш и Лёдник
не доехали к Радзивиллам на бульон
«Путь коротенький. Сладкое древо к горькому не пристанет, к человеку путь не пристанет…» — приговаривала когда-то старая Агата, Прантишева нянька, когда выправляла молодого хозяина в далёкую дорогу.
Ничего хорошего в той дороге простые люди здешних земель не видели. Всё, что нужно солидному хозяину, есть и здесь, вон от того болота до того гая… А дальше — иномир, даже из деревни за лесом девицу взять — век чужачкой проживёт, высмотрят соседи у бедняги не те обычаи: не та походка, не так похлебку варит… И уж совсем пропащий человек, который от собственной хаты сам тянется в дорогу, как старец или погорелец… Это же только в родной избёнке дух очага Сопуха живёт, перед которым следует крестом класться… Думаешь — милочка-коханочка, ан — печь-глиняночка, а в чужой хате и живая да горячая женщина не согреет.
И если уж беларусин соблазнился да в дорогу потянулся, и не удержать, то нечего удивляться, что путь его только зайцы перебегать будут, да тоскливый осенний дождь в лужах перед ним танцевать станет.
В карете для перевозки особо важных и родовитых преступников было тесно, как в клетке для кур. Запертая на огромный замок решётка, которая отделяла место для узников от места для их тюремщиков, это сходство усиливала, и Прантиш знал, что судьба его и его слуги не сильно разнится от судьбы помянутых домашних птиц… Одна надежда — шляхетское положение Прантиша не позволит тихо сделать из арестованных начинку для пирогов, потому что шляхтича может судить только шляхетский суд, и законы для него особенные… Не напрасно же их с лекарем не погрузили на телегу, не погнали, избави Пресвятая Богородица, пешком, а посадили в эту карету… Если что, так не плети и тюрьма шляхтича ждут, а заключение в башню. Более всего беспокоило сейчас Пранцыся — чтобы снова не начали обыскивать. Дукатов, конечно, жаль… Но если найдут письмо воеводиной дочки? Вырвич успел перепрятать его вместе с дукатам в сапог… Жаль будет, если и записи Воронёнка заберут — правда, лекарь тоже не первый год на свете живёт, должен был также куда-нибудь сунуть подозрительные бумаги…
А через решётки на окнах кареты, как назло, светило ласковое солнышко — будто старая дева-осень ещё надеялась сверкающими фальшивыми улыбками заполучить залётного жениха… Кто-то из жолнеров, которые ехали верхом по обе стороны кареты, завел шуточную песню с довольно грустным для полонян смыслом:
Ехаў мазур да млына,
Ехаў мазур,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Да млына.
Здохла ў яго кабыла,
Здохла ў яго,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Кабыла.
Як стаў мазур дзялiцi ,
Як стаў мазур,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Дзялiцi.
Са скуры будзе ёй шуба,
Са скуры будзе,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Ёй шуба.
З грыўкi будзе ёй каўнер.
З грыўкi будзе,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Ёй каўнер.
Ехал мазур к мельнице,
Ехал мазур,
Лигитиги-лигирули, ой да с мазурами К мельнице.
Сдохла у него кобыла,
Сдохла у него,
Лигитиги-лигирули, ой да с мазурами Кобыла.
Как стал мазур делити,
Лигитиги –лигирули, ой да с мазурами Делити.
Из шкуры будет ей шуба,
Из шкуры будет,
Лигитиги-лигирули, ой да с мазурами Ей шуба.
Из гривки будет
Ей воротник
Лигитиги-лигирули, ой да с мазурами Ей воротник.
Пер. с белорусского
Пранцысь будто вьявь представил, как с него, да с Лёдника, сдирают кожу… В узилищах Геронима Радзивилла как есть разберут обоих на части, не посмотрят, кто какого звания… Простых врагов князь приказывал зашивать в медвежьи шкуры да собаками травить. Но и льстить ему опасно. Один слуга очень хотел перед паном выслужиться, сказал, что имеет единственное желание — всегда быть на глазах у хозяина… Так тот приказал его повесить под своим окном — чтобы сбылась мечта бедняги. Три жены от князя сбежали, настрадавшись… Даже тронутый брат Геронима Мартин, над которым Герониму опеку доверили, сейчас сидит в Слуцком замке, говорят, на хлебе и воде.
— З хвоста будзе ёй каса,
З хвоста будзе,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Ёй каса.
Из хвоста будет ей коса,
Из хвоста будет,
Лигитиги-лигирули, ой да с мазурами Ей коса.
Пер. с белорусского
Решётки были густые, из ржавых полос, рука меж ними не пролезла бы. На железе остались царапины будто от ногтей многочисленных узников, в следах Пранцысю представлялась запёкшаяся кровь, хоть это была очевидно ржавчина.
— З вочак будуць гузiчкi,
З вочак будуць,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Гузiчкi.
З зубоў будуць пацеркi,
З зубоў будуць,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi,
Пацеркi, — с хрипловатой насмешкой выводил жолнер.
Из глазок будут пуговички,
Из глазок будут,
Лигитиги-лигирули, ой да с мазурами Пуговички.
Из зубов будут бусы,
Лигитиги-лигирули, Ой да с мазурами Бусы.
Пер. с белорусского
Лёдник, не обращая внимания на песню, сверлил взглядом узкое жёлтое лицо Юдыцкого с близко посаженными глазами — судья сидел напротив, надёжно отделённый решёткой, и дремал, его бледные губы вяло шевелились, будто судье снилось, что он пробует что-то невкусное. Но когда колесо кареты подпрыгнуло на очередной выбоине, Юдыцкий открыл настороженные глаза. Лёдник сразу же задал вопрос, осторожно, но настойчиво, как бортник прилаживает к улею дымарь:
— Не мог бы милостивый пан подробней рассказать об упомянутой панне Соломее Ренич? Почему её судят не в Полоцке, не в городском суде? Чем она так заинтересовала пана Геронима?
Юдыцкий возмущённо цыкнул сквозь зубы, как на надоедливого котёнка.
— Эта мразь решила, что имеет право задавать вопросы мне, шляхтичу и судье? Пан Вырвич, я требую, чтобы вы сейчас же наказали своего непочтительного слугу!
Вырвич раздражённо толкнул Лёдника в плечо.
— И правда, молчал бы ты… — и вежливо обратился к судье. — Прошу простить, милостивый пан, этого недотёпу. Он же всего только пожизненный слуга. А вот мне интересно побеседовать с таким мудрым человеком, как пан судья Юдыцкий. Наверное, история той Соломеи из Полоцка весьма устрашающая? Скрасьте нам дорогу своими интересными рассказами!
Прантиш говорил так умоляюще, как обычно выпрашивал даровой бокал у красивой шинкарочки. Голубые глаза излучали такое искреннее восхищение мудростью пана судьи, что тот сдался, напыжился, как воробей в стужу, и чинноснисходительно отжалел слов:
— Что же, молодому человеку, вроде вас, полезно будет послушать…
Вырвич почувствовал, как Лёдник коротко вздохнул, поняв Пранцысеву тактику: к гадалке не ходи, ясно, как ему не терпится узнать о той Соломее. Карета начала подпрыгивать на корнях, печальная кавалькада въехала в лес. Ветки время от времени стучали по карете, царапали её борта, будто леший прогонял и не в состоянии был прогнать нежеланных гостей.
— Судить паненку будут за то, что паюка князя Геронима ослепила. Но корни, корни поступков глубже! Упали нравы в нашем княжестве! — раздражённо промолвил Юдыцкий. — Белоголовые не должны оставаться без мужчин! Если вдова, или сирота — опекунов ей давайте… А то получается лишь бы что… Девица остаётся без родителей, и не хочет выходить замуж. Хотя считается первой красавицей места specie formosa… Не хочет, и всё! И никто не заставит. Женихи бесятся, сваты возвращаются с отказами, ползут слухи о тайной любви — но никто не может отследить. Поведение паненки безупречное, ходит в церковь… Но в монастырь не идёт, как княжна Евфросиния! Продаёт книжки в отцовском магазине и, прости святой Ёсафат, занимается наукой! Говорили, что она переодевалась в мужское и слушала лекции в коллегиуме. Если правда — задрал бы юбку и сам отхлестал… — Юдыцкий даже причмокнул бледными губами, видимо представив соблазнительную картину порки девицы, и вздохнул: — Вот только с судом князь не спешит. Только бы по доброте своей не простил ведьме, и она его, змея белокожая, не околдовала.
Может, ой, может…
— Но зачем та купчиха пану Герониму? — спросил Вырвич.
— Не вашего ума дело, — надулся Юдыцкий, но, видимо, любопытно и непонятно было и ему — зачем столько хлопот из-за какой-то девицы, потому что судья задумался и, помолчав, начал рассуждать:
— Из-за красивых глазок — навряд ли… Её ведьмино мастерство использовать — то его милость пан Героним ведьм близко к себе не подпускает. Известно мне только, что пан Мартин к отцу этой Соломеи приезжал и длинную беседу имел. А как Ренич умер, то к самой панне письмо прислал. Значит, что-то такое отец ей в наследство оставил. И видимо, важное — так как почему-то Трибунал решил вмешаться.
— Это вы о князе Александре Сапеге? — догадался Пранцысь. Юдыцкий скривился, будто разгрыз гнилой орех.
— Да, о воеводе полоцком. Сапеги добыли от Трибунала грамоту с требованием отдать Ренич под их опеку, — судья фыркнул острым носом, будто учуял запах пожара. — Будто бы князь Героним не имеет права в вотчинном суде судить полоцкую мещанку… Александр Сапега в Слуцк заявился, триста солдат привёл… Будто для переговоров. Заняли дом у Виленских ворот, жрут, пьют, горожан задирают. Жолнеры пана Геронима наготове — чем переговоры хозяев закончатся, неизвестно. Эх… Есть такая дева-птица — Сирин, которая людей зачаровывает пением своим… И пусть птица она что ни на есть райская, а сны навевает земные и грешные, и душа у неё страдающая. Короче, не захотела девица мужской руки над собою — узнает руку следствия.
— Но если пан судья знает, что панна Соломея невиновна… — подал голос Пранцысь. Юдыцкий захохотал так, что ударился затылком в стену кареты, даже дымное облачко поднялось от его парика.
— Невиновна? Дева-птица, химера, мужебаба! Я же тебе, парень, только что сказал, что такие, как она — самый вред для державы! А что, если на неё глядя, другие белоголовые воли захотят? Нет, в петлю глупую блудницу — и всё!
— Мерзавец! У Соломеи в одном мизинце ума больше, чем прячется под твоим вшивым париком! — Лёдник бросился на решётку, даже ржавчина посыпалась, но так получил ножнами судейской сабли в лоб, что, залившись кровью, сполз назад на скамью. Пранцысь сразу же навалился на своего своенравного слугу, чтобы остановить его дальнейшие неистовые поступки. Но язык лекаря он подрезать не мог, и тот постарался ответить на удар:
— У вас, пан Юдыцкий, печень больная, желчь в крови разлита, а ещё мужской силы года два как нет. Вы женщину действительно только отхлестать можете!
Ой-ёй… Залили огонь маслом. Пранцысь не отважился даже промолвить: «Да не слушайте вы этого дурака…»
— Ответишь за всё, дерьмо! — шипел Юдыцкий, трясясь от злобы как колесо на мостовой. — Скажи спасибо, что клинком не ткнул — нужно тебя целёхоньким сдать, чтобы палачи большее удовольствие получили. И ты, сопляк, расплатишься… Мы ещё проверим, какой ты шляхтич! Эй! — судья постучал в окно кареты, она приостановилась, и пан вылез, не желая делить одно пространство с дерзкими заключёнными.
З вочак будуць гузічкі…
З кішак будзе каўбаса…
Пранцысь осыпал Лёдника справедливыми упрёками, но тот больше не пробовал выламывать решётку… Застыл, закрыв лицо руками — снова поймал вселенскую тоску.
— Хорошо же ты помог и нам, и той девице! — крикнул наконец Прантиш, проклиная мгновение, когда нашёл в своём кармане последний шелег.
— Это я её загубил, — глухо произнёс Лёдник, отвернув лицо с разбитым лбом от хозяина.
— Ну, что панна Соломея — дочь того книгаря, у которого ты рос, я и сам догадался, — сердито промолвил Пранцысь. — Видимо, амуры с девушкой крутил!
— Не суди по себе… — раздражённо буркнул Лёдник, делаясь немного похожим на себя обычного. — Она же юница совсем была… Мне — десять, ей — пять… Её отец благотворителем моим был, учителем. Как я мог на его дочь похотливым оком смотреть?
Вздохнул… Потом заговорил, будто язык от морозного железа отрывая.
Маленькая Соломея, единственная дочь книжника Ивана Ренича, баловница да умница, за отцовским учеником тенью ходила… Может, потому, что других детей в дому не бывало? И Бутрим, который тоже дома рос один-одинёшенек, да ещё на соусе из пинков, понемногу привык к щебету рядом и относился к панне как к младшей сестричке. Читать её учил… И позволял перемешивать краски в ступках… Даже рассуждал при малышке вслух над своими опытами — какой ни есть, а слушатель. И только когда во время очередных каникул Лёдник вернулся домой, и пришлось дать в нос соседскому пацану, который так одержимо закидывал четырнадцатилетнюю Соломейку колючими шариками репейника — известно, лучшее средство заигрывания — Бутрим заметил, какие синие-синие глаза у его подружки, какая белая кожа, чёрные блестящие косы, а фигура… Не детская фигура. А когда она улыбается, то ямочка почему-то только на одной щёчке, левой… Дотронуться до той ямки хочется — до потери сознания… И желательно губами…
Лёдник сразу запретил себе подобные мысли. Во-первых, девушка ему не пара, да и как оскорбить учителя, без которого сгнил бы Бутрим в кожевне в невежестве и вони… Во-вторых — Лёдник уже пожертвовал свою жизнь Великой
Науке, при служении которой, как известно, нежные чувства только помеха. Но когда Бутрим отъезжал в университет, Соломейка перехватила его у калитки, и глаза её пылали нестерпимым синим огнём, и заявила она, что сердце её отдано Бутриму, и никто иной ей не завладеет, и будет она ждать столько, сколько Бог положит и судьба Бутримова. И Лёдник так растерялся, что получился у них первый, неумелый и самый лучший в жизни поцелуй… Он даже не пообещал ничего. Жизнь закрутила молодого человека в вихрях своих, как челнок легкомысленный, который вознамерился по лунной серебряной дорожке на волнах до самого Месяца доплыть… Обманом будет сказать, что Лёдник часто вспоминал синеокую полочанку… Не до того было — ученье, распластанные в анатомическом театре трупы, продолжительные диспуты, студенческие застолья, горячие доступные женщины. Но нельзя и утверждать, что он её забыл… Потому что осознание «меня ждут» должно быть у каждого, даже самого жёсткого человека, и на огонёк этого чувства можно выйти из тёмного лабиринта.
Сплыли года, как сухие листья по осенней воде, и вернулся Лёдник в захудалый Полоцк, где мор забрал и его родителей, и отца панны Ренич. Доктор пришёл в такой знакомый дом поинтересоваться, чем можно помочь дочери своего учителя… И она стояла и смотрела на него горделивыми синими очами, и ему страшно хотелось спросить, владеет ли по-прежнему
он её сердцем, и не отваживался… А она просто сказала:
— Мне — ничего не нужно. Но ничего не изменилось. Я жду.
Он не хотел тратить себя на что-то, кроме тайных наук… И больше не виделся с панной. Даже когда попал в страшную нужду из-за своей одержимости — не пошёл к ней… Ибо знал, что растратит и её имущество и её жизнь. И Бутрим сделал всё, чтобы до Соломеи не дошли слухи о его договоре с паном Агалинским — выкупила бы… А он этого не стоит.
Но ещё никто не смог уберечь щепку в сердце костра.
— Если бы я женился на ней — она бы погибла… Не женился — всё равно погубил её.
Пранцысю сильно не понравилась отчаянная ненависть к себе, которая звучала в голосе алхимика. Будто сейчас он разобъёт свою упрямую голову о ржавую решётку. А тот ещё достал заветный пузырёк с алхимическим золотом и уныло рассматривал, как воплощённый укор.
— Загубил — так спасай! Зачем зря плакаться?
Для парня всё выглядело предельно просто.
И Лёдник прищурил тёмные глаза, будто увидел солнце, и спрятал свою стекляшку…
— Дитя мудрее царя Соломона, да… Твая правда, пан Вырвич. Видимо, Господь не напрасно послал тебя на дорогу до Воложина.
Доктор достал из кармана платочек, аккуратно промокнул царапину на лбу, которая уже начала затягиваться, утёр лицо и осмотрелся вокруг совсем иным взглядом — как повар смотрит на тушку каплуна.
— Оружие есть? — спросил. — Может, хоть перочинный ножик какой припрятал?
Прантиш помотал головой. Кроме как сберечь письмо воеводиной дочки, ничего его не интересовало во время ареста. Алхимик полез в свой сапог и достал записки Воронёнка. Потом с силой дёрнул обёртку — Прантиш не успел его остановить — и вынул из корешка книги острый металлический стержень. Вырвичу даже дух заняло: это же древнегреческое стило Воронёнка, с которым тот так носился! Вот так Лёдник, что значит учёный! За утро вынюхал клад, а Прантиш сколько записки с собой таскал — даже до конца прочитать не осилил.
Между тем Бутрим наклонился и начал осторожно ковыряться стилом в замке решётки с таким выражением лица, будто делал сложную неприятную операцию на гнойнике. Неизвестно, как быстро его ожидал бы успех, и каким образом намеревался лекарь, вооружённый стилом, справиться с солдатами, но послышались безумные вопли, кони понесли, кучер орал, как поджаренный… Узники ударялись о стены, как две луковицы в горшке, который катится с горы.
Что бы ни случилось, в этом была их надежда. Тем более, что Юдыцкий ругался, срывая голос, угрожал кому-то королевским судом и Радзивиллловской местью…
Карета дёрнулась, резко наклонилась набок, видимо потеряв колесо, ещё немного протащилась по земле и остановилась… Сразу двери распахнулись: жолнер Юдыцкого, с равнодушной безжалостной улыбкой на мягком лице, держал два пистолета направленными на узников и не собирался терять время на угрозы или молитвы… Вот она, смерть быстрая и неожиданная. Пранцысь, к своему разочарованию, не успел даже принять мужественной позы, хотя бы гордо скрестить на груди руки, как должно встречать последнее мгновение носителю герба «Гиппоцентавр». А вот лекарь успел будто чёрная змея скользнуть вперёд и, насколько мог в тесной клетке, заслонить собою молодого хозяина… А ещё сделал при этом какое-то странное молниеносное движение рукой от шеи. Выстрелы из пистолетов прозвучали, но вместе с криком боли.
Пранцысь осознал, что жив… И даже не ранен. И Лёдник стоял на ногах в скособоченной карете… А вот жолнер, скуля, держался руками, уронившими пистолеты, за глаз, из которого торчала железная спица… Древнегреческое стило, которым возможно писал на восковых дощечках стихи курчавый поэт, а возможно, кто-то тоже выкалывал глаза ближнему своему. Раненый вывалился из кареты… Но вместо него появился новый персонаж с тем же атрибутом, а именно направленным на заключённых пассажиров пистолетом. Лицо незнакомца было завязано шарфом, сверху его прикрывали широкие поля шляпы… Разбойник? Пришелец сдвинул шарф. Белые брови и ресницы, исполосованное шрамами розовое лицо, странные бездонные глаза… Пан Герман Ватман! Прантиш невольно сунул руку в голенище сапога, где было припрятано письмо Багинской. И не удрать, и не защититься… Лёдник прошипел сквозь зубы что-то похожее на «Не понос, так золотуха», и снова попробовал заслонить собой Прантиша.
Послышался выстрел… Но пан Ватман, которого, похоже, очень забавлял испуг пассажиров, целился не в них, а в замок на решётке. Пуля перебила дужку, решётка наконец с недовольным скрипом открылась. Но узники как-то не спешили выходить, уж очень неопределённым выглядело их положение. Ватман улыбнулся со злым весельем.
— Ну что, цыплятки, по-прежнему хочется к Радзивиллам на бульон? Я бы посоветовал не спешить на кухню. А ты, мальчик, поблагодари одну милую непослушную панну… Она попросила передать тебе — выполняй порученное. И осторожнее — следующий раз, возможно, сам тебя придушу, если под руку попадёшься и не на ту сторону станешь.
Сунул пистолет за пояс и выпрыгнул из кареты. Лёдник и Пранцысь настороженно высунулись за ним. Вокруг были следы настоящей баталии. Два жолнера — то ли мёртвые, то ли без сознания — лежали в кустах спинами вверх, в карете остался запряжённым один конь, который уже и не пробовал сдвинуть её с места. Ни двух других солдат, в том числе и раненого в глаз, ни пана Юдыцкого не было. Ватман подхватил концом сабли с земли что-то бело-серое, мохнатое, похожее на дохлую курицу.
— Ну, судья, всё-таки потерял свой парик!
Ватман брезгливо бросил судейское украшение на куст можжевельника, парик нацепился как раз на вершину, от чего куст сразу стал похож на привидение с зелёным тёмным лицом.
— Прощайте, чародейнички!
Прантиш ошеломлённо смотрел вслед Ватману, который скакал на белом дрыгканте прочь, в ту сторону, откуда они приехали… Около поворота дороги к Ватману присоединился ещё один всадник. И школяр знал, кто тот второй, изящненький и невысокий, который даже рукой ему помахал… Не забыла, не бросила своего посланца! От горячего чувства у Пранцыся даже слёзы на голубые глаза навернулись — хоть тучку издали расцеловать, хоть ближайшую ёлочку обнять от полноты душевной… Но грубый Лёдник, далёкий от тонкостей куртуазных, дёрнул парня за рукав:
— Пан, конечно, может мечтать здесь до утра, но радзивилловские наёмники возвратятся в любое мгновение. А мы, между прочим, беглые арестанты…
Пранцысь пришёл в себя. И действительно, не до объятий с ёлочками, нужно удирать, если хочешь в будущем живую девушку к сердцу прижать. Но Лёдник, вместо того, чтобы выполнять свои же слова, подошёл к одному из бедняг, которые лежали в кустах, стал на колени, перевернул его, пощупал шею…
— Живой… Ничего… Полчаса полежит, очнётся.
Подошёл ко второму, тоже осмотрел, даже веко приподнял:
— И этот выживет, хоть сотрясение мозга получил.
Он что, лечить свою смерть возможную собирался?
Рука Пранцыся между тем сама схватила саблю-августовку, которая лежала у руки жолнера. Наконец он снова держит оружие! Махнул на пробу раз, другой… Ух, теперь берегитесь, все Юдыцкие на свете!
— Ваше фехтовальное умение, кроме ёжиков, здесь некому оценить, — язвительный голос Лёдника вернул Прантиша из рыцарских победных мечтаний на мокрую лесную дорогу. — Двинули, пока солдат не наехало!
Но и Лёдник же не побрезговал разжиться оружием, расстегнул свой чёрный балахон и засунул за пояс пистолет и саблю, конфискованые у побеждённых. Да ещё промолвил поучительно, заметив подозрительный взгляд хозяина:
— Как учил италиец Маккиавелли, глупое дело надеяться на то, что вооружённый человек подчинится невооружённому, а ferrum ferro acuitur, железо точится железом.
Также на голове Лёдника красовалась не его чёрная шляпа, и теперь алхимик со своим хищным носом, тёмными патлами и свежим шрамом на лбу точь-в-точь был похож на рыцаря большой дороги, а не на учёного мужа.
Идти решили в сторону Слуцка… По возможности не по дороге, а по чащобе сбоку. Направление споров не вызвало. Во-первых Лёдник рассуждал, что навряд ли преследователи вообразят, что беглецы направятся именно в ту сторону, где должны найти гибель. Во-вторых, ясное дело, Лёдник рвался к своей Соломее — Прантиш искренне не понимал, какой интерес у мужчины может вызвать женщина, которой за тридцать лет. Тётка! Прекрасной девице должно быть лет пятнадцать-шестнадцать, как Полонейке Багинской. Но в Слуцк и Прантишу нужно… Исполнить поручение дочери воеводы, найти Александра Сапегу… Но слуге об этом знать не обязательно.
А похоже, Прантиш имеет слугу не только знающего, но и верного — при воспоминании, как Лёдник закрывал его в карете от пуль, Вырвичу стало немного неловко, но и как-то тепло на сердце… Никто раньше не пытался отдать за Прантиша жизнь. Свой собственный поступок — отказ продать доктора со всеми последствиями — Прантиш не считал чемто особенным.
Когда они, утомлённые, присели на поваленном бревне под разлапистой сосной, Лёдник, снимая с лица налипшую паутину, задумчиво проговорил:
— Раньше я бы составил гороскоп и определил, пророчат ли звёзды успех, и откуда приближается опасность… Теперь остаётся молиться да надеяться на Божью милость. Ну, и куда ты, парень, влез? Почему старый выжлец Герман Ватман взялся тебя освобождать? Его услуги стоят огромных денег, не каждый магнат сможет такого нанять. Чем ты стал для Багинских так дорог?
Прантиш немного поколебался, посмотрел на осеннюю листву, што гнила под его ногами, напоминая о тленности земного бытия, и рассказал о знакомстве с очаровательной дочерью воеводы…
— Покажи письмо! — властно сказал Лёдник, протягивая руку. Прантиш подумал, не возмутиться ли дерзостью слуги, однако же достал помятый конверт. Алхимик покрутил его в руках и вдруг решительно сломал печать. Школяр вскочил и замахнулся на лекаря.
— Ах ты!… Что делаешь, мерзавец! Это же бесчестье — читать чужие письма, доверенные шляхтичу!
— А я не шляхтич, меня честь не заботит, — холодно проговорил Лёдник. — А знать, ради чего рискуем жизнью, я должен, так что весь грех и позор — на мне. Та-ак…
Лёдник внимательно изучал лист, на котором всего и было нацарапано пара строк без подписи. Прантиш, как ни клокотал от возмущения низким поступком слуги, не мог удержаться, чтобы тоже не прочитать…
«Лев готов прыгнуть, но не может забыть о цепи.
Когда единорог приведёт гриффона к воротам и найдёт с помощью Девы Венец Полемона, цепь порвётся. Роза будет ждать у белого колодца»
Что за ерунда? Прантиш разачарованно отвернулся. Но алхимик разочарованным или озадаченным не выглядел.
— Вот ведь женщина… Если даже письмо достанется врагам — никаких зацепок. Ни адреса, ни подписи, одни иносказания. Да и освобождение наше — ещё доказать надо, что Багинские к нему причастны. Карету свою отправили заранее на Менск. Ватман ряженый был, хоть он настолько примечательный здоровяк, что можно заподозрить. Но, конечно, станет всё отрицать. Мало какие разбойники на людей Юдыцкого напали. А кому панна просила передать письмо? Князю Александру Сапегу?
Прантиш растерянно молчал. Как видно, слуге загадочное письмо было гораздо более понятным, чем его господину. Но расспрашивать, что к чему, показать себя несостоятельным, было стыдно. Лёдник насмешливо покосился на хозяина, понимая его мучения.
— Прежде чем ввязаться в политику, нужно хотя бы свою партию сознательно выбрать. Хотя у нас, литвинов, да ещё православных, какая может быть партия, когда мы по обычаю очутились между сковородкой и вертелом? Знаешь, какие страсти бушевали, когда польский трон делили? Август на него сел не только потому, что россейцы поддержали, да партия Чарторыйских, но и потому, что одни не могли других победить и решили: «Пусть ни нашим, ни вашим».
— Так пан отец мой его не любит, — закивал головой Прантиш, желая показать и свою осведомлённость. — Говорит: «Какой же это король, прости меня, Боже? До того, как война его из Дрездена выкурила, пару дней в Польше и побыл, языка не зная, с любовницами разобраться не может, здесь всё фавориты решают». Говорит, его преемником Чарторыйские молодого Понятовского сделать хотят.
— Сопляка Понятовского не знаю, — проворчал Лёдник. — Но видел, как старший, Юзеф Понятовский по Варшаве в карете разъезжает в компании фаворитки Юзефки… А та — в костюме Евы, прости, Господи.
Пранцысь вздохнул от сожаления, что сам не увидел того соблазнительного зрелища. Лёдник осторожно тронул свой разбитый лоб.
— Да-а… Страшно представить, что нас ждёт. Вот тебе и алхимический процесс: перемолов драгоценные камни, получают кучку чванливой пыли. Магнаты королевской власти не признают, войско имеют гораздо более сильное, чем коронное. Героним Радзивилл налоги отказался платить, племянник его, Пане Коханку, заявил, что это он, Кароль, всегда был здешним королём. Если спорный вопрос — приходится обращаться к россейцам, чтобы прислали солдат.
— Но Россия же православных защищает… — промолвил Прантиш. — Елизавета Петровна требует, чтобы нас перестали считать диссидентами, уравняли в правах. Может, для нас и лучше союз с Россией?
— Да, под Польшей не сладко литвинам… — согласился Лёдник. — Сам видел, как православных братчиков камнями забрасывают. Храмы поотбирали, в униатство загоняют. Один такой… миссионер даже приказал православных из могил выкапывать и, как падаль, бросать. Здесь мы — схизматики, но и для россейцев — схизматики, католиками испорченные. Нас исправлять будут… Так, что кровь потечёт. А что с теми, кто унию признал, сделают… Особенно с простыми мужиками, которых из веры в веру плетьми перекрещивают…
Бывший алхимик задумчиво вглядывался в серые небеса, будто надеялся на страницах туч прочитать что-то важное.
— Знаешь, Вольтер… есть такой французский философ… как-то сказал, что он готов отдать жизнь, чтобы его враг мог свободно выказывать своё суждение. Как по-моему, так стоит умереть не только за свою веру, но и чтобы не убивали, не пытали людей за то, что они эту твою единственно правильную веру не принимают. Я подобного уже столько насмотрелся, мой пан… А если начинают войска чужаков грабежи учинять, не разбирают, кто в какую церковь ходит. Потому, что в подбое всего — обычное стяжательство. Желание захватить побольше земли.
Прантиш окинул взглядом унылые осенние пейзажи. Земля у них, конечно, не такая яркая, как на картинах италийцев… Но своя же. Со своими рыцарями и прекрасными дамами… Кстати, по поводу дам.
— А при чём тут Багинские?
— Ввязался ты, парень, в сговор магнатский против Августа Саксонца, — мрачно объяснил доктор. — Багинские мечтают о короне. Подбивают бороться за трон князя Михала. Елизавета Петровна сильно болеет. И князя Михала познакомили с женой её наследника, Екатериной, которая с мужем не ладит и завела роман со Станиславом Понятовским. Багинский Понятовского не победил, зато, говорят, не на шутку влюбился в молодую царицу. Долго в СанктПетербурге не задержался, отправился ездить по Европе… И придётся ему бороться за корону самому. Но Михал Багинский чувствует на себе цепь — присягу, которую дал королю… И вообще политических интриг не любит. Вот и сестру младшую, видимо, подальше от политики отослал под присмотром Ватмана.
— Значит, Багинские в сговоре с Сапегами? — глубокомысленно заметил Прантиш.
— Почему бы и нет? — Лёдник сорвал с можжевелового куста сине-чёрную ягоду, повертел её в пальцах, будто она была чёрной жемчужиной. — Борьба за власть, парень… Враги тайно объединяются, друг с искренними слезами сожаления вгоняет другу нож в спину… Александр Сапега тоже теперь страшно обижен. Он добивается булавы гетмана польного литовского, говорят, дал графу Брюлю, кабинет-министру королевскому, немерено денег… Даже жену свою подослал к его сыну, чтобы своими прелестями одарила. Бесчестья огрёб, но ничего не добыл. Так что корона для него — трофей, который за всё вознаградит.
Вырвич смотрел на засыпанную хвоей и ржавыми листьями землю, по которой ещё сновали обманутые осенним солнцем мураши. А у этих ничтожных козявок тоже ведь есть и солдаты, и мужики, и королева, есть и крылатые особи, которым ближние быстренько обгрызают крылья. Нечего летать, если нужно хвою таскать, тлю пасти, да нападающих кусать. Пранцысь на минуту представил Лёдника таким вот чёрным крылатым мурашом с обкусанными крыльями, который едва шевелится на тропе, потому что если нельзя летать, то куда ползти — всё равно, и всё равно, пасти тебе придётся, или таскать, или сейчас тебя раздавят. Глухое раздражение шевельнулось в душе школяра, смешанное с завистью: ишь, какой умник — сын скорняка, в тонкостях политических разбирается, о магнатах судит… Крылья отрастил… Да кто он такой?
— Послушай, Лёдник, если лев — это князь Багинский, значит, согласно этому письму, он может пойти против короля, только нужен какой-то толчок… Венец Полемона. Это что?
— Кто знает… — безразлично ответил доктор. — Корона Витовта? Свиток с предсказанием святого Довмонта, что королём должен стать владелец герба того или этого? Святой Грааль, который сразу сделает владельца избранником? К сожалению, мне ясно одно — с этой штукой связаны Реничи. Пан Иван разные редкости собирал, даже землю на месте старых строений раскапывал… Может что и раскопал. Шляхтичи любят всякие символические бесполезные вещи, вроде обломка меча прапрапрадеда, который ходил на медведя вместе с царём Додоном.
Терпение Пранцыся лопнуло, как пузырь на поверности лужи. Лёдник что, над шляхтою насмехается? То печать на чужом письме разламывает, то выставляет владельцев гербов легковерными олухами… Нельзя это спускать! Кровь бросилась школяру в голову, даже дятлы в висках застучали. Прантиш вскочил, выхватил саблю, приставил к горлу своего слуги и взревел:
— Не твоё дело о шляхетской чести судить! Да за такие слова я имею право тебе голову безродную отрубить!
В это мгновение Прантиш почему-то чувствовал себя похожим на своего отца в молодые годы, хвата и буяна на весь уезд, старшего Вырвича. Ощущение пьянило, как токайское вино.
Лёдник прикусил губу, видимо, вместе с язвительными словами, помолчал и выжал из себя, глядя в землю:
— Прошу у моего хозяина прощения. Я не имел права говорить, что думаю о тех, кто выше меня. Я забыл, кто я такой. Этого больше не повторится.
Клинок Прантишевой сабли дрожал около упрямого подбородка доктора. Тот не делал попыток уклониться, но ухмылка больше не кривила его губы. Ухарство выпарилось из школяра, как вода из варенья. Вырвич убрал саблю, сел. Наступило молчание, которое Прантишу очень не понравилось. Естественно, слугу нужно было поставить на место… А что, если вдруг горделивый Лёдник вот так замкнётся в себе, да начнёт с пафосом святого мученика исполнять роль раба? И не будет больше доверительных бесед и ощущения сильного надёжного плеча рядом?
Прантиш бросил быстрый взляд на Лёдника, который всё так же смотрел в землю. Оскорбился. Школяр встал, походил, покашливая, вокруг, сбивая с веток сухие листья, Ну, доктор же умный, должен догадаться, что молодой пан жалеет о своей горячности! Но тот только спросил, не подняв глаз:
— Пан приказывает идти дальше?
Таким бездушным, сухим, как камышина, голосом, с нужной дозой вежливости… Прантиш взвыл:
— Ну хорошо! Хорошо! Я погорячился! Я сожалею! Но ведь у шляхтича есть святые вещи… Тебе не понять… Что мне теперь, прощения просить до вечера?
Лёдник насмешливо хмыкнул:
— Где уж мне, безродному, понять шляхетские тонкости!
Но у Пранцыся полегчало на душе, он почувствовал в докторовом голосе знакомые язвительные нотки. Уселся рядом, заговорил примирительно:
— Отец учил меня, что родовое оружие — не просто сабля, она оплачена кровью предков… Как и все наши привилегии. И мой отец воевал, шёл в народное ополчение, не за себя — за Родину, за Княжество Литовское, за белорусскую землю… На нём знаешь, сколько шрамов от вражеского оружия? И меня с детства приучал, что я должен всё время быть готовым отдать жизнь за Отечество. Без колебаний, по первому зову. Закалял… Когда я был маленький, отправлял меня, например, ночью на поле принести несколько колосков — а поле у самого кладбища… А сколько Вырвичей головы сложили в боях — с московцами, с татарами, со шведами!
— Я чту тех, кто отдаёт жизни за Родину, ваша милость… — тихо сказал Лёдник. — Я не хотел оскорбить ваших предков и вас. Мои предки тоже, хоть и не были шляхтичами, гибли за вольный Полоцк. Прадед с братьями стояли на стенах, когда город осаждали войска Ивана Грозного. Московцы натащили орудий большого калибра, закупленых в Англии, что стреляли ядрами по двадцать пудов… Сеча была страшная, на оборону встали все — женщины, дети, старики. Хотя поначалу даже молебны служили за православных братьев, надеялись, что с их помощью прекратятся гонения со стороны католиков и униатов, оставят в покое православные храмы… Но с чужими пушками воля не приходит. Тогда молодой князь Ян Глебович, который руководил обороной Заполотья, предложил дать оружие «чёрным людям», крестьянам… И что ты думаешь? — доктор провёл рукой по лицу. — Воевода Давойна отказался… И город был взят. И более половины жителей вырезано. А самых родовитых шляхтичей погнали в московский полон, хоть многие из них были такими же православными, как московский царь. А всё из-за того, что благородный пан не признал за чёрными людьми право иметь Родину и защищать её. А сто лет назад пятнадцатитысячное войско воеводы Трубецкого остановило подразделение простых мужиков из Колесниковского уезда — их было всего три тысячи, но им обрыдли грабители. Когда московцы брали Могилёв — им ключи горожане поднесли, тоже радовались приходу православных братьев, да получили грабежи и насилия. И простые мещане уничтожили за ночь семь тысяч солдат-чужаков, весь гарнизон.
Лёдник посмотрел в глаза Пранцысю тёмными грустными глазами.
— Я не шляхтич, но у меня тоже есть Родина. И мне больно видеть, как она гибнет из-за…
Доктор умолк, но Вырвич понял, что он хотел сказать. И возразить было тяжело, потому что старший Вырвич также пенял на магнатов, которые готовы союзничать с любым иноземным врагом, лишь бы победить друг друга. Оба некоторое время молчали, наблюдая, как сосны машут ветвями, будто просят спасения от неминуемой стужи.
— Доктор, а твой учитель Иван Ренич мог знать рецепт философского камня?
Лёдник со скепсисом хмыкнул.
— Не помню такого за паном Иваном… Он и меня отговаривал в дурное дело лезть — жаль, я не послушал из-за гордыни своей.
— Но Мартин Радзивилл же у него книги заказывал!
— Вот и я думаю, какие… — молвил доктор. — Навряд ли псалтыри. Мартин Радзивилл изрядно поверил в метемпсихоз… Переселение душ. Всё время утверждал, что был в прошлой жизни птицей, так как имеет длинный нос. А в следующей надеялся стать слоном. Что не мешало ему в этой быть последней свиньёй. А учитель имел редкие книги, даже из Китая, из Индии. Эх, нужно Соломею спросить… А если она сейчас в подземельях Слуцкого замка… Лёдник даже зубами скрипнул.
— Ничего! — Прантиш выхватил письмо из рук слуги. — Найдём Александра Сапегу, попросим помощи!
Лекарь нахмурился.
— Сапега против Радзивилла, да ещё в его вотчине, даже с решением Трибунала и тремя сотнями солдат — бессилен. Хорошо, если Героним Жестокий не отважится его силою со своей земли вытурить. И покровительство магнатов — дело ненадёжное. Он тебе кубок подаст, и тут же этим кубком зубы выбьет. Племянник Геронима Пане Коханку так шутить любит. Магнаты… — Лёдник вздохнул и отмахнулся от худого осеннего комара, который целился к его длинному носу. — Нечего бедному человеку у их игры ввязываться. Мой знакомый по Праге, доктор Бахстром, к Герониму Радзивиллу устроился было… Думал золотом засыпаться. А пан в каждой ложке яд подозревал, так же, как в каждом взгляде жены своей, Терезы, измену. Женщину под замок посадил, следил за каждым шагом… А она же не лишь бы кто — дочь подскарбия надворного! Вот Бахстром и пожалел красавицу. Помог ей сбежать. Убежала молодка, отец за неё заступился, развод сладил. А Бахстром оказался хромым лисёнком, которого в передавленном курятнике бросили. Убегал от радзивилловской шайки сломя голову, попросил убежища у Аскерков в Шацке… Так Радзивиллы туда целое войско пригнали! И что думаешь, родственники пани Терезы доктору помогли? Кто он такой? Пыль на шляхетской обуви. Вот тебе и служение прекрасной даме.
Лёдник сердито надвинул глубже на голову снятую с жолнера шляпу, прикрыв шрам от сабли судьи.
— Но ты же сам пошёл на службу к Мартину Радзивиллу, где хватанул горя! — упрекнул Прантиш. — Чем ты тогда думал?
— Чем думает одержимый человек? — тяжело вздохнул Лёдник. — Я тогда недалеко от сумашедшего Мартина ушел. Представляешь, когда брат его замок штурмовал, Мартин вдохновенно играл на скрипке! Правда, я этого не слышал, так как ко мне в подземелье звуки не доносились. Но и я, когда судебные исполнители дверь в мой дом ломали, из одной колбы в другую жидкость переливал и капли считал, как аккорды самой лучшей музыки.
Бывший алхимик покаянно вздохнул.
— Сейчас бы не музыку слушать, а поесть… — проворчал Прантиш, оглядываясь по сторонам. В конце-концов, в литвинском лесу здешний человек с голоду умереть не может: хоть гриб какой-нибудь ухватит… А вон, кажется, лисички наивно-нахально так желтеют, знак подают — съешь нас, бедный школяр!
— Тсс… На землю…– тревожно шепнул Лёдник и, схватив хозяина твёрдой рукой за загривок, повалил лицом в заплесневелые листья, видимо, окончательно забыв о своей обиде и обещании помнить своё рабское место. По дороге слышался стук копыт. Прантиш лежал, сжимая эфес сабли, и страха не было. Десять всадников, Юдыцкого не видно… Да они с Лёдником, если что, порубят этих псов, как крапиву! Всадники проехали, стало тихо, только комары зудели.
— Двигаем! — Лёдник толкнул хозяина. — И саблю больше не выхватывай без причины… Вояка… Господи Боже мой, всё у меня не по-людски, будто жизнь мою выдумал поэт с богатой, но бездарной фантазией! Одну панну освобождать, второй письмо передавать…
Солнце решило, что на сегодня выдало всё своё нищенское золото, и с облегчением спряталось за ближайшую тучу.
Та недовольно сыпнула дождём.
— Подвиг во имя прекрасной дамы — это не бездарная фантазия! — оптимистично отозвался Прантиш, представив милые глазки панны Багинской, а его слуга только вздохнул. До Слуцка оставалось три дня пути, не короткого и не лёгенького.
…З капытоў будуць кубачкi,
З капытоў будуць,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Кубачкi!
ГЛАВА пятая
Как Прантиш и его слуга
немцами стали
| Л |
еонардо да Винчи в своём «Бестиарии» написал, что совы мстят тем, кто над ними насмехается — выклё-
вывают глаза. Леонардо считал, что глазастые птицы только этой пищей и могут прокормиться.
Правда, сова, которую Прантиш увидел вчера вечером, питалась точно не человечьими глазами, а мышами. Подсмотрел немного её охоту… Вот и они с Лёдником сейчас как мыши. Того и гляди, кто-то когти в бока запустит. Хотя лес для литвина — это же спасение, не так, как для иных, которые отождествляли его с первобытным хаосом, или с лабиринтом, где живёт Минотавр… Достаточно, правда, и здешнего медведя, чтобы к Абраму на пиво отправиться. Но покуда ничего крупнее совы школяр с доктором не встретили. Не нашли и святое дерево Перидексион, плодами которого питаются голуби, а змеи даже от его тени убегают. Не росло здесь и дерево Иггдрасиль, по которому души умерших уходят на тот свет…. Наверху дерева Иггдрасиль живёт орёл, под корнями — дракон, а по стволу бегает туда-сюда белка Рататоск, воплощая суетливый человеческий мир. Это всё Лёдник по дороге замусоривал курчавую Пранцысеву голову ненужными цитатами, очевидно решив, что его священный долг — доучить своего хозяина вместо иезуитов. Ха! Те обломились, и сыну полоцкого скорняка ничего не светило на неурожайной ниве Пранцысевого образования. Зато местный леший за последний день не однажды подбрасывал путникам под ноги поваленую ель или поливал неожиданным, как приступ старческого кашля, дождём. Да, имея в карманах золотые дукаты, на грибах да орехах жить грустно…
Лёдник вышагивал рядом, бормоча длиннющие фразы из «Опытов» философа-французика Монтеня, до которого Пранцысю не было никакого дела, как и до глупой скандинавской белки Рататоск. Вдруг доктор схватил Вырвича за плечо и остановился. Прантиш прислушался… В их сторону с треском и воплями кто-то ломился через кусты. Лёдник оттащил Пранцыся под разлапистую ель, хотя Вырвича так и подмывало рвануться вперёд и испробовать саблю на неизвестной опасности. Но воспоминание об одном вчерашнем вытаскивании сабли из ножен было таким неприятным, что Вырвич, как советовал Лёдник, решил переждать. А тот, однако, достал из-за пояса пистолет. Прантиш не стал озвучивать, что Вырвич-старший, как и многие приверженцы сарматских обычаев, считал употребление пистолетов признаком упадка щляхетского боевого мастерства, хотя и соглашался, что шляхтич должен уметь из пистолета попасть белке в глаз. В конце-концов, Лёдник — не шляхтич, а мещанин, вот пусть и стреляет.
— Пресвятая Богородица, спаси!
Со стороны дороги бежали двое мужиков в обычных засаленных кафтанах и магерках, по всему видно, сильно перепуганные. Один на бегу пробовал молиться, второй выкрикивал, будто заикался:
— Цмок! Цмок! Дракон!
Навряд ли он таким образом намекал на поцелуи. Что же, простые люди, известно, и сову посчитают нечистой силой. Когда бедняги, спотыкаясь на влажных корнях и обдираясь о ветки, отбежали довольно далеко, Лёдник с Вырвичем достаточно осторожно двинулись дальше: то, что напугало мужиков, должно было находиться на дороге немного впереди.
Сначала они услышали немецкие ругательства. Кто-то от всего сердца выразительно описывал местные дороги, местных дикарей и местную погоду. Отдельные фразы содержали латинские слова, поэтому можно было понять, что ругается человек учёный.
Прантиш и его слуга выглянули из-за кустов, на которых победными флагами остались висеть редкие рыжие листья. Посреди дороги стояли две повозки. Одна — обычный дорожный экипаж, бричка с закреплёнными позади сундуками. А вот второй представлял из себя небольшой сарай с колёсами, тщательно накрытый просмолеными полотнами. В этот сарай были запряжены целых восемь коней, но и они не могли сдвинуть с места великанский воз, который двумя левыми колёсами попал в огромную лужу так, что угрожающе наклонился. С одной стороны полотна, которыми был плотно закрыт таинственный груз, разошлись, и между ними поблескивал металл. Около воза суетился невысокий пузатый человечек в чёрном камзоле с простым белым воротником, из-под шляпы с высоким верхом свисали посыпанные пудрой букли. А на ногах, совсем нелепо для литвинских осенних дорог, были ботинки и когда-то белые чулки. Именно этот человечек и сыпал проклятиями. Высокая худая женщина в чепце, запахнутая в дорожный плащ, время от времени перекрывала его крики пронзительным:
— Якоб, возьми себя в руки!
Усатый кучер, тоже одетый в немецкий костюм, усердствовал около коней…
— Да будет проклят тот день, когда я получил письмо из Слуцка и возжелал княжеских дукатов! — орал человек в шляпе, во всяком случае, именно так Прантиш, у которого успехи в немецком были довольно скромными, понял его жалобы. Но было ясно, что экипажи направляются в Слуцк! Лёдник прерывисто вздохнул, как охотник, который наконец увидел из засады вепря:
— Вот тебе и милость судьбы… Кажется, этот немчик мне знаком. Мой однокурсник по Лейпцигу… Когда-то мы неплохо проводили время. Но как он воспримет, когда узнает, что мы сбежали из-под ареста?
— А ты что, вот так собрался ему всё о нас вывалить? — Прантиш едва не засмеялся — вот наивный чудачина этот доктор.
— А как объяснить, почему мы очутились здесь, да ещё в таком виде?
Прантиш придирчиво осмотрел себя и Бутрима: да, не с бала паны… Обшарпаные, грязные… Хорошо, что вооружённые, но ведь — пешком идут! А что это за благородный пан без коня?
— Эх, только бы он по-нашему понимал… — с досадою промолвил Вырвич.
— Якоб Пфальцман? Да он языков двадцать знает, и литвинский понимает точно, — заверил доктор.
Школяр хищно улыбнулся:
— Тогда никаких проблем! Вперед! А ты только со всем соглашайся, что я скажу. Homo semper in ore aliud fert, aliud cogitat. Человек всегда одно говорит, а другое думает.
Семейство Пфальцманов встретило появление чужаков, если мягко сказать, настороженно: фрау спряталась за неизвестную конструкцию на возу, а герр Пфальцман просто направил на пришельцев из лесу два пистолета. Но когда приблизился Лёдник, немец растерянно опустил своё оружие и несмело заулыбался.
— Герр Лёдник? Не может быть! Майн Готт! Это вы, мой друг, или инкуб в вашем облике?
Бывший алхимик растянул губы в подобие улыбки.
— Приветствую пана Пфальцмана!
— Эльза! Это доктор Бутримус Лёдник, из Лейпцига, тот, который изобрёл двадцать четыре способа трахеотомии! Сколько пива, друг мой! Сколько хорошего пива в трактирчике «Под карасём» мы перепили! Генрих, опусти оружие, всё ладно!
Последние слова по-немецки Пфальцман адресовал кучеру, который всё это время стоял за возом, направив на гостей широкий, с раструбом, ствол ружья. Между тем Лёдник с чисто научной заинтересованностью приблизился к конструкции, прикрытой полотнами, и заглянул в дырку, чем герр Пфальцман был очень недоволен и, похоже, если бы мог, не подпустил бы туда старого приятеля. На возу громоздилось какое-то непонятное железное приспособление, видимая часть которого и вправду выглядела как рёбра дракона
Лёдник хмыкнул и повернулся к Пфальцману, который попробовал спрятать свою тревогу:
— Машина-черепаха? Ты всё-таки сделал её, Якоб?
Пфальцман с покрасневшей физиономией бросился завешивать таинственную конструкцию.
— Прости, друг, но… В науке каждый сам за себя… Мне бы не хотелось раньше времени демонстрировать своё изобретение, которое далеко не каждый способен оценить.
Лёдник насмешливо покивал головой.
— Не бойся, Якоб. Я не собираюсь воровать твоё изобретение. Тем более мы же с тобой вместе видели его чертежи в записках Леонардо да Винчи.
— Там был эскиз! Набросок! Ничего конкретного! — обиделся Пфальцман. — О моём водяном двигателе твой Леонардо даже помыслить не мог!
— И мы с тобою говорили, что такое беспощадное оружие было бы слишком большим соблазном для тиранов, — твёрдо промолвил Лёдник.
— И позволило бы за один день завершить любую войну и тем сберечь жизни! — раздражённо возразил Пфальцман, видимо продолжая старый спор.
— А ести котёл взорвётся — а он наверняка взорвётся, если поработает минут двадцать, то первым сварится тот, кто будет сидеть в этом ящике.
— Я усовершенствовал двигатель! Он снаружи отделён от внутреннего помещения двойным стальным листом. Я сам ездил на этой машине, и ничего, жив! — рассвирепел Якоб.
— Но посреди лужи беларусского леса эта чудо-машина спасти своего создателя не может! — язвительно отметил Лёдник, и Пранцысь едва не толкнул слугу ногой — нашёл когда дискутировать. Лицо Пфальцмана пошло пятнами, так, что фрау Эльза, которая не понимала ни слова из разговора, начала очень неодобрительно посматривать на клювоносого пришельца, который обижал её гениального мужа.
Пфальцман снова выдал порцию ругательств по поводу дрянных дорог и дикарей-мужиков… Как понял из его слов Пранцысь, немецкий изобретатель вёз свою конструкцию князю Герониму Радзивиллу, который пообещал немалые деньги. Такие, что фрау Эльза, женщина практичная и не боязливая, не решилась отпускать мужа в дорогу одного. И ещё хотелось убежать из охваченной войной Саксонии. Однако путешествие с самого начала не заладилось. Приходилось проезжать кружными путями, обминая военные действия, а война — это же не панна, которую можно запереть в отдельной светлице. Громоздкий груз, который Пфальцман выдавал за декорации для театра пана Геронима Радзивилла, вызывал нездоровый интерес. В Варшаве один из помощников так заигрался в одном из известных игорных домов, что будто растворился в наполненом азартом и винными испарениями воздухе. Второй помощник от местной пищи заболел животом, пришлось покинуть его в Берестье. Не успели отъехать от Берестья — карета упала с моста так, что напоминала те ископаемые останки, которые остались от Ноева ковчега на горе Арарат. Кучер покалечился, хорошо, что сами Пфальцманы, пока их экипаж проедет опасный мост, мудро пережидали на берегу. Железную черепаху перетаскивали через реку двое суток, деревья валили, как сумасшедшие бобры. В Каменце Пфальцман едва добыл новую повозку, вот эту неуклюжую бричку с сенником вместо обтянутых зелёным сукном мягких сидений. Нанял и несколько местных мужиков. Те, однако, к немцу отнеслись подозрительно, когда отворачивался, крестились, к грузу на повозке притрагиваться боялись. Пришлось повысить плату. Но попал aus dem Staub in die Muhle kommen, из пыли в мельницу. Когда случилось несчастье с лужей и покрытие распахнулось, необразованные наёмники решили, что увидали самого дьявола в виде железного дракона и разбежались, бросив хозяина в самом бедственном положении.
— А каким образом рок послал сюда вас, и кто этот юноша? Не сын ли твой?
Пранцыся даже передёрнуло. Какое сходство можно узреть между ним и алхимиком? Следовало брать дело в свои руки, пока Лёдник не начал сенсационную исповедь, а то ещё в приступе самобичевания расскажет и о том, что его продали в рабство малобразованному школяру. Тогда не жди уважения, и соответственно, помощи.
— Только прошу пана Пфальцмана хранить услышанное в тайне! — интригующе начал Прантиш.
А из его рассказа выходило, что Прантиш — младший сын богатого и родовитого шляхтича, только не стоит произносить его имя вслух, потому что Прантиш семью свою разозлил, ввязавшись в авантюры.
— Амурные дела, понимаете? — доверчиво поглядывая голубыми глазами, говорил Вырвич.
Те амурные дела наносили обиду другой, ещё более родовитой семье, и юношу с разбитым от несчастливой любви сердцем пришлось отправить подальше от неприятностей, под присмотром его домашнего учителя, уважаемого доктора герра Лотмана — именно так теперь следовало называть Бутримуса Лёдника.
В этом месте рассказа Бутримус словно попытался проглотить что-то, застрявшее в горле. Но промолчал.
Естественно, отправили Прантиша («Можете называть меня Франц Магнус» — скромно предложил Вырвич, стараясь не смотреть на слугу) не голым-босым, были и гладкие кони, и сундуки с добром, и деньги… Вот только прошлым вечером на них с учителем коварно напали грабители, и всё отобрали, даже раздели, пришлось жертвам воспользоваться теми обносками, которые проклятые лотриги, с себя сняв, им бросили. При этих словах Прантиш потряс перед своими глазами поеденной молью шапкой, будто не верил, что мог надеть такую неприглядную вещь.
Но горстку денег сохранить от грабителей всё-таки удалось, так что Прантиш и его учитель будут очень благодарны, если пан Пфальцман за разумную плату поделится с ними одеждой… А они охотно помогут пану в его бедственном положении, приложат все силы, чтобы вытянуть повозку из лужи и доставить в Слуцк, ибо две сабли и пистолет в руках людей боевитых и смелых в дороге не лишние, а в дальнейшем и в демонстрации чудо-машины поспособствуют.
— Ибо поскольку меня отправили в свет за обучением, то я рад буду познакомиться с таким многознающим паном, как вы, герр Пфальцман, и понаблюдать за чудо-машиной… Только держите в тайне, кто мы — а то могут быть неприятности и для нас, и для вас. Можете меня представлять, как Франца, ассистента герра Лотмана.
Прантиш вложил в голос как можно больше проникновенности, и герр Пфальцман размяк. Он кратко перевёл рассказ Прантиша жене, и фрау Эльза даже всхлипнула, расчувствовавшись, ласково посмотрев немного выпуклыми светлыми глазами на голубоглазого благородного юношу, который попал в беду из-за пылкости чувств, которым, как известно, женщины с большим сердцем не сочувствовать не могут.
Лёдник, простите, герр Лотман, мудро промолчал.
Местный леший явно пришёл в хорошее настроение и прекратил чинить путникам гадости. Ветер Сутон продолжал нагонять тучи и плеваться холодной водой. Но Прантиш и Лёдник ехали в экипаже Пфальцманов. На обоих были немецкие костюмы, такие же, как на хозяине кареты. Двух дукатов, естественно, жаль, но торговаться не приходилось — Прантиш отлично чувствовал границу бережливости благодетелей, за которую переступать нельзя. По причине того, что все наёмники сбежали, Лёднику пришлось быть за кучера — так как усатый Генрих управлял повозкой с устрашающей железной черепахой.
Между тем Пфальцман забыл о неприятном случае и приобрёл вид до отвращения самодовольный. Он покровительственно посматривал на спину Лёдника, чья зависимость от его милости была ему, похоже, очень лестной, наконец пересел к бывшему приятелю и заговорил.
— И почему это, герр… Лотман, последние лет десять я о тебе ничего не слышал? — голос немца можно было мазать на булку вместо мёда. — Ты же таким светилом был… Трактат о солях написал, статьи в Лейпцигском научном журнале печатал. Профессор Гофман считал тебя новым Парацельсом. А ты, оказывается, в домашние учителя пошёл! Может, тоже что-то изобрёл за это время, но скромничаешь?
Лёдник хмуро покосился на бывшего однокурсника.
— Хвастаться мне нечем. На моей мельнице мололись только камни, а из них хлеба не испечёшь.
Коротышка Пфальцман от этих слов ещё больше раздулся и умудрялся посматривать на высокого собеседника сверху вниз. Пранцысю сделалось донельзя обидно — это же, собственно говоря, ставилось под сомнение ценность того, что принадлежало ему, Вырвичу! Чего этот Лёдник себя унижает! Он же, по мнению сведущих в алхимии, научный подвиг совершил, философский камень нашёл, алхимическое золото добыл, здесь как раз оценили бы!
— Бутрим, да покажи ему пузырёк! — толкнул слугу под локоть Вырвич. Но Лёдник, не выпуская вожжи из рук, только пронзил юношу тяжёлым взглядом и упрямо повторил:
— Мне нечем похвастать.
Прантиш даже зашипел от разочарования. Сам он ни мгновение бы не промедлил покрасоваться, если б было чем. Как можно допускать, чтобы кто-то, глупее тебя, над тобою возносился? Но Бутрима это, похоже, совсем не трогало. Так же спокойно он отказался составить звёздный прогноз пути, который их ждёт, чем несказанно Пфальцмана удивил — Пранцысь понял, что Лёдник в молодости считался мастером такого дела и предсказывал охотно.
С неба снова лил мерзкий дождь, который барабанил о кожаный навес повозки. Лёдник и Пфальцман начали вспоминать события прусской войны, во время которой обоим пришлось зашить немало ран и отрезать горы раздробленых конечностей. Фрау Эльза время от времени пробовала остановить кровавую беседу, но мужчины раззадорились, и Вырвич задремал под вдохновенный рассказ об интересных прецедентах вроде доставания пули из седьмого позвонка.
К вечеру пришлось снова вытаскивать повозку из колдобины. Потом фрау Эльза выделила всем по ломтю белого хлеба, куску ветчины и луковице, а Прантишу достался даже кусочек саксонского пряника на меду, который фрау берегла, чтобы время от времени вспоминать сладкий вкус родного дома. До ближайшего трактира было ещё часа два, так как двигались они из-за железной черепахи очень медленно, дорога была больше похожа на стиральную доску, и кони уставали. Вот и снова — очередной отдых.
Зато появилась возможность немного походить по лесу, размяться. Прантиш отошёл к молодым сосонкам и выхватил саблю: нельзя забрасывать благородное искусство фехтования! Выпад, выпад, взмах, отбить, проткнуть… Вырвич забыл всё на свете, представляя на месте сосонок, с которых так и летели срубленные веточки, бессильные против вырвичевской ловкости и силы. Вдруг при выпаде с разворота сабля Прантиша ударилась о металл… Лёдник влез со своею саблей! Покачал разочарованно головою, отступил шаг назад, отсалютовал оружием, как делается перед каждым поединком, и по-учительски скомандовал:
— В позицию!
Этот докторишка что — решил испытать боевые навыки шляхтича? Ну, сейчас получишь!
Пранцысь бросился на Лёдника, надеясь сбить с него спесь… Но как-то быстро остался без сабли. Выбитая из руки каким-то неизвестным образом, она воткнулась во влажную почву рядом с норкой лесной мыши.
Лёдник занудным голосом объяснял Пранцысю его ошибки, и насчёт позиции, и насчёт внимания, и как правильно отбивать удар… Вырвич уже ничего не слышал, только шум собственной крови… Схватил саблю — и на доктора… Да что же это такое!
Запыхавшийся Вырвич, с потными кудрями, прилипшими ко лбу, хрипло дышал и смотрел на свою саблю, которая снова лежала на земле. Лёдник спрятал оружие в ножны, подошёл к юноше и взял за плечи:
— Посмотри на меня. Слышишь? Вдохни и задержи дыхание! Так! Теперь выдохни… Ещё раз… Постарайся успокоиться. Cave canem, бойся собаки, как говорили римляне, и особенно собственного гнева.
Прантиш с досадой стряхнул с себя руки слуги. Хотелось плакать, но слёзы были бы срамом. Ещё хотелось отлупить паршивого доктора, так, чтобы в ногах валялся, падаль. А тот стоял перед паном, скрестив руки на груди, серьёзный профессор на экзамене.
— Я вижу в тебе два разных темперамента, которые, видимо, достались в наследство по родовым линиям и вступают в конфликт. С одной стороны — ты жизнерадостный, способный к сочувствию, прозрачный и быстрый, как вода в ручье. С другой — в твоей крови слишком много огня, если ты взволнован, оскорблён, огонь вспыхивает, кровь бежит быстрее, и ты теряешь над собой власть, делаешься жестоким.
Это качество усилится, если начнёшь употреблять алкоголь. Плохо, что в моменты преимущества второго, холерического темперамента ты ничего не слышишь, не воспринимаешь… Когда размахивал саблей, я легко подошёл к тебе со спины.
Ты должен учиться владеть собой!
— А ты меня и научишь, значит? — раздражённо промолвил Пранцысь. — А я, между прочим, не позволял тебе скрестить со мной оружие! Это ты что, отомстить захотел за прошлое, когда я саблю тебе к горлу приставил?
Лёдник растерялся, даже покраснел.
— Как тебе в голову такое пришло? — сердито сказал он. — Я сам всю жизнь руководствовался тем, что если есть чему и у кого научиться, нужно не упускать такую возможность! И если можешь поделиться знаниями, нужно это делать. Но, видимо, некоторые благородные лица имеют устойчивое отвращение к науке…
Лёдник обиженно отвернулся. Пранцысь несколько раз в соответствии с советом доктора глубоко вдохнул. Два темперамента… Огонь и вода… Что же, лучше, чем чёрная желчь или флегма.
— А где ты так фехтовать научился?
— В Лейпциге, — неохотно ответил доктор. — В университете каждый бурш должен участвовать в студенческих дуэлях — на саблях, с морем крови… Специально ставят новичка против самых сильных — чтобы испытать, сможет ли стерпеть раны, не оплошает ли. Хочешь выжить — учись драться и терпеть. А я в каждой науке жаждал дойти до вершин. А потом… всякие школы были. На войне и доктор должен уметь защититься.
Прантиш помолчал, ещё раз вздохнул:
— Эй, доктор, покажи приёмчик… Когда ты последний раз у меня саблю выбил.
Лёдник, выдержав мгновение гордости, молча повернулся. Испытующе посмотрел на хозяина, молниеносно выхватил саблю.
— В позицию!
Теперь Прантиш был уверен, что каждую свободную минуту нахождения рядом с доктором тот будет использовать, чтобы напрягать или мозги молодого хозяина, или его физическое тело…
Единственная спасительная мысль — зато этот учитель при всей своей суровости ни дисциплиной не отхлещет, ни в карцер не посадит. А вот Пранцысь его может отлупить! И тот ничего не сделает и не убежит, мураш бескрылый.
Путь тянулся страшно медленно — пешком, возможно, дошли бы быстрее. Зато хватало времени на размышления. Помогать Пфальцманам — это очень хороший, и возможно единственный шанс попасть в Слуцкий замок. Но нужно же и найти Александра Сапегу! А тот, как утверждали слухи, остановился со своим войском на подходе к городу, в здании кавалергардии. В город его не пускают, но и прогнать не могут: вооружённое перемирие, он с Радзивиллом всё равно как две щуки, застыли над маленькой полуживой рыбкой, зная, что когда начнут драться за добычу, друг друга сожрут, всё озеро взбаламутят, а рыбка, глядишь — и выскользнет.
Прантиш сидел рядом со своим слугой на козлах брички, весело болтая ногами в немецких ботинках и неуместных белых чулках, которые сделались пятнистыми, как лемпард. Пфальцманы дремали сзади на сеннике, воз с железной черепахой тащился за бричкой, как грехи за грешником. Лёдник уверенно управлял лошадьми и учил Пранцыся произносить без акцента немецкие фразы.
Последние ёлочки растворились в сумерках, замелькали хаты… Впереди горели тусклые огни в окнах каменных домов…
— Стой! Кто такие?
Дорогу перегородили люди в амарантовых жупанах королевских войск, освещая путников факелами. Пранцысь надвинул шляпу как можно ниже, затошнило, как перед экзаменами. Неужели снова? Лёдник тоже опустил голову.
Якоб Пфальцман вылез вперёд.
— Я доктор Якоб Пфальцман из Лейпцига! Везу декорации и пиротехнические устройства для театра светлейшего князя Геронима Радзивилла!
— А, Геронима Радзивилла? А не являются ли эти декорации только, так сказать, декорациями? — язвительно откликнулся высокий улан. — Может, вы помогаете пану Радзивиллу готовить восстание против нашего законного короля? Покажите, что везёте!
— По какому праву? — возмутился герр Пфальцман, который привык, что имя Радзивиллов вызывает у встречных обычно благоговейный ужас.
— По приказу генерал-майора Александра Сапеги! — ответил улан, и Прантиш вскинулся: вот так шанс!
— А где сейчас светлейший пан Сапега?
— А тебе что за дело, немчик? — презрительно бросил улан, и палаш из ножен немного выдвинул, чтобы попугать сорванца. Пранцысь же забыл, в каком он сейчас виде. Но лишаться шанса встретиться с Сапегой было невозможно. Вырвич соскочил с брички, приблизился к улану и начал объяснять о тайном и срочном послании.
— Недавно к пану Сапеге приехал молодой казак, весь оброслый… Пришлось его побрить, чтобы прочитать на его черепушке написаное квасцами послание. У тебя тоже нечто подобное? — насмешливо поинтересовался улан. — Ты же понимаешь, что если ветром торгуешь, наши сабли быстро проветрят твои внутренности.
Прантиш положил руку на своё оружие:
— Слово шляхтича! Если немедленно проводите меня и моего доктора к князю Сапеге, генерал только рад будет.
А за его спиной уже дышал Лёдник, готовый защищать молодого хозяина. Пфальцман утирал носовым платком взмокревший лоб, сообразив, что попал в руки врагов своего клиента, не менее влиятельных, чем тот, а рядом громоздилась закутанная полотнами железная черепаха.
ГЛАВА Шестая
Кощеи Слуцкого замка
| Д |
ля людей слишком суетливых, которые хватаются, как младенец за погремушку, сразу за несколько дел, мыслители прошлого советовали разводить в доме траву ленец, или каменеломку, которая приводит жидкости тела к гармонии и успокаивает. Вокруг князя Александра Сапеги ленцу с его нежными белыми да лиловыми цветами следовало прорасти через все стены. Может тогда этот низкорослый, щуплый человечек с большим носом и близко посаженными глазами, в несуразно большом парике и парчовом жюстокоре с сугробами брабантских кружев присел бы хоть на минуту да остановился бы на одном из многочисленных своих планов. На портретах Сапега выглядел как молодой античный бог с покровительственным взглядом. Но теперь Прантиш даже не ревновал очаровательную Полонейку, от которой передал князю письмо с идеально восстановленой печатью. Конечно, если нужно идти к алтарю, даже самый плюгавый магнат покажется практичным дамам красивей самого пригожего да сильного шляхтича-посконника, но тем же плюгавцам потом и рога охотно наставляют с пригожими да сильными. А вспомнить ещё о Сапеговой женушке, которая ублажала сына королевского амарата…
Сапега раздражённо бросил письмо от Багинских на столик с серебряным прибором для кофе.
— Легко сказать — «с помощью Девы»! А как до той девы добраться, я что, должен штурмовать Слуцкий замок? Хватит, отец навоевался, едва половину имений не потеряли! — кричал Сапега, намекая на недавнюю внутреннюю войну, когда магнаты объединились против рода Сапегов, который слишком набирал мощи. — А эта лысая паскуда Радзивилл чихал даже на Трибунал!
На обоях с золотыми цветами скользили странные тени, порождённые пробеганием князя перед канделябрами. Лёдник почтительно кашлянул, чтобы привлечь внимание хозяина.
— Могу я молвить слово к ясновельможному пану? Возможно стоит изменить тактику, per fas ac nefas? Можно попробовать проникнуть в замок тайно, в чужом облике.
Сапега злобно взглянул на Лёдника. Доктор выглядел, как должно: аккуратный белый парик, также выкупленный у Пфальцмана, немецкая одежда, шляпа, перевязаная чистой шёлковой белой лентой, сабля… Даже лицо согласно светским обычаям доктор напудрил и румяна наложил, от чего вид у него был спесивый до невозможного. Знал бы князь, что этот важный учёный муж всего только пожизненный бесправный слуга молодого шляхтича Вырвича, на которого Сапега не обращал никакого внимания… От этой мысли Прантиш выше задрал подбородок и пожалел, что у него ещё не растут усы.
Сапега остановил взгляд серых глаз на докторе.
— Вы что, герр Лотман, думаете, у меня в слуцком замке шпиков нет? Да здесь вся земля нашпигована шпиками, как окорок — чесноком. Шпики здесь, шпики там, двойные, тройные… И наконец всё упирается в то, кто кого первый продаст и купит. Мне донесли, что панна Соломея Ренич, которую, как вы утверждаете, хорошо знаете, жива. Но где её держит князь — никто не догадывается.
Лёдник не сдержал вздоха облегчения, а Сапега только махнул рукой.
— Но можно ли этому верить? И в любом случае её стерегут так, что подобраться невозможно.
Лёдник сжал губы.
— Но я смогу! Радзивилл мне поверит. Я теперь — немец, который приехал вместе с Пфальцманом демонстрировать новое мощное оружие, я — известный доктор, это подтвердит тот же Пфальцман… Мои услуги могут понадобиться всем, даже князю Герониму.
Сапега отбежал в другой угол комнаты и начал взлохмачивать свой парик, раздумывая. Вырвич воспользовался моментом, чтобы выяснить отношения со слугой.
— Что значит — «я смогу»? А я?
— Твоя миссия окончена! — Лёдник был суров, как ветер в феврале. — Письмо передал, дукаты получил… Всё! Это моё личное дело! Нет никакой надобности рисковать жизнью благородного шляхтича ради бедной мещанки…
— А я не позволяю тебе отправляться без меня! — внятно шепнул Прантиш, достав на минуту из кармана сложенную бумагу о покупке алхимика.
— Глупый мальчишка! — прошипел Лёдник, его лицо даже пятнами пошло. — Останешься здесь!
— А не тебе приказывать! Вот я — захочу и совсем никуда тебя не отпущу! — с удовольствием прошипел в ответ Прантиш, который ни за что не хотел упускать возможности поучаствовать в опасном и интересном приключении. — Тебе же нельзя соваться в замок, кто-нибудь может узнать даже в немецком костюме.
— Моя жизнь ничего не стоит! — доктор от злобы едва не плевался желчью.
— Ну как же, стоит! — многозначно промолвил Прантиш, намекая на свой шелег. Алхимик наконец заткнулся, злобно посматривая на школяра. Сапега вернулся к столу, не обратив внимания на разъярённое перешёптывание гостей.
— Может быть, и стоит взяться за чапельник, если меч сломан… Но тогда я должен отпустить к Радзивиллу машину, которую вы называете смертоносным оружием! А он неизвестно что с ней наделает! — Сапега отхлебнул из серебряного кубка кофе. Тот, очевидно, совсем остыл, потому что князь скривился и выплюнул его назад, но слугу звать не стал, не желая лишних ушей.
— Ваша княжеская милость, насколько я смог рассмотреть, эта машина слишком медленная и неповоротливая, — напряжённым голосом заговорил Лёдник. — Эффектности в ней больше, чем реальной пользы. Новый водяной двигатель — вещь ненадёжная, такие во время экспериментов часто взрывались. Скорость такой машины будет не быстрее чем три версты в час, человека не обгонит. К тому же на своём топливе проедет не более полверсты. Она будет пугать, но не убивать армии.
— Что же… — Сапега снова забегал туда-сюда, трогая руками то посуду на столе, то канделябры, то собственный нос. — На такой риск можно было бы пойти, если бы я был уверен, что вам удастся привести ко мне дочь полоцкого книгаря живой…
— Я освобожу её, или умру сам! — заверил Лёдник таким тоном, что сомнения возникало не больше, чем в намерениях пули, которая летит к твоему лбу.
— И приведешь сюда!
— Но только при одном условии, простите мою дерзость, ваша милость…
— Каком условии? — нахмурился Сапега.
— Если вы дадите своё шляхетское слово, что в ваших руках панне Соломее ничего не угрожает, что она не станет пленницей и вы не вынудите её ни к чему против её воли!
Лёдник почтительно склонился, но было понятно, что не отступит.
— Слово Александра Сапеги — я ничем не обижу девицу.
Прантиш заметил, что князь немного скривился, что означало — давать слово ему не с руки, и задал вопрос, который возник сам собой:
— Ваша княжеская милость, но мы лучшим образом выполним свою миссию, если будем знать: что в действительности нужно высоким панам от Соломеи Ренич? Ну не защитить же права полоцкой мещанки? Ваша милость, вы можете нам доверять, ибо мы уже рисковали своей жизнью, вызвав гнев Радзивилла, и в дальнейшем нас ждёт смертельная игра.
Прантиш знал, что против его доверчивого тона и умоляющего взгляда честных голубых глаз не устоит никто. Сапега скользнул глазами по гостям, оббежал помещение, заглянув под портьеры, даже выглянул за дверь… Приблизился к Лёднику и Вырвичу вплотную, у Пранцыся от резкого запаха модных духов с мускусом и лавандой защекотало в носу, заговорил шёпотом.
— Когда я стал воеводой полоцким и впервые приехал в город, мне рассказали о его чудесах… И о подземельях. Многие пробовали там искать — библиотеку Софийского собора, клады… Папа римский Георгий, Иван Грозный, иезуиты обшарили всё, что могли. Признаюсь, пробовал и я посылать людей в подземелья. Но далеко ни разу не прошли, то вода, то завалы. А однажды полезли в ход да четверо от плохого воздуха задохнулись. И мне посоветовали обратиться к местному купцу Ивану Реничу, который любит по этим подземельям лазать. Но этот мошенник не признался, нашёл ли что-нибудь.
Лёдник шумно выдохнул, но сдержал гнев за такой неуважительный отзыв о его наставнике.
— Нужно было этого купчину не выпускать из-под надзора… — с досадой отметил Сапега. — Но он показался мне таким чудаком! А тут начался мор, и только как все утихло, и Иван Ренич умер, мне доложили, что, похоже, он нашёл вход в хранилище. А там не только библиотека Софийского собора, но и одна… реликвия… Иначе Мартин Радзивилл к нему лично не приезжал бы.
— А что за реликвия, ваша милость? — поинтересовался Вырвич. — И у кого она сейчас?
Сапега поколебался, но продолжил шептать, только ещё более тихо.
— О подскарбии Александре Солтане слышали?
— Это который триста лет назад стал рыцарем Гроба Господня? — уточнил Лёдник.
— Да, он самый… — Сапега снова тронул себя за нос. — Солтан явился к Папе с жалобой, что в Великом княжестве Литовском угнетают православных. И папа дал ему поручение… взамен которого обещал поддержку. Привезти из Иерусалима одну святыню… Она попала туда из Чехии. Когда Сигизмунд Люксембург воевал с воинами Гуса, спасая самые великие реликвии Праги от еретиков, спрятал их на двух телегах с рыбой и отправил в Нюрнберг. Но по дороге телеги перехватили, и самая великая святыня была забрана. Говорят, это сделали пражские розенкрейцеры и передали забранное в Иерусалим, в Храм Гроба Господня.
— Розенкрейцерам, которых никто толком не видел, приписывают самые невероятные поступки, — заметил Лёдник. — Я бы не всему верил, Ваша милость. Я жил в Праге, бывал в Нюрнберге, слышал о двух телегах с рыбой… Но о похищении реликвии — ничего.
— И не должен был слышать, — чуть раздражённо объяснил Сапега. — Чтобы не делать шума, похищенное поменили подделкой. И теперь Папа хотел настоящую реликвию вернуть себе. Но Александр Солтан, побывав в Иерусалиме, в Рим не вернулся. Поехал в Португалию, Францию, Англию… А когда вернулся на Родину, католики его с амвонов в Вильне собакой обзывали. И никакой грамоты от Папы у него не было о покровительстве. Зато в Полоцкой Софии за здоровье Солтана начали каждый день служить молебны. Значит, туда святыню передал, надеясь защитить братьев по вере, а монахи её спрятали в подземельях.
— Так что это за святыня, ваша княжеская милость? — нетерпеливо прошептал Пранцысь.
Сапега отвёл глаза.
— Она долго переходила из рук в руки, являясь частью императорских регалий. Император Константин, Оттон Великий, Карл Великий, Барбаросса… Все с ней в руках короновались. Короче, владелец этой реликвии — властелин над властелинами! — голос Сапеги даже возвысился и сорвался на дискант от восхищения. — Если бы кто из Речи Посполитой её заимел! Тогда и Багинские, и Чарторыйские, и Пацы — все соберутся под его стяг!
Сапега явно мнил на месте счастливца себя.
— Рамфея! — выдохнул поражённый Лёдник догадку, и Сапега бросил на слишком сведущего доктора предостерегающий взгляд.
— Не важно… Главное, Иван Ренич знал, где она находится. И себе её точно не забрал. Но только избранный человек может пойти в подземелья, и такой человек может привести своего преемника только добровольно, после соответствующих испытаний. Потому Мартин Радзивилл и уговаривал Ренича по-хорошему… Но когда тот умер, хранительницей полоцкой тайны стала его дочь.
— Почему вы так в этом уверены? Она сама призналась? — напряжённо спросил Лёдник. Сапега выпрямился, видимо, совсем заскучав от вынужденного пребывания в одной позе, и снова забегал по комнате, заговорив в полный голос.
— Призналась, не призналась — больше некому! Между хранителями должно быть либо кровное, либо духовное единство. Поэтому и панна пока живая, и, наверное, здоровая. Теперь Героним Радзивилл надеется стать хранителем… и властелином реликвии. А этого допустить нельзя!
Сапега наконец остановился, в своём взбитом тучкой парике похожий на ушастого краснолюдка-гнома.
— Решено — отправляетесь с Пфальцманами! Постарайтесь войти к Герониму в доверие, хоть это практически невозможно. В замке можете рассчитывать на директора театра Пуччини. Радзивилл его жену вынудил вместе с другими актрисами изображть мраморные статуи богинь во время бала. Бедняга не выдержала бесчестья и умерла. Впрочем, все слуги, прислужники и придворные своего пана ненавидят люто, — ухмыльнулся Сапега. — Но все запуганы до мышиного писка. И ещё один человек вам пригодится… Пойти с вами не сможет — там его хорошо знают, но чтобы достать пана Геронима, жизни не пожалеет.
Сапега высунулся из двери и окликнул:
— Игнась!
Через минуту в кабинет вошёл высокий дюжий шляхтич в сарматском костюме, с пышными светлыми усами и длинным чубом. Глаза шляхтича смотрели уверенно, как у опытного воина.
— Знакомьтесь, пан Игнась Менчинский! Брат последней жены князя Геронима. Когда приехал заступаться за сестру, князь отправил его назад в карете на овальных колёсах. Так?
— Так! — сквозь стиснутые зубы ответил шляхтич, и его глаза — даже в тусклом свете свечей это было видно — заполыхали огнём ненависти за пережитый позор.
— Сестра пана Менчинского сейчас в безопасности, у родителей, потому пан Игнась ничем не связан. И поможет вам, если что, со своими жолнерами…
Лицо пана Менчинского даже засветилось от предчувствия мести — было понятно, что полетит за врагом, если дать сигнал, как выжлец за кабаном… Прантиш искренно позавидовал усам пана Игнася. А ещё обидно сделалось при мысли, что Лёдник, как всегда, понимает в услышанном намного больше своего хозяина.
Во мраке и дожде огни факелов казались размытыми пятнами. Пфальцманы были счастливы и переполнены благодарностью — так как убеждены, что только благодаря связям благородного юноши их отпустили. Фрау Эльза гладила Прантиша по непослушным вихрам с настоящей материнской лаской, видимо прикидывая, что могла бы иметь такого ладного сына. Можно было надеяться, что настоящих имён своих коллег они не выдадут. Ждать, пока рассветёт, никто не стал. И через час железная черепаха закатилась в ворота слуцкого замка.
Лёдника и Прантиша, простите, герра Лотмана и его ассистента Франца Магнуса поселили в помещении малого дворца Нижнего замка, рядом с Пфальцманами. Не в самой шикарной комнате, но там всё-таки имелась большая кровать на саксонский манер, которую Лёдник, как положено слуге, уступил Пранцысю, а сам, поджав длинные ноги, улёгся на оттоманке у камина.
Будто бы уютно… Сухо, тепло… Лучше, чем дома в Подневодье, где Пранцысь и отец спали на твёрдых скамьях. А отец часто ещё, ради воспитания шляхетского духа, будил сына с первыми петухами, а то и среди ночи выстрелом в потолок, так что оный потолок напоминал решето. И камин здесь недавно топили. Но школяру казалось, что он лежит не на перине, а на тонком льду, который вот-вот может растаять, и провалишься в знаменитые подвалы-пыточные. Даже в ночной тиши мерещились призрачные крики. Пранцысь, борясь с ночной дрёмой, еле дождался, пока Лёдник пробормочет положенные вечерние молитвы, вымолвит «Аминь» и уляжется, и спросил:
— А что такое рамфея? Из-за чего весь этот вавилонский базар?
Лёдник нетерпеливо крутнулся на оттоманке:
— Копьё. Копьё святого Маврикия. Некоторые считают, что это именно то оружие, которым сотник Лонгин на Голгофе проткнул бок Господа нашего Иисуса Христа, когда тот умирал на кресте. Но скорее всего оно принадлежало святому Маврикию из христианского римского легиона, уничтоженного по приказу императора. Согласно легенде, достойный владения этой святыней человек приобретёт особенную мудрость и Божественное покровительство.
Где-то завыла собака, потом захлебнулась, завизжала, будто её сильно хлестнули, и наконец умолкла. Пранцысь помолчал, подумал:
— А как целое копьё можно было прятать, туда-сюда возить?
— Речь идёт всего только о наконечнике! Составленный из двух половин и гвоздя от креста Господня, обмотанный по приказу Оттона Первого серебряной проволокой. Всё? Я могу наконец уснуть, мой пан? — ядом в голосе доктора можно было убить всех крыс слуцкого замка. Но Вырвич уже привык к шипению и крикам своего слуги, и заговорил снова:
— Доктор, а, доктор! А ты не думаешь, что, хоть Сапега и дал слово, когда мы передадим Соломею в их руки, получится из печи да на сковороду? От неё же всё равно будут требовать выдать тайну…
На этот раз Лёдник не выругался и ответил, помолчав, холодным, как клинок, голосом:
— Думаю. Мои мозги так уж устроены, что не могут не думать. Но сначала нужно решить одну проблему, а потом браться за следующую.
Снова помолчал и молвил, теперь уже совсем мрачно:
— И если вы сейчас же, хозяин, не умолкнете и не дадите мне воспользоваться возможностью может последний раз в жизни нормально выспаться, я не посмотрю на все тонкости отношений сюзерен-раб, и выдеру вас по тому самому месту, которое вы не однажды, наверное, подставляли вашим бедным учителям.
У Прантиша не нашлось сил на возмущение дерзостью слуги, глаза слиплись, будто их склеили смолой Ночницы, и школяр провалился в сон.
Снились ему бесконечные анфилады пустых комнат со шпалерами в золотые цветы, плыло по паркету широченное платье-роговка панны Полонейки, расшитое жемчугами. Дочь воеводы серебристо смеялась, всё время то приближаясь, то отдаляясь от Пранцыся, который пытался ухватить хоть за полу её платья. А когда ему наконец удалось взяться за край невесомой голубой ткани, с неё посыпались жемчуга… И с мелким стуком сыпались, сыпались, всё быстрее, сливаясь с хохотом панны, и наконец Пранцысь с ужасом заметил, что вся панна рассыпается на мелкие жемчужинки, её фигура утончается, тает… И наконец на полу остались лежать ровным слоем только жемчужины, а смех панны всё звучал, звучал… И жемчуга всё прибавлялось… Его насыпалось столько, что шуршащие сугробы поднялись по колено Пранцысю, выше, выше… Вырвич уже не мог идти, разгребал непослушные жемчуговые сугробы руками… А Багинская всё смеялась… Громче… Громче…
Пранцысь проснулся от карканья ворон. Похоже, эти птицы будут преследовать его теперь по жизни. Есть же такое поверье, будто каждому человеку соответствует не только темперамент, определённый повышенным содержанием в организме какой-то жидкости — воды, крови, флегмы или желчи, — но и какое-то животное, растение, минерал, цвет, цифра… По всему выходит, что Пранцысева птица — не орёл, не голубь, и не ласточка, а ворона… Вот же позор, только бы кто-нибудь не узнал.
Лёдник брился перед трюмо из чёрного дерева, наклонившись над медным тазиком. Он что-то проворчал, похожее на «наконец васпан сделал одолжение встать» и продолжал плодотворное занятие. Пранцысь с разочарованием провёл ладонью по своему гладкому подбородку, будто надеялся, что за ночь на нём начнёт расти борода. Сполз с кровати, мимоходом отметив, что мелких кровососов, которые так портят ночлег даже во дворце, здесь почти не было, будто даже блохи и клопы чувствовали себя в этих стенах неуютно… Приблизился к небольшому, закругленному вверху окну, за которым слышалось карканье. В окно были вставлены стёкла, а не какая-нибудь промасленая бумага или бычий пузырь… И через это стекло парень увидел привязанные к столбам не совсем свежие трупы.
Ясно, что умершие отошли смертью насильственной и мучительной, по воле князя. По остаткам одежды можно было понять, что это не крестьяне. Ворона уселась на череп с прядями седых волос… Пранцысь отвернулся. Лёдник бросил острый взгляд на его побледневшее лицо, ополоснул руки в тазике, аккуратно вытер полотенцем — каждый палец отдельно, как, наверное, приучился за время лекарской практики.
— Значит так, юноша. Игры закончились. Теперь мы танцуем со смертью. Князю Герониму в глаза не смотреть, кланяться как можно ниже и чаще, не переломишься, на колени падать тоже не стыдись. Не забывай: ты — немец. Тупой немецкий недоученный студент, бурш, который ни слова поздешнему не понимает. Поскольку при дворе, и особенно в гарнизоне, на немецком языке говорят почти все, если придётся открыть рот, фразы повторяй только те, которые мы с тобой выучили. Если что, я сам всё за тебя скажу. Ясно?
Пранцысь смотрел на суровое лицо Лёдника и чувствовал, как по спине побежал холодный озноб. Вдруг в замковом дворе что-то залопотало, застучало… Наступало время железной черепахи.
Вырвичу не пришлось долго гадать, почему Лёдник так серьёзно поучал его поведению с хозяином этого замка. Проще было угодить истеричной панне, которая одновременно требует закрыть окно, так как дует, и свежего воздуха, так как душно. Тяжело было удержаться и от опасного выражения лица при взгляде на князя. Ибо ему действительно более всего подходило название «дикий», как говорили о нём те, кто от него не зависел. Князь Героним был в сарматском костюме: тёмно-синий кунтуш с золотыми шнурами, кармазиновый сурдут с диамантовыми гузами, подпоясанный шикарным литым поясом, такие ткали тут же, на знаменитой слуцкой персиарне, соболиная шапка с огромным диамантом. Саблякарабела переливалась яхонтами и смарагдами. На бледной с желтизной коже нелепо выглядели чёрные густые брови и чёрные глаза, которые блестели, как у сумасшедшего. Нервные ноздри раздувались, будто князь всё время ждал нападения — хотя скорее всего именно так и было. Длинные чёрные с сединой усы прятали узкие губы. Зрелище ещё больше дичало, когда князь снимал шапку, поскольку голова его была совсем лысая, блестящий череп напоминал острый конец яйца. К этому ещё можно прибавить, что всё княжеское лицо покрывали морщины, как пустой кошель, при этом князь был щуплый, но с большим животом, свисающим над поясом, плечи приподняты, как у волка, что собирается прыгнуть на свою жертву… Он напоминал древнего Кощея, людоедское языческое божество пущи.
Пранцысь, потирая натруженные за утро вознёй с железным нутром немецкой машины руки, скромно стоял за спиной Пфальцмана, который восторженно объяснял на смеси немецкого, польского и беларусского назначение особых деталей железной черепахи, блестевшей во всей красе посреди двора и действительно способной вызвать восхищение и испуг. Эдакий железный скелет дракона с колёсами и рычагами внутри и поднятым «задом» — котлом и цилиндром двигателя. Не зря Лёдник и Пранцысь сегодня хлопотали, помогая немцу подготовить машину к демонстрации.
— Хочу п-посмотреть, как она р-работает! — заикаясь, высоким бабьим голосом затребовал князь.
— Как прикажет ваша милость! — раскланялся Пфальцман. — Только пусть принесут порох и ядра для орудия!
Пранцысь заметил, что Лёдник снова помрачнел: так было, когда всезнающий доктор утром смекнул, что предварительно не заметил вооружённости черепахи, на которую могли устанавливаться маленькие пушки. Теперь, ясно, упрекал себя, что не дооценил изобретения однокурсника.
Как договаривались, в черепаху залезли Лёдник и Пфальцман, раздевшись до рубашек. Пранцысеву слуге досталась самая неблагодарная часть работы: он должен был поддерживать огонь в котле, нагревающем большущую металлическую колбу с водой, откуда пар шёл в цилиндр. Всё действительно делалось очень медленно. Пока уголь разгорелся, закипела в колбе вода… Пока давление пара сделалось достаточным, сдвинулись с места шатуны, стронулись колёса и колёсики… Пфальцман рванул на себя рычаги, и металлические щиты черепахи сомкнулись, так что машина вместе с двигателем оказались под блестящим панцирем с узкими щелями для наблюдения, вентиляции и стрельбы из пистолетов. У машины было множество маленьких колёс на подвижных осях, что, как предполагалось, сделает её невероятно устойчивой и позволит преодолевать препятствия. Из «головы» черепахи валил чёрный дым, она свистела, шипела, гудела… Колёса с лязгом сдвинулись, а поскольку на каждом из них была сделана блестящая металлическая нашлёпка, казалось, что чудовище перебирает лапами, как огромная сороконожка.
— Пошёл! Пошёл! Дракон пошёл! — испуганно зашептались вокруг. Шаг, второй… Пахолки и пахолики, гайдуки и паюки, венгрики и гусары, машталеры и турчата, которые собрались во дворе, начали отходить, креститься, некоторые сделали то же, что и каменецкие мужики, которые сбежали от Пфальцмана. Женщины и дети визжали… Казалось, железное чудище не сдержат никакие стены. Потом черепаха застыла, из её «морды» высунулась маленькая короткая пушка, нацелилась на восточную стену…
— С-стреляй! Вали! — возбуждённо кричал Героним Радзивилл, притопывая ногой. Пушка выплюнула ядро… Стена выдержала удар, хотя в ней оказалась заметная пробоина. Последняя челядь с криком рассыпалась по сторонам, двор опустел.
— С-слабо! Мало! — кричал князь. Металлическая пластина отошла, в отверстие высунулось потное, покрасневшее лицо Пфальцмана.
— Ваша милость, эта машина может быть вооружена двенадцатью такими орудиями по всему периметру, которые смогут при помощи специальных устройств стрелять одновременно, нанося врагу огромный вред!
— Ну так и установи их! — успокоился пан Героним, заинтересованно осматривая новое оружие. — В Слуцке лучшие людвисарни края! Будешь здесь жить, пока всё не доведешь до совершенства.
Над замковым двором кружили испуганные вороны.
— Пфальцман не знает, во что ввязался, — тихо проговорил тоже раскрасневшийся от пребывания в адской машине Лёдник Пранцысю на ухо, когда они шли во дворец, отстав от остальных. — Мне здесь рассказали, как князь выписал швейцарца, который должен был поставить ему в Слуцке конный памятник. Но пан Героним так замучил мастера советами и контролем, к тому же приставил к нему специальных людей, чтобы не позволяли употреблять вино, что мастер сбежал. А на прощание оставил хозяину писульку, в которой высказал, что тот не имеет никакого представления ни о литейном деле, ни об архитектуре. Князь едва желчью не захлебнулся от злости. Так что теперь навряд ли Пфальцману удастся убежать.
Доктор помолчал, пока Прантиш тихо смеялся, и добавил:
— А машина всё-таки медленная и неповоротливая. Идею водяного двигателя мы с Якобом вместе обсуждали — теперь с ней носится молодой Кюньё. Тот мечтает передвигать французскую артиллерию с помощью паровых машин, а Пфальцман объединил всё в одном: орудия, двигатель и оборонительные сооружения. — Лёдник вздохнул даже немного завистливо, и Пранцысь понял, что алхимик всё-таки отдаёт должное изобретательскому таланту однокурсника.— Но с такой малой скоростью и короткой дистанцией — ну сколько того угля можно с собою в машину прихватить? — она пока что не очень удобная. И слава Богу. — И углубился в привычные любомудрия: – Знаешь, я думаю, Леонардо да Винчи не мог осуществить ни одно из своих изобретений ещё и потому, что тогда у военных существовал кодекс чести: позорным считалось бы завоевать победу вот таким приспособлением, а не хитрой стратегией и мужеством воинов. Хотя, может, я их идеализирую, и они просто были недоучками, как наш Август — Пфальцман же ему сначала проект посылал, но король даже не ответил. Зато о машине узнал князь Героним…
Немецкие учёные были удостоены чести обедать в Большом дворце, который также находился в Нижнем замке и был перестроен из того, который возводила ещё бывшая хозяйка Слуцка Анастасия Алелькович. За обеденным столом едва ли не тех времён, из дубовых досок толщиною в руку не самого
хилого человека, размещалось согласно сарматскому обычаю человек сто. Сколько было выпито под этими высокими сводами, сколько виватов звучало, сколько бравых шляхтичей просто из-за стола отправлялись на двубой! А потом, если могли это сделать, возвращались в зал, чтобы выпить мировую… Или тот, кто выжил, пил отходную за почившего. Сколько старинных воярских песен проревели здесь лужёные глотки!
Но такого магнатского застолья, которое устраивал Героним Радзивилл сейчас, больше нигде нельзя было увидеть. Здесь господствовала тишина — иголка упадёт, услышишь. После того, как хозяин уселся за отдельный столик и за его спиной стал пахолок, в чью обязанность входило пробовать каждое блюдо и питьё, подававшиеся князю, и гайдук, который по обычаю держал панский палаш, заиграла чудесная музыка. Заскользили за спинами гостей слуги в голубых переливистых жупанах с золотыми пуговицами, за пояс каждого были засунуты лосиные рукавицы. Но громко разговаривать осмеливался только тот, к тому князь обращался. Остальные время от времени только перешептывались, стараясь не накликать подозрение хозяина. Пили из драгоценных хрустальных кубков с золотыми напайками в виде зверей так, чтобы не опьянеть — Радзивилл Жестокий очень не любил пьяных. И это в то время, когда пристойным считалось, чтобы гости, нацеловавшись с кубком, валились под стол. Никто не произносил витиеватых тостов, не пили из туфельки прекрасной дамы… Да и дам за столом совсем не было — Героним Радзивилл их тоже не любил, точнее, презирал и остерегался «крашеных лисиц». Только статуи белых античных богинь украшали помещение, а между статуй так же неподвижно стояли гранд-мушкетёры князя Геронима, в синих мундирах с белыми отворотами, в шляпах с перьями, со шпагами, на ножнах которых блестели драгоценные камни… Прантиш вспомнил рассказы о крепостных актрисах, которых вынуждали изображать статуи, присмотрелся… И действительно, мраморные богини дышали! Напротив Лёдника и Пранцыся сидел толстенький человек в голубом камзоле, с живыми чёрными глазами. Пранцысь слышал, как Лёдник тихонько обращается к человеку «сеньор Пуччини», и понял, что это и есть агент Сапегов, директор оперной труппы слуцкого театра. Значит, доктор уже наладил нужную связь… Как опытный шпион.
Пан Героним был в необычайно хорошем настроении, если судить по радостным лицам придворных. Похоже, новая игрушка в виде железной черепахи ему очень понравилась, и он уже планировал, как с её помощью карает врагов, а среди них даже значились все князевы родственники. Пфальцман снова красноречиво описывал возможности своего изобретения, но князь остановил взгляд на другом немце, а именно на Лёднике.
— А в чём т-твой учёный коллега с-сведущ?
К счастью, об отказе однокурсника от астрологии герр Якоб был предупреждён. Поэтому Пфальцман, не кривя душой, расписал отличные лекарские способности герра Лотмана, которому преподаватели Лейпцигского университета пророчили славу нового Парацельса. И здесь ключ попал в замок. Князь принадлежал к людям, которые подозревают в себе кучу всевозможных болезней. Это сочеталось с постоянным подозрением, что его травят, неправильно лечат, наводят порчу и так далее. Поэтому князь всё время нуждался во врачах, но врачи при нём надолго не задерживались… И не всегда им удавалось съехать от капризного пациента. Часто они просто исчезали. Вот и сейчас князь остался практически без лекарей — двух уцелевших от княжеского гнева несчастных итальянских клистирников Героним не желал видеть, и они сидели, запершись в комнатах и пили отвар валерианы. Поэтому немецкий врач был здесь очень кстати. Настолько, что чёрные глаза Радзивилла загорелись диким огнём, и князь сразу потребовал, чтобы герр Лотман осмотрел его и вынес свой вердикт. Лёдник бросил на стол салфетку и покорно наклонил голову. Пранцыся послали за Лёдниковым добротным кожаным чемоданчиком с обязательным набором инструментов и лекарств, одолженным у Сапеговского доктора.
Когда князь и Лёдник исчезли за дверью с орлами в сопровождении двух гвардейцев, наступила тишина, которую нарушали только осторожные постукивания ложек о модные фарфоровые тарелки, да временами боязливый шёпот гостей. Испуг на лицах многое сказал Вырвичу. Ясно, все беспокоятся, что лекарский осмотр разозлит князя, потому что так, видимо, случалось часто, и тогда достанется всем. Даже живые статуи задышали чаще, одна случайно переступила с ноги на ногу, и тут же замерла под злобным взглядом княжеского придворного маршалка, толстого, как жаба, который должен был следить за совершенством декораций.
Вырвич ощущал в животе ледяной ком. Тем более и сеньор Пуччини посматривал на него сочувственно. Минул, похоже, целый час… Никто не осмеливался встать с места, хуже всего доводилось неподвижным мушкетёрам и скульптурам. Музыканты начали играть очередную мелодию, которой Пранцысь по причине своей музыкальной необразованности узнать не мог, но звучала она очень жалобно, будто какого-то мученика на цепи водили, даже слова из трактирной песни о сиротке Дороте чудились. Кусок в горло не лез, хотя стол был богатейший: таких чудищ, которые красовались на серебряных блюдах, Вырвич никогда не видел. Птицы с вывернутыми крылышками и шеями, фаршированые грибами и фруктами… Щуки, с головы отварные, внутри запечённые, у хвоста жареные… Кабанчики с приставленными крыльями… Серебряные сервизы — сложные конструкции из тарелок на изящных маленьких колоннах, украшенные изображениями античных богов, уподоблялись знаменитому рогу козы Амалфеи, на них навалили всяческую вкуснотищу, от лимонов до марципанов. На нижней тарелке понемногу таяли «итальянские лёды», и каждый сервис стоял на круглом зеркале. Роскошь!
А есть не хочется.
Грохнули двери… Князь Героним вошёл в зал порывистым шагом, его уста кривились довольной улыбкой, а улыбался князь в последний раз, видимо, когда собаки на его глазах рвали зашитых в медвежьи шкуры вождей Кричевского восстания. Весь зал одновременно будто выдохнул с облегчением, как только потолок не приподнялся. За князем с каменным надменным лицом шагал Лёдник.
— Неп-пременно сегодня же все ваши от-твары должны быть готовы! — объявил по-немецки князь Героним и торжественно уселся на свободное место. — Займёшь должность моего личного д-доктора! Италийцев вон! Д-двадцать дукатов в месяц даю! Я всегда г-говорил, что немецкая мед-дицина самая лучшая! — и перешёл на беларусский:
— Сейчас же п-подать мне овсяной каши и к-кусок отвварной говядины…
— Только всё ешьте без соли, ваша княжеская милость! — своим низким голосом по-немецки промолвил Лёдник, и можно было понять, что это князь не откладывая начал придерживаться прописанной им диеты.
— Слышите, неучи? Без соли! Т-только травить меня с-способны копчёным да жареным! При моих больных почках!
Пахолки забегали с таким ужасом на лицах, будто кусок говядины сейчас выражут из их бёдер. Теперь всё внимание сосредоточилось на чудо-лекаре. Лёдник был на высоте. Он тарабанил по-немецки о солях и минералах, жизненных соках и энергии луны так убедительно, что даже Пранцысь, который понимал с пятого на десятое, заинтересовался.
Вдруг князь резко поднялся, музыка сразу же стихла, будто перерезали струны, и бросил в сторону Пфальцмана и Лёдника:
— Идёмте, немчуки, мне н-нужны советы хороших знатоков.
Пфальцман успел ввернуть что-то о том, что его милость князь Радзивилл и сам наиотличнейший дока всех наук и ремёсел, но на князя нашла истерическая жажда деятельности. Он, естественно под присмотром четырёх янычаров в намотанных поверх бобровых шапок белых тюрбанах, таскал немцев по всему дворцу, рассказывая о грандиозных задумках, которые частично начал осуществлять. Большой дворец Нижнего замка был действительно огромен, но одноэтажный, покрытый гонтой — деревянной черепицей, с высоким цокольным этажом. При князе Герониме здесь прибавились два алькежа — боковые пристройки, полукруглый выступ с фасада, подросли две башни — князь явно стремился догнать в роскоши своего слуцкого жилья несвижского племянника
Пане Коханку. А Радзивилл всё ещё много планировал, о чём вдохновенно и рассказывал своим немецким спутникам: создать оранжерею из кактусов, удивительных колючих растений из Америки, чтобы росли до самого потолка, провести переговорные трубы, чтобы из любого помещения крикнуть в такую — и услышат в самой далёкой комнате. Сделать стеклянную комнату, в которой будет искусственное море, чтобы наблюдать за жизнью морских чудовищ — переплюнуть Пане Коханку, у которого рыбы плавали над стеклянным потолком… Показал паноптикум, в котором собрал чудеса — от восковых кукол в человеческий рост, которые умели танцевать и говорить, до заспиртованных двухголовых телят, огромный глобус и даже модель солнечной системы — медная Земля на ней могла двигаться вокруг позолоченного Солнца, бронзовая Луна — вокруг Земли. И Пранцысь, который послушно носил за Лёдником его лекарский саквояж, вдруг увидел перед собой иного человека, того, который мог состояться — но остался только частью личности развращённого деспота. Человека пытливого, смелого в догадках, алчущего знаний… Да, он в обычных обстоятельствах был бы тоже не самым совершенным человеком — обидчивым, легко раздражаемым… Но если должен был заниматься каким-то полезным, конкретным делом, то в чудовище, которое страдает само и мучает других, превратиться бы не смог.
Собственно говоря, от немцев требовалось только соглашаться и восхищаться. Наконец князь остановился в недавно отстроенной галерее, завешанной фамильными портретами и гобеленами с изображениями славных битв, в которых участвовали Радзивиллы, сверкнул дикими чёрными глазами.
— А теперь я покажу вам Сильфиду. Я поймал её сам, заманил мудростью своей. Но здесь, на земле, в грубой материальной среде, Сильфиды ощущают себя нехорошо. И вы, герр Лотман, должны посоветовать, как подлечить это небесное существо, которая сейчас приняло облик и тело земной женщины. Говорить с ней я вам запрещаю, но осмотреть, только осторожно и в моём присутствии, вы её сможете. Но запомните: если после вашего визита это существо продолжит болеть, я очень разочаруюсь в вас, мои уважаемые немцы.
Пфальцман побледнел и вытер лоб платком, продолжая восхищённо-униженно улыбаться. Лёдник только молча склонился, а Прантиш снова почувствовал позорный для шляхтича страх: сумашедший! Этот Героним настоящий сумашедший! Не меньше, чем его брат. Справится ли на этот раз Лёдник? Это же не человека лечить… Что за чудовище или призрака князь держит у себя?
ГЛАВА седьмая Сильфида Слуцкого замка
| К |
Сильфиде нужно было подниматься на верхнюю пло- щадку правой башни. Там находились окованные железом двери с замками и засовами, и ещё скучали двое караульных. Пфальцман остался на лестнице, справедливо считая,что чем меньше магнатских тайн знаешь, тем дольше проживёшь. Двери тяжело распахнулись, будто крышка саркофага. Первым вошёл князь, за ним — Лёдник и Прантиш.
Убранство небольшой комнаты было похожим на восточную сказку: шёлковые шпалеры и покрывала нежных окрасок, кружевные занавески, красный мохнатый ковёр, ни нём рассыпаны яркие оранжерейные цветы… Свет сочился сквозь витражи — рисунок на них изображал цветы лилий. Воздух, казалось, можно потрогать рукой, в нём танцевали, извивались, таяли струйки дыма от восточных благовоний. Досадного мёртвого аромата прибавлял будто снятый с витража огромный цветок лилии в серебряной вазе. Но вся эта роскошь терялась при взгляде на существо, которое неподвижно сидело на застланном белым ковром диване и безучастно смотрело перед собой огромными синими глазами. Пранцысь даже споткнулся… Ему стало обидно бы за Полонейку Багинскую, которая на фоне этой женщины, намного старше её, казалась эдакой обычной курносой девчонкой, если бы он заранее не знал, что имеет дело с существом неземного происхождения. Сильфиде — можно быть такой прекрасной.
Стихийный дух был одет согласно последней дворцовой моде — белое платье из шёлка и кружев, невероятно тонкий стан, затянутый в корсет, высокий парик, украшенный перлами, набелённое и нарумяненное лицо, подведённый чёрным изгиб бровей, мушка на правой щеке… Диаманты сияли на безупречной коже пани так естественно, как роса на лепестках белой розы. В её облике были и изысканность, и величие, которое может исходить только изнутри, из души. Правда, когда первое восхищение прошло, Пранцысь заметил, что Сильфида действительно чувствует себя не очень хорошо: на лице с тонкими, точёными чертами заметны дорожки, которые получаются на пудре от слёз, большие глаза с длиннющими чёрными ресницами покрасневшие, совершенные губы — с горькой складкой… А руки такие тонкие, белые, словно прозрачные. И даже не шевельнулась, взгляд не перевела, будто совсем потеряла волю к жизни.
Князь Героним заговорил, стараясь смягчить голос:
— Дорогая, я привёл отличного доктора. Его зовут герр Бартоломей Лотман, он немец, не понимает ни слова понашему, так что не пробуй с ним заговорить, не трать понапрасну сил. Но он непременно поможет тебе чувствовать себя бодрее! У нас же ещё столько дел, дорогая моя панна!
При последних словах хозяина дворца Сильфида подала небольшие признаки жизни, уголки её губ покривились. Лёдник, который, похоже, был поражён видом неземного существа ещё больше Пранцыся, к злорадной радости последнего, приблизился к стихийному духу и медленно опустился перед ним на колено, так, что его лицо очутилось просто перед синими грустными глазами… И те внезапно расширились, в них что-то полыхнуло, от чего Сильфида показалась ещё больше красивой. Она прерывисто вздохнула и немного откинулась назад.
— Не бойся, милая, доктор не сделает тебе ничего плохого, — успокаивающе проговорил князь Героним. Но Пранцысь видел, что в глазах Сильфиды был не испуг, а… что-то другое. Между тем Лёдник осторожно, как будто дотронулся до хрупкого хрусталя, взял тонкую руку Сильфиды. Нащупал пульс, нежно-нежно, будто лаская пойманную птицу… Потом проверил пульс на другой руке… Пранцысь стоял сбоку, поэтому мог видеть, в отличие от князя, что Лёдник и Сильфида неотрывно смотрят друг другу в глаза, будто ведут неслышную другим беседу. Вот же доктор-проходимец… Даже со стихийным духом поладил!
Между тем Лёдник осторожно отпустил руку Сильфиды, Пранцысю показалось, даже слегка её пожав, и склонился ниже… Как священный покров, завернул наверх подол платья из белой жёсткой парчи, открыв ножки панны в малюсеньких, шитых серебряными нитями, туфельках. И Пранцысь увидел, что к левой ножке неземного существа прикреплена тонкая блестящая цепь, которая вторым концом уходит под диван. Лёдник осторожно пощупал ножку, заключённую в браслет от цепи, и повернулся к князю:
— Ваша княжеская милость, нельзя ли на какое-то время снять это украшение с ноги панны? Я чувствую здесь воспаление… По моему скромному суждению, Сильфиде не подобает хромать, а это неизбежно, если воспаление не залечить.
Радзивилл недовольно кивнул слуге, тот отомкнул браслет на ноге Сильфиды, которая не шевельнулась, продолжая изучать лицо доктора. Лёдник — вот же вольности ремесла! — провёл руками вверх по ножке, раз — и шёлковый чулок в его руке… А на ноге Сильфиды, чуть выше лодыжки, открылась немного затянутая рана — такая могла появиться, если бы стихийный дух, не обращая внимания на боль от железа, которое впивалось в тело, рвался прочь из цепей, пробовал взлететь в небо, к родным облакам… Пранцысь так ярко представил эту картину, что невольно начал искать глазами, где за спиной Сильфида прячет крылья.
Лёдник дал знак Вырвичу подать саквояж, порылся там и достал стеклянную баночку с гадкой на вид зелёной мазью. Когда баночку открыли, оказалось, что мазь ещё и воняет болотом. Лёдник начал наносить эти грубые земные лекарства на ножку Сильфиды. Та сидела покорно, смотрела, как будто это доктор был стихийным духом, непонятным образом привлечённый на землю… А Лёдник склонился низко, едва носом не водил по белой коже пациентки… А в конце — Пранцысь мог присягнуть — незаметно для князя дотронулся до ножки губами, а Сильфида — снова ничего, только розовые пухлые губы немножко вздрогнули.
«Нужно становиться доктором и лечить прекрасных панночек!»– с завистью подумал Вырвич, представив на месте Сильфиды — Полонейку, а на месте Лёдника — себя.
Лёдник ещё и прослушал Сильфиду с помощью короткой трубки с раструбом на конце, и горло её пощупал, и в глаза заглянул близко-близко…
«Ещё немного — и на вкус её попробует», — раздражённо подумал Прантиш.
Лёдник, однако, понимал, что не стоит испытывать терпение Радзивилла, встал и поклонился пану.
— Если позволит ваша милость, я изъясню результаты обследования, — голос доктора скрипел, как у ректора во время лекции — никаких эмоций, только вежливый интерес. — Я замечаю приметы изнеможения, в теле нарушен баланс жидкостей. Посколько у существ, именуемых сильфидами, должно быть много воздуха, а бы рекомендовал чаще проветривать помещение, и не заполнять его дымом. Лучше всего держать окно всегда немного приоткрытым, чтобы Сильфида чувствовала свою связь с родной стихией, и это уменьшало её меланхолию. Нужно укреплять лёгкие и повышать содержание в крови железа. Я бы рекомендовал диету из куриного бульона и отварного птичьего мяса, можно индюшатину, больше овощей и фруктов, грецкие орехи и изюм. Не затягивать так туго шнуровку на корсете, что мешает панне, у которой и так ослаблены лёгкие. И по возможности дать покой раненой ноге.
— А чтобы кровь пустить? — нетерпеливо проговорил Радзивилл. — Все мои доктора считали это лучшим средством.
Лёдник почтительно поклонился.
— По моему нестоящему мнению, кровопускание ещё более ослабит организм. Если мне будет дана возможность лечить панну хотя бы на протяжении недели, обещаю, что к ней вернётся жизненный тонус и расправятся крылья. Конечно, здесь лучше всего провести консилиум, чтобы мне переговорить с доктором, который наблюдал её раньше… Героним Радзивилл нетерпеливо топнул ногой.
— Её крылья мне без надобности! Сделай, чтобы улыбалась и не теряла сознание! А со своим предшественником ты и так уже знаком — он недели две висит на столбе во дворе. Так что консилиум проводи сколько хочешь! А сейчас мне нужно, чтобы этот… дух смог встать на земные ноги, и не хромая, с приятным выражением лица, прошёл туда, куда я захочу!
Сильфида прерывисто взлохнула, будто сдерживая крик возмущения. Лёдник сразу же заслонил её от взгляда князя.
— Приложу все усилия!
И принялся рыться в своём саквояже, загремел стеклом… Пахолки были посланы по воду и стаканы. Лёдник поил Сильфиду микстурами, и Пранцысю казалось, что он наблюдает какой-то сложный ритуал, смысл которого ему непонятен. Князь нетерпеливо ходил по комнате, подбивая ногой рассыпаные по полу цветы.
Наконец доктор закрыл саквояж и повернулся к князю. Сильфида поднялась, гордо выпрямилась. Теперь глаза её горели синим презрительным огнём, и князь зловеще улыбнулся.
— Вот это другое дело! Подправить панне вид!
Тут же подлетела прислуга, которой раньше не было видно, будто служили здесь тоже стихийные духи, принимавшие телесные облики по первому приказу хозяина. Женщина припудрила пуховкой лицо Сильфиды, поправила парик, складки на платье…
— Всё, пошли проведаем дурака! — властно скомандовал князь и бросил Лёднику: — Следи за ней, и как только увидишь снова приступ меланхолии — лечи! И помни, плутовства не потерплю!
Сильфида была почти одного роста с Пранцысем, в её стройной фигурке ощущалось не только изящество, но и сила — как в тоненькой лозе, которую, однако, не сломать. Панна совсем не хромала, но там, куда её вели, явно не ждала ничего приятного. И Вырвичу было так жаль красавицы, что выбил бы, кажется, первое же окно, да выпустил полонянку в небо.
Идти им пришось на верх левой башни, в такое же помещение, в котором была Сильфида. Такие же, запертые на много замков и засовов, двери, охрана… Но внутри не было никаких шелков и цветов — наоборот: голые каменные стены и пол, деревянный настил в углу, который должен заменять кровать единственному жильцу, тоже не добровольному. Вместо красивого витража в окнах — решётка. Щуплый человечек со странно приплюснутым лицом, с глазами, которые находились на разных уровнях, одетый в бурый потёртый камзол, увидев гостей, вскочил, на его ноге загремела цепь. Героним Радзивилл завёл за руку в помещение Сильфиду и растянул губы в подобии улыбки:
— Ну что, Мартин, видишь, моя Сильфида со мной! И посвящает меня во все тайны!
Щуплый человечек оскалил зубы, которые не все были в наличии, и бросился на гостей, натянулась цепь.
— Она моя! Ясно тебе? Моя! И её тайны мои!
— Но это же не я сижу на цепи, а ты, братец!
Прантиша обдало холодом. Мартин Радзивилл, отданный под опеку своего брата князя Геронима! Который вынуждал Лёдника вызывать ему Сильфиду! Он же сейчас его узнает! Доктор это, видимо, отлично понимал, поэтому и остановился скромно в самых дверях, опустив голову. Пранцысь постарался, как мог, закрыть его собою. К счастью, Мартин смотрел только на Сильфиду.
— Не говори ему ничего! Он не стоит!
Героним злобно закричал, срывая голос:
— Это ты не стоишь! Если не хочешь сидеть дальше на хлебе и воде, говори, где вход в подземелье! Тогда я позволю тебе побыть с Сильфидой и воспользоваться её прелестями!
Князь крепко ухватил красавицу за руку и демонстративно провёл перед Мартином.
— Ну, согласен? Ты же так мечтал о связи со стихийным духом, столько денег угрохал на шарлатанов, которые обещали его вызвать!
Мартин смотрел на Сильфиду, как умирающий от жажды смотрит на струю воды, его вытаращенные глаза блестели, как у рыбины.
— Ну что?
Мартин вдруг засмеялся сухим издевательским смехом, в котором не слышалось сумашествия.
— Ты никогда не получишь желаемого, брат! Потому что ты — кусок дерьма, которое все обходят подальше, чтобы не запачкаться. В следующей жизни ты будешь червяком, которого раздавит мой каблук.
— У тебя не будет скоро даже и этой жизни! — взревел Героним. Сильфида стояла неподвижно, как изящная фарфоровая статуэтка. Мартин махал руками и ругался. Его взгляд остановился на Лёднике и загорелся сумашествием:
— Это всё ты! Для меня не постарался, а ему вызвал! Будь ты проклят! Проклят!
К счастью, в общем потоке ругательств его узнавание доктора прошло незамеченным.
Двери закрылись, а Героним Радзивилл всё трясся от злобы. И молвил Сильфиде:
— И ты подумай, дорогуша, вдруг брат согласится на моё предложение раньше, чем ты, тогда мне придётся выполнить, что ему обещано! И будешь его ублажать!
Сильфида молчала, отсутствующе глядя синими глазами в никуда, и сторожа повели её назад. Князь крикнул вслед:
— Окно не закрывайте, пусть дышит родной стихией! И камин не топите.
— Но она же застудится! Ночи холодные… — осмелился вымолвить Лёдник. Князь сразу же вытаращил на него бешеные тёмные глаза, сделавшись вдруг похожим на своего брата Мартина.
— Помёрзнет, так, может, начнёт ценить то тепло, которое ей давали. А ты… немец… учить меня вздумал?
Князь молниеносно выхватил саблю и приставил к горлу Лёдника.
Пранцысь со стыдом вспомнил подобную же ситуацию с его участием. Неужели и он мог бы превратиться в такого вот… деспота? А что здесь невероятного? Если бы ему досталось богатое наследство, да вокруг суетились преданные слуги… Если бы все вокруг говорили без остановки, какой он, Пранцысь Вырвич, мудрый, красивый, сильный… И любой каприз сейчас же бросались выполнять… Единственно такие, как Лёдник, молча бы презирали, но так же склонялись, ибо хочется жить. Разве в этом идеал шляхетства? А как же «панбрат», равность, честь, сарматские обычаи?
Доктор, не выказывая страха, покорно ждал, что будет угодно князю. Героним чиркнул лезвием по шее Лёдника, оставив царапину, и убрал саблю.
— Пусть это будет тебе памяткой! Здесь есть только одна воля — моя!
Кровь из царапины окрасила белоснежный ворот.
— Никогда этого больше не забуду, ваша княжеская милость! — вежливо проговорил Лёдник.
— Чтобы все лекарства были к утру готовы! И все попробуешь сам, на моих глазах!
Когда Героним Радзивилл ушёл, будто даже стены вздохнули с облегчением. Прантиш и Лёдник не осмеливались заговорить, пока за ними не закрылись двери их комнаты. Доктор даже опёрся на них изнутри обеими руками, шумно выдохнув, как будто по ту сторону осталась погоня. Пранцысь повалился на кровать, школяра слегка трясло. Лёдник налил воды из медного кувшина в миску для умывания, зачерпнул, энергично ополоснул лицо, смыл с шеи кровь, раздраженно стянул парик и тяжело уселся на оттоманку. Оба шпиона чувствовали себя, будто побывали в драке с медведем.
— А ты от Сильфиды совсем голову потерял, — сквозь усталость укоризненно проговорил Прантиш. — А свою купчиху когда искать собираешься?
— Я её уже нашёл, — глухо проговорил Лёдник и прибавил, подпустив в голос яда. — А великий и всеведующий пан Вырвич, значит, свято поверил, что познакомился с духом воздуха? Да, это князь удачно придумал — выдавать Соломею за Сильфиду… Шпиков с толку собъёт, ещё и брата помучает.
Прантиш растерялся. Не то, чтобы он воспринял слова Геронима Радзивилла всерьёз… Красавица, наконец, была целиком земной, узницей несчастной… И всё-таки одновременно по-неземному красивой. Глаза её смотрели слишком мудро для женщины… Ну как же хочется в восемнадцать лет поверить, что столкнулся с чем-то чрезвычайным! А уж сопоставить чудесный образ, который открылся за железной дверью с множеством засовов, со старой девой из Полоцка, дочерью обычного купца и подругой детства Лёдника… Не то, чтобы у Прантиша не мелькнуло и мысли о Соломее Ренич, только он эти мысли романтично отогнал. Поэтому теперь и чувствовал себя абсолютным дураком.
— И как ты смог отказаться от такой? — вырвалось у Прантиша.
— Я её не стою, — снова глухо промолвил Лёдник любимую фразу и перевернулся на спину, утомлённо закрыл глаза. Но Вырвичу это самоуничижение надоело.
— У нас, когда иезуиты в хор записывали, тоже все начинали говорить: «Ой, отче, у меня слуха нету, голосу нету, я бы и рад, но петь не умею, чувства уважаемой публики оскорблять буду… Не стою я такой чести». А на самом деле просто никому не хотелось лишних хлопот: свободное время на репетиции тратить, во время концертов соловьями заливаться…
Лёдник ничего не ответил на эту реплику, видимо, она достала до больного. Лежал неподвижно, молчал минут десять. Потом проговорил сухим голосом:
— Этот тронутый её замучит. Нужно не медля браться за дело.
Дело — это значит спасать Реничевну? Но как? Прантиш ничего не сказал, чтобы не показаться трусом, но пока никакого приличного плана ему в голову не приходило. По крутой стене башни даже он не смог бы вскарабкаться. А стража во дворце на каждом шагу… Лёдник, видимо, об этом тоже думал, потому и был мрачен, как последний дракон в озере.
За ними пришли с приказом,что новый доктор должен перебраться в комнаты старого. И тут появилась тень надежды, так как выделенное им помещение, разделённое на две части, с кроватью под бархатным балдахином цвета старой листвы, с камином, облицованным плинфой с изображениями чёрных орлов и зелёных виноградных гроздей, было в Большом дворце, и находилось как раз рядом с башней. Пранцысь заметил, как просветлело лицо Лёдника, но по-прежнему не мог смекнуть, чем это поможет… К окну Реничевны можно было взлететь только на крыльях! Разве только стрелу в него послать с верёвкой? Пранцысь высунулся из их окна, примерился… Нет, никак не получится, виден только самый край оконного проёма… А стать среди двора да целиться в окно, или лестницу приставлять к стене, под которой и днём, и ночью прохаживаются гвардейцы — можно сразу самому к столбу приколотиться, чтобы палачей не беспокоить.
Назавтра Лёдник объявил невыносимо командирским тоном:
— Тебе, пан Вырвич, достанется самая приятная часть нашего приключения: ты пойдёшь со мной в театр. Меня пригласили подлечить несколько артистов.
— И что я там должен буду делать? — оживился Прантиш.
— Просто посмотришь на репетицию. Получай наслаждение, пока есть возможность, — улыбнулся Лёдник. — И не вздумай что-то творить сам по себе. А главное — чтобы ни делал я, не обращай внимания. Отойду — не крути головой, не спрашивай, куда подевался. Я сам за тобою вернусь.
Ясно?
В театре, переоборудованном из дома суда, было роскошно — не сравнить с залом менского иезуитского коллегиума. Стены и ложи обтянуты зелёным сукном, украшены гирляндами искусственных цветов. В проходах алые ковры. Оркестровая яма, тяжёлый бархатный занавес… Лёдник усадил Прантиша посреди третьего ряда и исчез за кулисами с докторским саквояжем в руках. А на сцене репетировали немецкую оперу, до которых Героним Радзивилл был очень охоч. Декорации представляли собой пасторальные пейзажи с рощицами, лужайками да овцами, и были нарисованы совершенными мастерами на огромных полотнах. Но даже на неискушённый взгляд Вырвича, имелись в репетиции странности. Артисты были при всём параде, прибранные, как во время премьеры, и так старались — как жолнеры на плацу. Жолнеры, кстати, тоже были на сцене. При полной выкладке, они, подобно античному хору, создавали фон для пасторального пения влюблённых пастушка и пастушки, время от времени демонстрируя упражнения муштры. Да и среди сценических пейзан Пранцысь узнал некоторых солдат, которых видел в замке. Таким образом спектакль представлял собою какую-то странную смесь оперы и военной подготовки. Кроме взрослых, в балете участвовали и дети — в Слуцке имелась балетная школа. Ребятишки, худенькие, как щепочки, набелённые и нарумяненные, двигались, как заводные. А ещё среди них было несколько маленьких негритят — в белых паричках, такие же худенькие, старательные…
Всё было очень красиво… Как в музыкальной шкатулке. Особенно поразило Пранцыся, когда в действие включились Купидоны и олимпийские боги — как и следует божествам, они спускались с неба и свободно реяли в воздухе надо всей сценой. Вырвич сразу даже перепугался — не водятся ли здесь действительно духи! Но, бдительно присмотревшись, понял, что артистов носят над сценой специальные механизмы, к которым Купидоны и боги подвешены с помощью тоненьких верёвок, практически незаметных… Из чего, интересно, те верёвочки сделаны?
Но неожиданно действо прервалось страшным ругательством на немецком. Похожий на лягушку пан выскочил на сцену и принялся лакированной тростью бить по рукам и ногам артистов, которые, по его мнению, ошиблись. Доставалось и детям, они, однако, как и взрослые, не плакали и не уклонялись от ударов, а застывали в нелепых скульптурных позах. Особенно перепадало самой красивой и стройной девушке, которую пан-лягушка называл «Михалишивна», добавляя неприличное слово.
Никто не вскрикивал, не стонал, звучали только ругательства и глухие удары. И Пранцысю сделалось дурно от такого искусства. Школяр наплевал на приказ своего слуги и отправился искать его за кулисы. Главное, не забыть, что он сам — немец… Широкая улыбка, наивные голубые глаза, вопросительное: «Герр Лотман?», и наконец Вырвича направили в комнатку, где притаились Пуччини и Лёдник. Доктор открыл дверь с самым зверским выражением на лице, но искренная улыбка Вырвича вынудила его простонать и отступить от двери.
— Я, наверное, даже в аду от вас не спрячусь! Не бойтесь, сеньор Пуччини, пан Франц Магнус во всё посвящён… Пуччини закрыл дверь и обратился к Лёднику:
— Мой пан, как кстати появился ваш молодой коллега! А я как раз говорил, что нам нужен кто-то более лёгкий, чем вы!
— Я не толст, — сквозь зубы проговорил Лёдник. — И справлюсь сам.
— Мой друг, вы нормального сложения мужчина, сильный и высокий. Поэтому при всём желании не можете быть весом как подросток.
— Шнур выдержит, — упрямился бывший алхимик.
— Вас одного — возможно… А двойной груз? Я бы не рисковал. Если есть выбор…
— Выбора нет! Парня туда не пущу! В конце концов, я просто могу остаться там и не спускаться! — холодно упирался Лёдник.
— Я никогда не имел дел с самоубийцами, понимаете, — рассердился наконец и Пуччини. — С такими намерениями я могу послать вас только в вашу железную образину.
Назревала ссора, и Пранцысь вмешался.
— Я всё-таки не мебель, можете обращаться и непосредственно ко мне, судари! Обьясните мне, наконец, о чём вы, холера на вас, говорите?
Лёдник и директор дружно посмотрели на юношу, доктор, видимо, боролся со жгучим желанием выставить Пранцыся за двери, но итальянец сунул тому под нос листок с чертежом: — Вот, пан Магнус… Всё, что пока удалось придумать.
На листочке красовалась схема какого-то механизма: натянутый между двумя блоками шнур, угол отклона, контуры стены с оконными проёмами… До Вырвича дошло: это же план спасения Сильфиды!
— Забрать её обычным путём невозможно, — неохотно заговорил Лёдник. — Здесь целое войско должно пробиваться — из-за охраны на каждом этаже, через железную дверь… Даже если представим здесь новую Трою — взять Слуцкий замок за его историю не удалось ещё никому, ни татарам, ни московцам, ни своим же магнатам. Разве что в нашу пользу — то, что мы в одном здании с Реничевной, и окна выходят на одну сторону.
— Но, к сожалению, не на одной линии! — вздохнул Пуччини. — Поэтому от исполнителя потребуются просто акробатические способности. И большая фортуна!
— Вы хотите выкрасть её через окно? — воскликнул Вырвич. — Ты специально вложил князю в уши, чтобы у Сильфиды проветривать! Если так, лазить по окнам и крышам я — лучший знаток!
Лёдник не забыл хмыкнуть на эту реплику. Но Пуччини довольно кивнул головой.
— Что же, значит, придётся воспользоваться вашими навыками, юноша.
— Этот парень и без того имеет из-за меня неприятности на свою упрямую голову! — хмуро заявил Лёдник. — Он — юноша благородного происхождения, и я за него отвечаю. Я не могу на это согласиться. Пусть лучше мне поможет ваш брат Джованни.
— А я не спрашиваю твоего позволения! — горделиво сказал Прантиш.– Он за меня отвечает! Забыл, кто ты и кто я?
Шляхтич сам решает, идти ему в бой или нет!
Лёдник поджал губы и нахмурился. Пуччини с удивлением посмотрел на обоих, со вздохом подвинул к себе лист, потёр нос-бульбу и продолжил разговор-заговор, на этот раз еле заметно, но почтительно склоняясь в сторону Прантиша, который признался в своём благородном происхождении.
— Пока что наш план состоит из нескольких почти невыполнимых задач. Если бы мне принесли такую пьесу, я бы сразу сказал, что она неправдоподобная, и сюжет спасёт только «бог из машины».
— Смелость заменяет любую машину! — чванливо заявил Пранцысь. — Мне кажется, вы здесь всё усложняете. Схемы нарисовали…
Доктор нервно сжал пальцы:
— Одно дело, когда узник может действовать сам. А Соломею навряд ли отпустили с цепи. Передать ей напильник, верёвку, даже писульку или словом перемолвиться — невозможно, за каждым моим движением в её присутствии наблюдают, её саму обыскивают. Единственная наша надежда — что в этом театре есть специальные приспособления для полётов Купидонов. Видел?
Пранцысь кивнул.
— Шнур, слетённый из стальных волокон, он совсем тонкий, но прочный и гибкий. Если слякотной ночью он повиснет на стене, никто не заметит.
— Утром заметят. Охраны здесь больше, чем простых слуг. Слуцк нужно покидать в ту же ночь. Иначе — всё… Мышь не проскользнёт. И времени на вторую попытку не будет, — предупредил Пуччини. — Короче, нужно ещё раз всё промерить, продумать…
— Ну, хорошо, перемерите вы стены дворца… А как удрать из замка? — поинтересовался Прантиш. — Валы, мост, на каждых воротах караул…
— Нам помогут снаружи, — безразлично сказал Лёдник. — Об этом беспокоиться будем потом. Всё, сеньор Пуччини. Мне ещё лекарства готовить, к Пфальцману нужно наведаться. К тому же мы и так вызвали подозрение своими долгими беседами за закрытой дверью. Так что приведите мне ещё несколько артистов на осмотр…
— Тем более, что им теперь понадобится лечение, — язвительно сказал Прантиш.
Пуччини вопросительно глянул на юношу. Вырвич презрительно покривил губы.
— Я только что видел, как в вашем театре воспитывают таланты. С помощью палки.
Директор нахмурился.
— Герр Пильщин… Он старательно выполняет распоряжение княжеской милости. Что сделаешь — я в действительности не имею здесь никакой власти… Театр, казалось бы, роскошный, а какой талантливый местный люд… Крепостная девушка, выросла в чёрной избе, и вдруг — танцует как античная богиня, и передаёт все тонкости переживаний царевны Навсикаи, всматривается в ожидании Одиссея в мнимую морскую даль так, что светская публика плачет, смывая пудру. А та девушка и моря не видела! Как хорошо всё начиналось, на каком энтузиазме… Но разве это храм искусства? Когда хозяин требует только муштры… — доброе лицо итальянца перекосило от ненависти. — Артистов вербуем повсюду, в Кёльне, Вене, Кракове, Варшаве… Но никто сюда ехать не хочет, наслышаны о нравах. Князь может больного артиста выгнать на сцену, а если оплошает — посадить в карцер. Закупили партию арапов — привезли их просто в железных клетках, как зверей. Тоже играть заставляют. Дети в балетной школе умирают без счёта… Забирают их у родителей, крестьян и простых горожан — насильно… На сцену жолнеров выводят! С оружием! Какому-нибудь ротмистру могут главную роль расписать — потому что хорошо марширует. Если бы я не имел надежды на месть… давно бы отсюда…
Пуччини отвернулся, пробуя успокоиться.
— А что, сеньор Пуччини, вы держите здесь какое-нибудь особое итальянское вино? — ровным голосом спросил Лёдник.
Директор недоумённо посмотрел на него.
— Вы хотите выпить? Но князь не позволяет…
— Мы хотим выпить, — подчёркнуто вымолвил Лёдник. — Точнее именно этим мы с вами и занимались последний час. Даже рюмки недопитые не спрятали… Вот такое нарушение дисциплины. Князь, конечно, разозлится, но ведь не до отрубания голов…
— Что же, ваша правда, лучше такое объяснение для шпиков, чем никакого, — итальянец подошёл к секретеру из красного дерева, повернул ключ. За дверцей весело блеснула пузатая бутылка.
— Тосканское… Пробую в самые горькие моменты жизни.
Поставил на стол три рюмки, налил до половины.
— Ну что же, за успех!
— За успех! — откликнулись Лёдник и Вырвич.
Последний глоток вина итальянец не допил, выплеснул на паркет, пробормотав:
— Тебе, Лауренсия… — и обратился к Лёднику.
— Кстати, герр Лотман, давно хотел вас спросить, чем это вы так умаслили князя во время первого осмотра? Магия?
Лёдник улыбнулся.
— Напоил его хорошей успокаивающей микстурой. Львиная трава, пион, валериана… И немножечко мака. Я с такими клиентами не раз встречался. Представляете, он даже показал мне диариуш, который всё время носит при себе и в нём зарисовывает иголки, гвозди, осколки стекла, что ему добавляют в блюда.
Когда Пранцысь и Барталомей отсмеялись, итальянец посоветовал:
— Побольше мака добавляйте в князевы отвары, мой друг.
— Постараюсь, — серьёзно промолвил Лёдник.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Полёт Сильфиды
| К |
ак утверждал Парацельс, Сильфы и Сильфиды — элементали воздуха, по-дружески настроенные к людям,
и даже были случаи, когда они приглашали обычного человека пожить на своих воздушных островах.
Но человек слишком тяжёл, чтобы жить на воздушных островах. Ему нужно громоздить камни на камни, укрепляя возведенное чужой кровью.
Лёдник, Пранцысь и младший брат сеньора Пуччини Джованни, черноусый весёлый певец, любовались сквозь сумрак Слуцком, который лежал под их ногами — в прямом смысле этого слова. Потому что названые персоны стояли на крыше угловой башни, на том её скате, который был более плоский. Вокруг них громоздились устройства, необходимые для астрономическо-астрологическо-медицинских ритуалов, имелась даже небольшая подзорная труба, установленная на трёх хлипких ножках, как чудовищное насекомое. Сонливое осеннее солнце почти спряталось, и западное небо окрашивало крыши и стены в багровый оттенок, будто метило лбы будущих жертв кровью. Звонарь Копыльских ворот прозвонил уже первую четверть шарого часа, и жители города начали гасить огонь в своих печах. Только кое-где светились окна — ремесленникам дозволялось продолжать работу при свете плошек и свечей. Запирались даже трактиры. Если же кто-то из посетителей, слишком вдохновлённый встречей со стеклянным богом, не желал покидать приветливые стены кабачка, то рисковал назавтра очутиться на валу и таскать там землю вместе с нищими, непотребными женщинами или дерзкими подмастерьями, которых отправили на вал в наказание за то, что выпало им счастье жить в славном белорусском городе Слуцке.
— А когда-то этот замок принадлежал Олельковичам, — задумчиво проговорил Лёдник. — Большой дворец начинала строить княгиня Анастасия, вдова, которая с мечом в руках стояла на этих стенах… Потом здесь страдала тихая княжна София, ожидая из бесконечных походов своего заносчивого мужа, Януша Радзивилла. А сегодня…
— Сегодня здесь господствует бешеный тиран! — зло отозвался Джованни, который говорил по-белорусски практически без акцента, и Лёдник остановил на нём заинтересованный взгляд.
— Зачем вы ввязались в наше опасное дело, Джовани? Вы были так привязаны к жене вашего брата? Простите за вопрос, но мы же не на бал собираемся…
Джовани сжал челюсти, лицо его вдруг приобрело жёсткие, острые очертания, как у римского легионера.
— Вы просто не понимаете, в каком ужасе мы здесь живём. Посмотрите на столбы с мертвецами… История с Лауренсией — это мелочь, князь всего только хотел наказать её мужа, который не выполнил его распоряжений по спектаклю. Этот безумец просто не в состоянии представить, что чужая жизнь что-то стоит… Думаете, если бы мы могли уехать, остались бы здесь? — Джовани горько засмеялся. — О, мадонна, сколько раз мы думали сбежать! И не только мы. Несколько лет назад два курляндских офицера самовольно покинули службу у князя. Так он не поленился поднять войско. Бедняг схватили, инсценировали смертную казнь, в последнюю минуту помиловали, и больше о них никто не слышал… До вчерашнего дня. Знакомый мушкетёр рассказал, что начальник тюрьмы получил прошение: те два офицера просили сменить им одежду и обувь, так как старое всё сгнило. Представляете, где они сидят, если даже обувь гниёт? — Джовани сплюнул вниз. — Не хочу сказать, что я такой смелый, что не боюсь попасть в подземелья… Но единственная надежда для нас — найти другого покровителя. Сапеги обещали брату, что защитят, дадут работу, вознаградят. А если придётся погибнуть… Я мужчина и неополитанец. Главное, чтобы быстро.
Лёдник молча кивнул и осмотрелся вокруг. Слуцкий замок был поделён на две части: Верхний замок и Нижний, объединённые мостом. От Верхнего осталась только одна башня, превращённая в тюрьму. Она зловеще возвышалась над городом, как воплощённая фигура смерти, или скорее её единственный гнилой, но всё ещё крепкий зуб… Оборонительные сооружения были, как при прадедах, из земли и дерева. За восьмиметровым земляным валом соединялись реки Случь и Бычок, стояла баня. Главный выход из замка был через четырёхярусные ворота с часами и колоколом. На их башне красовался флюгер с двумя орлами — красным и чёрным. По обе стороны от ворот находились помещения для караула. Ещё одни ворота были северней, между двумя дворцами Нижнего замка, у бани. Около самого Слуцка тоже были видны валы и рвы, через которые вели пять ворот. При этом Радзивилле город превратился в могучую крепость. Солдат гарнизона муштровали в цитадели, которая находилась за пределами замка, и ключ от которой начальник гарнизона Карлинг приносил лично князю каждый вечер. Пранцысь искренне не понимал, как можно надеяться отсюда убежать, если даже простой слуцкий мещанин, пока дойдёт до своего дома, несколько раз ответит караулу, кто такой, где был и куда идёт.
Джованни тихо запел арию о Царице Ночи… Действительно, стремительно темнело, показалась первая звезда, похожая на удивлённый глаз: что делают трое чудаков на крыше?
— Ну, всё… Надо начинать, а то кто-нибудь из наблюдателей доложит князю, что мы здесь просто глаза таращили, как настоящие шпики.
Алхимик в свете фонаря с трепещущим свечным сердцем расставил на потемневшем от времени гонте сосуды с разными жидкостями, приложился к трубе, которую направил в какую-то известную только ему точку, мрачно проворчал:
— Главное, чтобы все привыкли, что немецкий доктор, одержимый своей наукой, каждую ночь поднимается на крышу, чтобы с помощью силы звёзд и эманаций эфира готовить необычно сильные лекарства.
— Не волнуйтесь. Завтра весь замок будет знать с моих слов, какие сложные и страшные ритуалы вы здесь проводите, — улыбнулся Джованни. — Люди глаза поднимать на крышу в это время побоятся!
— Только ни о какой чёрной магии не говори! — тревожно предупредил Пранцысь. — Не хватало ещё, чтобы князь записал нас в ведьмаки.
И начал аккуратно доставать со дна докторова саквояжа небольшое приспособление с кольцами… Блок, через который в первую же ненастную ночь пройдёт спасительный стальной шнур.
Если верить прогнозам Лёдника, такая ночь случится в следующую пятницу.
Дни тянулись, как слизняки по могильной плите, покидая мерзкий след на душе. Лёдник возвращался с лекарских визитов к Сильфиде с такой физиономией, что хотелось чисто от жалости его пристрелить. А он ведь умел скрывать чувства… Пранцысь только один раз осмелился спросить, как там панна Ренич. Лёдник одно бросил:
— Плохо.
И слова углубился в какие-то расчёты да схемы.
Когда князь Героним оставлял в покое своего нового доктора, герра Лотмана иногда звали к серьёзно больным. Тогда он изменялся — совсем забывал о своих заботах и думал только, как лучше всего сложить раздробленую голень или очистить протоки желчного пузыря… В такие моменты он напоминал гетмана на поле битвы, его команды выполнялись бегом, даже Пранцысь не осмелился бы ослушаться своего слугу… А когда удавалось спасти чью-то жизнь, Лёдник сиял, покровительственно поглядывая на не такой уж поганый мир. А потом мрачнел и принимался читать покаянные молитвы: вспоминал, сколько зря потратил времени, которое мог посвятить спасению ближних. Чудак!
А Пранцысь смотрел репетиции театра, и ему всё больше нравилась красивая танцовщица Михалишивна — в её движениях была необычная плавность, выразительность, казалось, она разговаривает жестами… И иногда передаёт немецкому юноше с синими глазами, что сидит в углу зала, искреннее приветствие. Потом проведывал герра Пфальцмана, который всё больше мрачнел, но даже высказывать своё недовольство и тревогу уже не осмеливался. Фрау Пфальцман украдкой плакала. Для железной черепахи, поставленной в конюшне у Малого замка, на местной людвисарне отливали по чертежам Пфальцмана пушки, и он справедливо беспокоился, что если в них окажутся изъяны, виновным прежде всего окажется он. И видимо проклинал глупость короля Августа Саса, который в своё время отклонил его проект, чем дал возможность Герониму Жестокому стать работодателем немецкого изобретателя. Пока что герр Якуб отлаживал лёгкость движения своей машины, смазывал шарниры и колёсики специальным маслом. Пранцысь за работу, естественно, не брался, считая, что она не совместна со шляхетским достоинством — за ремесленничество могли и шляхетского звания лишить, это же не то, что благородно пахать своё поле или гнать водку. Последнее шляхтичу позволялось. В Статуте ведь было сказано, что «если бы шляхтич, лишившись имения и достоинства шляхетского, либо по бедности своей, в поисках себе пропитания, ушёл бы в город и жил там, ведя городскую торговлю, либо шинок в доме имел или локтем мерял, либо занимался ремеслом на верстаке, таковой уже вольностями шляхетскими пользоваться не должен».
Локтем мерять, это значит продавать ткани, и работать на верстаке Вырвич не собирался, но наблюдать и расспрашивать любил. А понаблюдав, убеждал себя, что для собственного удовольствия шляхтич может и с железяками поиграться. Вон Пане Коханку собственноручно вытачивает шкатулки, которые дарит придворным. Почему бы и Вырвичу не подкрутить пару гаек? И вскоре по уши был перепачкан смазкой, обращаясь с самыми сложными механизмами привычно, как с саблей.
Было в его визитах в конюшню и полезное. Железная черепаха по-прежнему приводила местных в ужас. Здание с демонской машиной, откуда время от времени вылетали клубы чёрного дыма и доносилось страшное шипение, обходили возможно дальше. Машталеры, ухаживавшие за лошадьми в конюшнях рядом, крестились, сплёвывали, держали пальцы рожками… То же переносилось на создателя дракона, его слугу Генриха и помощника нового княжеского доктора Франца Магнуса. Поэтому и Вырвича обходили, как чесоточного. Что давало ему возможность уклоняться от разговоров.
Вырвич искренне завидовал Пфальцманам и Лёднику, которые могли здесь свободно разговаривать на своём немецком, на котором разговаривало большинство гарнизона и весь театр. А школяр оказался лишённым самого главного своего оружия — хорошо подвешенного языка. Даже с хорошенькой артисткой Михалишивной познакомиться толком не удалось, хотя Прантиш не раз подмигивал ей да обменивался улыбками.
Когда темнело, Пранцысь тащил на крышу подзорную трубу и со всё меньшим интересом наблюдал манипуляции доктора, который тщательно смешивал жидкости и порошки, одновременно делая какие-то небесные измерения. А возвращаясь в комнату, школяр ещё должен был учиться отпирать замки с помощью согнутой проволочки и даже немного фехтовать. Бывший алхимик учителем был плохим, во всяком случае, по мнению Пранцыся, потому что не жалел обидных слов… Не ругательств, нет — просто самые обычные слова он мог промолвить так, что хотелось выть от обиды — на него и на свою неумелость.
— Abend studia in moris, — нудил бывший алхимик. — Как говорил английский мудрец Бэкон, слабый ум можно вылечить соответствующими науками так же, как соответствующими упражнениями вылечиваются наши телесные болезни. Кегли хороши для камней в мочевом пузыре и больной поясницы, стрельба — для больной груди, неторопливые прогулки для желудка, конная езда для головы. А поэтому, если у человека плохо с памятью, пусть изучает математику, если не наблюдательный, пусть изучает логику, она — cymini sektores, собирательница тминных зерен, если же кто-то не может доказывать одно через другое, не замечая подобного, пусть изучает право.
Таким образом, Пранцысю предписывался полный курс всех наук.
А по ночам не давали спать крики, которые доносились из подвалов. Может, они в основном мерещились — но ведь Вырвич точно знал, что здесь есть кому кричать.
Кстати, за распитие вина на рабочем месте и доктор, и директор театра получили огромные штрафы в десять дукатов. Деньги должны были высчитать из их заработков. Кто донёс — неизвестно.
Пятница началась с дождя… В полдень ветер выл так, что казался ещё одним узником слуцкого замка. Прежде, чем отправиться на крышу, Лёдник прочитал канон Пресвятой Богородицы, а потом обернул вокруг себя тонкий стальной шнур, спрятав его под камзол. Вес был солидный, не легче рыцарского панцыря. В этот момент Пранцысь и Лёдник, наверное, не против были бы принадлежать к просветлённой расе Сильфидов, которые умеют летать и делаться невидимыми.
А ночь была воистину ужасной. Холодный дождь лил так, будто где-то седобородый Ной уже справил ковчег и загнал туда последнюю пару тварей Божьих. Темно — протяни руку, не увидишь. Только неразумный юродивый мог распахнуть окно, чтобы запустить суровую стихию в тёплое помещение, где на камине, обложенном плинфой, изображены чёрные орлы.
Но окно пришлось распахнуть, потому что между крышей и комнатой доктора натянулась стальная нить. Лёдник ещё раз проверил, хорошо ли закреплены на школяре специальные ремни, с помощью которых артистов слуцкого театра превращали в Купидонов. Ещё раз шёпотом проговорил последние наставления… Как только по двору прошли горемычные мушкетёры, которым выпало нести вахту в такую слякоть, доктор прошептал:
— Давай! С Богом…
Пранцысь ступил на подоконник. Лёдник крутанул за рукоятку одолженного в театре механизма: шнур беззвучно накручивался на барабан, при каждом повороте надёжно фиксируясь, так что не нужно было напрягаться, чтобы удерживать груз. Пранцысь слегка оттолкнулся ногой, и почувствовал, что его потащило наверх. Школяр сразу вымок, как опущенный в воду платок. Но холода не ощущалось: не до того, когда бурлит от волнения кровь.
На рассчитанной высоте шнур замер. Теперь нужно было ослабить его, сильно раскачаться и достать до окна Сильфиды.
Сквозь дождь и мрак огни, горевшие в помещениях караула, на валу, казались тусклыми глазами умирающего хищника. Вода текла в водостоках с глухим рёвом, как полонённая река. Наконец Пранцысю удалось зацепиться пальцами за откос оконной ниши. Так, забросить ногу… Переждать, чтобы успокоилось бешеное сердцебиение — Лёдник всё время повторял, что нужно воспитывать способность к концентрации, следить за дыханием и пульсом. Теперь немного подвинуться…
Пранцысь расстегнул ремни и спрыгнул на пол. Пронзила мысль, что ошибся: ноги встретили не мохнатый ковёр, а голые доски. Не было и запаха восточных курений и аромата цветов… Холод, почти как на улице. Пранцысь осторожно ступил вглубь помещения. Темно, будто дракон проглотил. Он напряжённо прислушивался: не дышит ли кто рядом?
— Кто здесь? — еле слышный шёпот ударил по напряжённым нервам, как выстрел пушки.
— Панна, я от Бутрима…
— Это вы, такой милый мальчик, что с ним приходил? — в шёпоте слышалось волнение. Пранцысь приблизился, вытянув руки, и за его руку схватились холодные пальчики.
— Мальчик, вы должны сейчас же уйти, пока ваша авантюра не обернулась непоправимыми последствиями! Я всё равно на цепи…
— Ничего… Где замок?
Пранцысь вслепую, как его учил доктор, ковырялся согнутой проволокой в замке от цепи минут десять, которые показались бесконечными. На лестнице всё время чудились шаги. А что, если сейчас заскрипят засовы, и в комнату ворвётся сам князь! По спине школяра тёк холодный пот от одной мысли, что не справится, и придётся вернуться к Лёднику ни с чем… Сильфида молчала, дыша так тихо, что временами брало сомнение, земное ли она создание. Наконец в замке что-то щёлкнуло, и цепь очутилась на полу. Сильфида приподнялась, зашуршала ткань. Хотя всей роскоши в убранстве комнаты хозяин непокорную пленницу лишил, на ней ещё было необьятное платье-роговка. Пранцысь потянул Сильфиду за руку к окну:
— Пойдёмте!
— Подожди… — женщина повозилась, и юбка, натянутая на три обруча из китового уса, вместе с обручами с мягким шуршанием опустилась на пол. — Всё…
И дух воздуха вылетел в вольную стихию.
Лёдник подхватил подругу своего детства на руки… Пранцысь скромно отвернулся, хотя в темноте всё равно только мог слышать взволнованное дыхание обоих ды неразборчивый шёпот «Это ты!», «Это ты!».
«Нет, дракон из Белого озера», — обиженно ответил в мыслях Пранцысь поглощённым друг другом полочанам.
Окно завесили чёрной бархатной портьерой, можно было зажечь свечу и наконец увидеть друг друга. Сильфида с облегчением стянула с себя высокий парик, унизанный жемчугами, и её чёрные волосы блестящими волнами рассыпались по плечам. В таком виде, пусть с тёмными кругами под глазами, и исхудавшая, она выглядела ещё краше… Лёдник поднёс ей отвар:
— Выпей сейчас же… Это придаст сил.
— Спасибо! — сказала Соломея, принимая горячий кубок с заваренными травами в нежные ладони — такие могли бы принадлежать шляхтянке, которой с детства надевали и днём и ночью немного зауженные перчатки, чтобы пальцы были тонкими. — Если бы не твои лекарства, я за последние дни застыла бы совсем…
По лицу доктора прошла тень ненависти.
— Развращённые юроды с родовыми гербами вместо мозгов… И Бог у них другой, чем у народа, которым управляют, и язык другой, и мораль другая… Bene natus et possessionatus et catholicus…
— Чем оскорблять шляхту, ты бы рассказал, что делать дальше! — промолвил Вырвич.
Соломея ласково улыбнулась рассерженному школяру, почему-то только на одной её щеке, левой, возникла ямочка, Прантиш смутился.
— Это твой ученик, Бутрим?
— Не совсем… — Лёдник посмотрел на Пранцыся почти беспомощно, но Вырвич не собирался унижать его в глазах красавицы. Тем более бумага о покупке осталась у Сапеги, переданная на сохранение его камердинеру в небольшом свёртке личных вещей, вместе с записками Воронёнка и шляхетской шапкой Вырвичей. — Это… это благородный юноша, которого мне доверили для воспитания. Его настоящее имя — Франтасий.
— Прантиш, — горделиво уточнил школяр. — Прантиш Вырвич, герба Гиппоцентавр.
Сильфида даже вздрогнула, услышав громкое шляхетское имя, ещё раз улыбнулась школяру, на этот раз более скованно, и склонилась в поклоне.
— Простите, ваша милость, я не знала, кто вы. И вы рискуете ради меня, ваша милость…
Прантиш пожал плечами и принял важный вид, хотя ему больше бы понравилось, если бы Сильфида называла его и дальше «милый мальчик». Но та смотрела на доктора.
— Давно хотела тебя спросить… Это откуда?
Её пальцы коснулись шрама на лбу алхимика.
— Один шляхтич расписался, — недовольно ответил Лёдник.
— А это? — Соломея осторожно провела пальцем по ещё свежей царапине на шее.
— Второй шляхтич расписался.
— И много на тебе таких… аристократических подписей? — в голосе Сильфиды под насмешкой слышались жалость и горечь.
— Не имеет значения… В конце концов, за то, чем я занимался, нужно расплачиваться. И благодарю Господа, что остановил меня… — Лёдник перекрестился. — Чем глубже мы в пропасти — тем сильнее нас нужно тащить наверх. И сугубая неблагодарность — жаловаться, когда от сильной спасительной руки осталась пара синяков.
Доктор прекратил неприятный разговор и достал из-под кровати узел, в котором оказалась какая-то странная одежда: ситцевые шаровары, кацавейка, пёстрые тряпки…
— Должен огорчить тебя, Соломея, в ближайшие часы ты будешь арапкой.
Та тихо засмеялась.
— После роли Сильфиды ты меня ничем не огорчишь.
Вскоре вместо Соломеи Ренич в комнате стояло странное создание, закутанное в дешёвую пёструю ткань, намотанную поверх толстой кацавейки. Лёдник довольно осмотрел женщину:
— Фигура неузнаваемая. Теперь краска…
Нащупал в узле круглую стеклянную банку, снял крышку… — Вырвич, это что?
Прантиш склонился над банкой. Даже в полумраке было видно, что краска — не чёрная и не бурая, а красная. Школяр огорчился.
— Джовани показал где брать, сказал, будет написано «для эфиопов».
— Это, по-твоему, слово «эфиопы»? — злобно прошипел Лёдник. — Неуч! Это для индейцев! Краснокожих!
Но времени выяснять отношения не было. Алхимик выложил немного краски в блюдце, потом достал из кармана маленькую бутылочку, высыпал в краску её чёрное содержимое с редкими золотистыми искорками, перемешал просто пальцами, и скомандовал Соломее:
— Повернись ко мне!
Провёл по её щеке тёмную линию, аккуратно растёр, проверяя оттенок, осторожно прибрал ногтем золотую искорку. — Всегда мечтал безнаказанно испачкать твоё личико!
— Бутрим, что ты делаешь? В камине навалом сажи! А это же… — Пранцысь понял, что за бутылочку опорожнил Лёдник.
— Это всего только пепел, и здесь ему самое место, — твёрдо сказал Бутрим, размазывая по белому лицу подруги детства алхимическое золото, за которое отдал десять лет жизни и самого себя в придачу.
Теперь в темноте лицо Соломеи можно было, пожалуй, принять за негритянское, если бы, конечно, не синие глаза. На голову ей навернули полотно. А сверху Лёдник набросил рядно.
— Прикрывай лицо и руки, чтобы дождь не смыл краску. Основа жирная, но всё-таки лучше не рисковать. И глаза свои васильковые не поднимай.
Можно было бы над этим маскарадом посмеяться, но не теперь…
Лёдник взял свечу, подошёл к окну, сорвал бархатную портьеру, провёл свечой справо налево какую-то загогулину и сразу же потушил огонь. Где-то далеко во мраке зажёгся огонёк, который тоже описал зигзаг и погас.
— Всё, теперь будем наготове…
Дождь отбивал бешеный ритм нелюдских танцев. Оставалось немного времени, а вопросов было, как мака в сморгонском баранке.
— Как ты узнал, где я нахожусь? — прошептала Сильфида. — Я думала, упаду в обморок, когда увидала тебя…
— Когда меня арестовали за шарлатанство, — улыбнулся Лёдник, — то обещали, что будут судить вместе с ещё одной… ведьмой.
— Мне нужно было быть осторожнее… — печально прошептала Соломея. — Путник попросил помощи. Мол, глаза заболели, сил нет. И я же видела — нормальные глаза, может, кулаком натёртые. Дала слабый содовый раствор — чтобы отстал. Это же совсем безвредно, хоть пей, хоть умывайся… А назавтра — всё, тянут в суд. Ослеп! И оказалось — путник из Слуцка, один из княжеских паюков. Ясно, что специально подосланый… Только дядька Лейба, аптекарь наш, засвидетельствовал, что я безвредные лекарства дала — но его хорошенько припугнули, чтобы умолк. Да и что его свидетельство в суде стоит. И меня быстренько завезли в Слуцк, потому что я покалечила слугу слуцкого ордината.
— А воевода полоцкий взял письмо от Трибунала, чтобы тебя вернуть в Полоцк. Тебя не удивляет такое внимание?
Сильфида промолчала, и Лёдник сокрушённо вздохнул.
— Ясно… И как пану Ивану посчастливилось попасть в такую историю, да ещё и тебя втянуть? Что за чушь о хранителях копья?
— Отец сделал большую ошибку, — проговорила Соломея. — Он вынес из подземелий несколько свитков… И не удержался, показал знакомому торговцу. Не мог без восхищённых слушателей.
— Подожди… Так от всё-таки нашёл Полоцкую библиотеку?
Соломея неохотно ответила:
— Именно так тот торговец и решил. А отец, вместо того, чтобы всё отрицать, давай делать намёки, цену себе набивать… Ну ты его знал. Прости, и сам таким раньше был, как начнёшь рассуждать о Великом Деянии, аурум-аргентум, хоть над ухом стрельни, хоть поцелуй — не заметишь, — Соломея тихо засмеялась, видимо вспомнив какой-то не самый почётный для Лёдника случай. — Вот и пошли слухи, чем дальше, тем больше фантастические. Торговец донёс Мартину Радзивиллу, который давал самую высокую цену за любую магическую чепуху.
Прантиш разочаровано уточнил:
— Так ничего нет? Ни рамфеи, ни миссии её хранителя?
Но Лёдник не был таким легковерным. Его голос не стал менее напряжённым.
— Соломея, ты понимаешь или нет, что стала важной фигурой в крупной политической игре? Что само присутствие тебя в стане того или другого магната будто даёт ему больше прав на корону? Из-за Елены Прекрасной, между прочим, погибла Троя и куча нетрусливых сильных мужчин. Ты владеешь каким-то тайным знанием?
Соломея ответила несколько изменившимся голосом, в котором слышалась даже властность:
— Не каждым знанием можно владеть, дорогой мой, как владеют драгоценным камнем или университетским дипломом. Не каждое ведение можно передать по своему желанию, как передают право владения домом или рабом. Вот я знаю, что я — литвинка… Что у меня есть Родина, за которую стоит умереть, что я — из славного вольного города. И отец это знал. Но как передать это ведение тому, кто не может его разделить?
— Ты считаешь, что я сильно изменился, и не заслуживаю больше доверия? — пытаясь говорить спокойно, спросил Лёдник. — Что я перестал любить свой город?
— Ты слишком долго жил на чужбине, и слишком легко покинул Родину, — промолвила Соломея. — И я помню, как за свиток с формулой ты был готов заложить душу, и пошёл бы в ученики хоть к Харону, если он откроет тебе, как делать гомункулусов… Знаешь, как отец называл тебя когда ты отсутствовал? Фауст. Наш бедный Фауст. И теперь, когда ты исчез, а твоё имущество распродали, я решила, ты снова подался в далёкие путешествия.
Пранцысь отметил про себя, что Лёднику удалось скрыть от земляков сделку с паном Агалинским.
— Что же, я заслужил такие слова. Но меня можешь не бояться, я на твои ведения не претендую — так как отказался даже от своих, — с трудом, будто ему было больно, проговорил Лёдник. — Да, я всё мог отдать за новые знания… Кроме души. Верил, что вот, пусть учусь у безбожников, которые говорят о переселении душ и утверждают, что общаются с духами, но я же только наблюдаю, и выбираю, что стоит перенимать, и всегда сумею остановиться, не переступить черты… Как будто, ступив в грязную лужу, можно выбрать сухое место. И мне страшно представить, как далеко я мог бы зайти по дороге в бездну… Но всё в воле Господа, я понял, что брать на себя роль избранного и носителя тайных вед — самое высокое проявление гордыни. Я больше не алхимик и не астролог. Я… лучше тебе не знать, насколько мало я теперь значу.
Дождь ударил в стекло мягкой невидимой лапой, будто о чём-то предупреждал.
— Бутрим, я совсем не считаю себя избранной или тебя не достойным… — огорчённо проговорила Соломея. — Я же помню, как мы ходили в Софийку, сидели над Двиной, и как ты мне рассказывал о Рогнеде и Владимире, о Евфросинии и Скорине… И о том, как Иван Грозный завоёвывал наш город, а после Стефан Баторий. Как мы лазили по стенам и подвалам, и как нашли ржавый рыцарский меч с изображением всадника… Поверь, всё, что я имею, и я сама — принадлежит тебе. Кроме того, о чём спрашиваешь. Просто это не моя тайна, я её не просила, и я над нею не властна!
— Неважно… — промолвил Лёдник. — Я за свою гордыню расплачиваюсь сполна. И не хочу, чтобы ты, пусть посвящённая не по своей воле, расплатилась тоже. Ибо если нам каким-то чудом удасться выбраться из замка — тебя сгребут другие жадные руки… Сапегов, Багинских, Чарторыйских, Понятовских… Кого угодно. А я не ради этого пробую тебя освободить.
— А ради чего? — спросила Соломея. Лёдник вздохнул, как студент на экзамене, к которому не подготовился.
— Ты должна быть вольной… Жить, как хочешь…
— Ты знаешь, чего… точнее, кого я хочу, — голос женщины звучал даже насмешливо. — Собственно говоря, я же дождалась — ты пришёл! Мой бедный Фауст…
И если бы доктор в этом момент начал говорить, что не достоин её, Пранцысь перестал бы его уважать. Но в полумраке, который начал чуть-чуть, каплей бели, светлеть, Лёдник только поднёс к губам руку женщины, будто клюнул носом. У Вырвича в очередной раз шевельнулась обида: и почему этого страхолюдного неудачника любят самые красивые женщины? И ещё мелькнула мысль: а Полонея Багинская наверняка тоже хочет заполучить ту реликвию! Быть может, с помощью рамфеи, копья Святого Маврикия, мягкий по характеру, но образованный и к искусствам склонный князь Михаил Багинский станет королём Речи Посполитой? Это будет, наверное, намного лучше, чем очередной саксонец, россейский ставленник, или безумный Героним Радзивилл… И что, если ту рамфею добудет шляхтич Пранцысь Вырвич? На трон его самого, конечно, навряд ли посадят, нужно даже в мечтах знать пределы… Но он может торжественно передать святыню будущему королю и тем как бы возвести его на трон. Пранцысь Вырвич, благодетель короля! Тогда юная Багинская посмотрит на него, как на равного!
Вырвич сам не заметил, как от сладких грёз задремал, и снились ему золотые фанфары, которые беззвучно играли славу герою, выглядывая из облаков, как трубки огромной волынки. Прантиш стоял просто на тучке под дождём из невесомых роз, созданных из завитков пара, и силился расслышать хоть кусочек торжественной мелодии в свою честь. Он знал, что фанфарам подпевает ангельский хор, но его тоже не было слышно. Тихо, падают, как снежные комья, розы. Тают в воздухе… Вдруг слух начал улавливать отдельные звуки… И они стали слагаться в похоронный марш. От возмущения Вырвич проснулся… А ещё от того, что Лёдник дёрнул его за рукав.
Возможно, солнце и подумывало вынырнуть из ночной бездны, но не решалось, потому что тучи так плотно застилали небо, что через них всё равно невозможно было показать свою сверкающую красоту измазанной осенней слякотью земле, а стоило ли в таком случае беспокоиться?
Меж тем у ворот послышались какие-то звуки, замелькали огни…
— Всё, время! — сжатым голосом произнёс Лёдник.
— Ты так и не сказал мне… — тихо промолвила полочанка, превращённая в арапку.
— Я был дураком, — просто признался бывший алхимик. — Не знаю, простишь ли меня. Ты — лучшее, что могло бы со мной произойти. Но теперь уже слишком поздно.
— Никогда не бывает поздно, поверь, — уверенно прозвучал глубокий низковатый голос Соломеи Ренич.
У ворот происходила какая-то суета и слышались непонятные жалобные выкрики, не похожие на человеческие. Лёдник шёл впереди, выпрямившись, как полководец, Пранцысь нёс за ним чемодан с лекарским инструментарием, негритянка, ссутулившись, спешила за ними мелкими шагами. На подходе к воротам Лёдник начал выкрикивать по-немецки:
— Приказ его княжеской милости!
Все испуганно рассыпались по сторонам. Лёдник подошёл к начальнику караула и недовольно поинтересовался:
— На этот раз не тюленей и слона ли привезли?
— Точно так! — с облегчением ответил начальник караула, немолодой рыжеватый пруссак, на лице которого читалась такая растерянность, какой не могла вызвать самая жестокая и безнадежная баталия. — Никто ничего понять не может. Приезжие кричат, чтобы сей же час дали им телеги, потому что слон сдохнет, тюлени разбегутся, арапы тоже… Говорят — его княжеская милость заказывал этот зверинец в самом Гамбурге, вот они приехали, слон заболел, задержались в Тройчанах, до утра ждать не могут, так как тюленям нужны новые бочки с водой, старые разбились… Предводитель, нахальный молодец, требует, чтобы сейчас же доложили об их приезде князю, иначе тот разгневается. Но если его милость князя разбудим, что, не разгневается? Майн готт, что такое тюлени, герр Лотман? Это хищники?
— Морские животные, и если близко не подходить, не съедят. Князь как раз дал мне распоряжение насчёт этого зверья, — властным голосом объяснял Лёдник. — Бессонницей страдал его милость, и вспомнил, что должны тюленей привезти, крики которых успокаивают бурление крови. Но дал указание, которых тварей пускать в замок, а которых нет.
Дайте мне переговорить с гостями.
— А негритянка вам зачем? — с подозрением поинтересовался начальник караула.
— Ну, если вы, герр офицер, знаете арапский язык, эта женщина нам действительно не понадобится. Вы вместо неё поможете нам объясниться с неграми и африканским слоном, которого привезли князю, — в голосе Лёдника было столько яда, что офицер махнул рукой, и доктор со своими спутниками прошли вперёд, к выходу из ворот. На той стороне моста виднелось несколько всадников и телега, на которой что-то ворочалось и жалобно не по-человечески кричало.
— Опустите мост, я должен переговорить с тем человеком, — приказал Лёдник. Офицер перевёл приказ, жолнеры бросились выполнять. Молодой человек, размахивая бумагой, перебежал через мост, и Пранцысь с удивлением узнал Игната Менчинского в одежде купца и с бородой.
— Панове, вот письмо князя Радзивилла! Неужели вы осмелитесь не пустить в замок приобретённых им животных?
Лёдник холодно спросил, разговаривает ли пан понемецки, и купец повторил всё на ломаном языке бюргеров.
— Спокойно, пан, не спешите! — сурово проговорил Лёдник. — Во-первых князь у вас ещё ничего не купил, даже канарейки. Во-вторых, из того, что вы привезли, князь приказал отобрать животных и негров определённого сорта. Его милость узнал, например, что тюлени с особой формы белым пятном и негры с особым клеймом могут быть связаны с демонами. Короче, пойдём, я сам осмотрю привезённое, а эта арапка разберётся со своими единоплеменниками.
Менчинский развёл руками, будто с досадой, и молча поклонился.
— Это недалеко, ваша милость. Можете воспользоваться нашей телегой — на ней только маленький тюлень, мы его привязали, он безвредный. А эту дикарку я посажу на своего коня.
Менчинский схватил Соломею за руку и повёл к лошадям.
Пранцысь двинул следом. Лёдник повернулся к караулу:
— Я пришлю сказать, сколько нужно бочек с водой.
— А адской кареты за тобою не прислать? — вдруг послышался издевательский голос. Одноглазый жолнер осветил фонарём лицо Лёдника. — А я думаю, что за голос знакомый? Вот пан Юдыцкий обрадуется!
— Не понимаю, о чём сударь говорит, — по-немецки ответил Лёдник, не меняя голоса, и повернулся, чтобы уйти…
— Хватай шпика! Это не немец, это Балтромей Лёдник, чернокнижник, который от Юдыцкого сбежал! — заорал жолнер. — И помощник его шпик! Держите!
Жолнеры выхватили сабли, начальник караула твёрдо промолвил:
— Останьтесь, пан доктор. Этот человек утверждает, что вы — не тот, за кого себя выдаёте. Мы легко выясним, врёт ли он.
— Только после того, как я выполню приказ князя, — возразил Лёдник. Офицер колебался, в то время, как жолнер кричал:
— Да это же он меня глаза лишил! Пришелец поганый! Посмотрите на его лоб — пан Юдыцкий приложил!
Прусак тронул рукой саблю, что все посчитали знаком тревоги.
— Эй, вы, тоже стойте! — крикнул один из офицеров тем, кто уже очутился по ту сторону моста, и кто-то из солдат двинулся, чтобы их задержать.
— Делайте, что должны! — крикнул изо всей силы Лёдник и выхватил саблю. Менчинский понял его, вскочил на коня, и, крепко держа в объятиях негритянку, пустился карьером. Трое, которые были с ним, тоже пришпорили лошадей и отправили пару пуль в сторону преследователей, чтобы пригасить их порыв. А у жолнеров Радзивилла на выходе из ворот оказалось препятствие в виде одного, но боевитого доктора, сабля которого мелькала, как крылья взбесившейся ветряной мельницы.
Лёдник понимал, что при всём упрямстве и хорошей стратегической позиции хватит его ненадолго, но каждая выиграная секунда добавляла песчинку на чашу весов, которые взвешивали вероятность спасения Соломеи Ренич. Путь на ту сторону моста был не для него. Вдруг рядом послышался ухарский крик, и жолнеры встретились ещё с одной саблей.
Лёдник простонал сквозь зубы:
— Вырвич! Какого рожна ты вернулся?
— Я своё имущество не бросаю! У меня его не так много! — с весёлым цинизмом прокричал Пранцысь, радуясь, что наконец распрощался со своим «немецким молчанием», и что можно заняться настоящим шляхетским делом и испытать свою фехтовальную науку.
В замке протрубили тревогу. Зазвонили колокола… Похоже, обнаружился и побег Сильфиды. Теперь поднимется весь гарнизон. Лёдник и Пранцысь стояли в воротах, плечо к плечу, запыхавшиеся, потные… А на них направили стволы ружей столько солдат, сколько смогло поместиться в проёме.
— Ну зачем ты вернулся… — как-то тоскливо проговорил Лёдник. — Всё мне испортил, глупый мальчишка. Я бы сейчас мог…
Он не договорил, но Вырвич понял: Лёдник намеревался драться до последнего, выживание в эти планы не входило. А теперь из-за Вырвича он не может так сделать, и придётся сдаться, а потом — подвалы, что хуже смерти.
— Я тоже смогу! — отчаянно крикнул Прантиш, и с саблей рванулся на ружья:
— С дороги, трусы! Гиппоцентавр идёт!
Лёдник попробовал опередить парня, по привычке заслонить… Но пули в самоубийц не полетели, значит, кто-то успел отдать приказ — брать шпионов только живьём. Строй вооружённых ружьями мушкетёров расступился, и на двух вояк набросили сети.
Когда их скрутили, Прантиш со свежеподбитым глазом спесиво заявил:
— Руки прочь, холопы! Я шляхтич! Я требую, чтобы ко мне относились соответственно моему званию!
— Для шляхтичей, ваша милость, у нас есть специальные ямы в подземельях! — с издёвкой ответил один из жолнеров.
А Лёдник, невероятно зля конвоиров, мечтательно улыбался. Он был уверен, что Сильфида в этот жуткий замок не вернётся.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В подвалах Слуцкого замка
| У |
каждого в детстве есть какое-то мнимое страшилище, которое обрастает подробностями и пугает больше, чем что-то реально опасное. Дед Бабай с выпученными красными глазами, горящими как пламя, и жёлтыми, до колен, клыками, который ходит ночами по чердаку, намного страшнее, чем чёрное око проруби, в которое заглядываешь, стоя на подтаявшем льду, или соблазнительно блестящие волчьи ягоды. Хоть несчастный Бабай ещё не убил никого, а в проруби погиб не один любопытный малыш…
Настоящая опасность никогда не выглядит такой страшной, как выдуманная.
Прантиш столько раз представлял себе ужасы подземелий Геронима Радзивилла, что, попав туда, почувствовал даже непонятное облегчение: ну вот и случилось то, чего боялся больше всего на свете.
Помещение со сводчатым потолком, камином и двумя каменными колоннами, куда затолкали пленных, не было в самом низу, под землёю, наоборот — оно располагалось первым от входа, эдакое чистилище перед спуском в ад, парадная комната Аида. Не было кровавых потёков по стенам или скелетов в углах. Серый камень, тёмный мох в щелях. Здесь запросто могли бы храниться мешки с зерном, кадки с салом или другие мирные привычные вещи. Разве что для освещения комнаты не пожалели целых четырёх фонарей, по одному в каждом углу — видимо, чтобы не пропустить самое малое движение узника. Было и маленькое оконце, в котором виднелся серый клок неба и сиротливый куст травы, сгибавшийся от порывов мокрого ветра. Значит, крики отсюда могли радовать князя Геронима, даже если бы он не присутствовал на допросе, а находился в своих покоях. Пранцысь представил, что каждая такая камера с окошком — специальный музыкальный инструмент боли, из которых состоит настоящий, а не театральный оркестр Слуцкого замка…
А князь Героним наверняка к ним заявится! Чтобы лично задать вопросы… Пранцысь, видимо, при этой мысли замедлил шаг, потому что его подтолкнули в спину. Школяр в очередной раз прокричал:
— Я шляхтич! Повежливее, собачьи морды!
— Да мы ничего плохого благородному пану не сделаем, — с издёвкой заверил Прантиша толстый тюремщик. — Вот сюда присядьте, ваша милость, на эту скамью…
Вырвича усадили на каменную скамью у стены справа от окна и надели на руки кандалы, прикреплённые к сиденью, так что Прантиш мог достать до своего носа только низко наклонившись. Двое тюремщиков отошли полюбоваться своей работой:
— Ну вот, удобно пану? Нигде не жмёт?
Пранцысь горделиво закинул голову:
— Я лично спущу шкуру с ваших спин за оскорбление шляхетской чести!
Но на него уже не обращали внимания… Потому что занимались Лёдником, и именно ему, похоже, отводилась главная роль в предполагаемом спектакле со многими действиями. И Прантишу очень не понравилось то, что творили с его слугой. Лёднику приказали раздеться до пояса и разуться, что он не торопясь и сделал, на сухом месте у стены аккуратной стопочкой сложил одежду. На его жилистом подтянутом теле были и «шляхетские подписи» — видимо, пан Агалинский воспитывал должника, и шрамы, покинутые саблями да пулями, кои конвоиры посчитали доказательством его маскарада: откуда такое у обычного доктора? Когда тюремщики ещё увидели на груди Лёдника серебряный православный крест, разъярились лютее, обругали «московских собак», проклятых шпиков, но снимать крест и бить узника не стали. Видимо, потому, что пока не получили по поводу его никаких распо-ряжений. Только паюк с удовольствием потоптался грязными сапогами по аккуратно сложенной Лёдниковой одежде. За это время один из конвоиров разжёг камин, и навряд ли для того, чтобы пленникам было тепло. Тем более, в углу у камина громоздились страшные железные приспособления, совсем не похожие на обычную кочергу.
Доктора поставили меж двух каменных столбов лицом к окну и приковали цепями за руки и ноги, так, что он напоминал рисунок идеального человека Леонардо да Винчи, хотя такого носа у идеального человека точно быть не может. Лёдник молчал, на его худом лице нельзя было прочесть ничего, кроме презрительного безразличия. Зато Пранцысь межвольно начал дрожать, и не знал, сможет ли достойно выдержать зрелище, которое здесь готовилось. Наконец все вышли, оставив узников одних. Лил дождь, его шум казался зловещим, так как крики и стоны из глубин подземелий он заглушить не мог, и они более не были призрачными.
— Пранцысь! — твёрдо вымолвил Лёдник. Вырвич с трудом заставил себя поднять глаза.
— Посмотри на меня! — властным голосом проговорил доктор. — Что бы сейчас не происходило, просто закрой глаза и думай об ином. О Полонее Багинской, о латинских спряжениях… Да хоть бы о своём друге Воронёнке. Помнишь, как мы упражнялись — концентрация, считаешь свой пульс, следишь за дыханием… Помнишь?
Пранцысь кивнул, пробуя проглотить давкий ком страха.
— И главное, что бы со мной ни делали — молчи! Уловил? — продолжал наставления Лёдник, и Пранцысь снова смог только кивнуть головой. Доктор понял его состояние и улыбнулся — откровенно, широко, как никогда раньше не улыбался, даже лицо его помолодело и покрасивело.
— Ну, выше нос, Гиппоцентавр! Мы выберемся!
Брякнули засовы, распахнулась дверь, и вошёл человек, которого видеть Пранцысь хотел бы ещё меньше, чем князя Геронима — одноглазый жолнер. Его мягкое лицо с двойным подбородком совсем не подходило вою. Потерянный глаз прикрывала чёрная повязка, а второй горел лютой ненавистью. Одноглазый не обратил никакого внимания на Пранцыся. Он медленно обошёл вокруг доктора, зрелище явно приносило ему наслаждение.
— Что же, ты человек, по-видимому, тёртый… Не простой доктор-клистирник. Воевал, плетей попробовал… И, наверное, ничего и никого не боишься… Да?
Остановился перед узником почти вплотную.
— Ты думал, я сдохну? Думал меня более не увидеть, а, ведьмак? Ты ошибся, мы, мужчины из рода Прашковичей, живучие… А ещё мы ничего не забываем. — Рот одноглазого растянула невесёлая улыбка. — Мой дед был жолнером в войске Станислава Лещинского, когда тот воевал на стороне шведского короля. И однажды однополчанин обыграл деда в кости, перед этим напоив водкой из красивых таких маленьких стеклянных рюмок с изображениями райских птичек, которые носил на счастье в специальной коробке, набитой соломой. Подливал, подливал — за дружбу, говорил, нельзя не выпить. И дед, чтобы отыграться, даже ружьё поставил. А назавтра на построении, на которое дед, естественно, пришёл без ружья, его отлупили, едва не расстреляли. А однополчанин смеялся… Как ты, когда бросил мне в глаз это…
Прашкович резким движением поднял просто перед лицом узника бронзовый стержень.
— Узнаёшь? — мягкое лицо Прашковича было совсем близко от мрачного лица Лёдника, а блестящий, старательно заострённый конец древнегреческого стила, которое принадлежало когда-то школяру Воронёнку, едва не касалось глаза доктора. — Так вот… Мой дед выжил, и его счастливый соперник тоже. Они по-прежнему считались друзьями. Тот мерзавец даже в знак примирения и дружбы подарил деду одну рюмочку с райскими птицами. По дороге домой они остановились в трактире и заказали свиные рёбрышки с фасолью. После которых у однополчанина начался кровавый понос. Потому что в его тарелку дед мой высыпал давно подготовленное истолчёное в пыль стекло от той самой рюмки. Однополчанин умер там же… Будто бы от несварения. Трактирщика оштрафовали — за некачественную пищу. Тебе нравится такая история, ведьмак?
Пранцысь хотел было высказать свою мысль о гнусности и подлости услышанной истории, но встретил твёрдый взгляд Лёдника и сдержался.
Прашкович говорил, будто мурлыкал кот, который подбирается к птице, попавшей в силок. Вдруг голос его изменился, зашипел по-змеиному, стило коснулось щеки Лёдника, будто ужалило…
— Как бы я хотел выколоть этой штукой оба твои нахальные глаза! — теперь Прашкович даже трясся от ненависти, обманчивая мягкость покинула его лицо. — Или загнал бы её в твою печень, и смотрел бы часами, днями, как ты медленно кончаешься!
На минуту Пранцысю показалось, что жолнер выполнит свои слова, но тот отвёл стило и вымолвил:
— Но его княжеская милость захочет получить тебя целым. Поэтому я не могу существенно попортить твой вид.
— Так, возможно, тебе стоит пропустить князя вперёд? — иронично спросил Лёдник.
Прашкович зло рассмеялся.
— После князя мне уже ничего не останется, дурак. Ни вершка целой шкуры. Твоё счастье, что его княжеская милость срочно отъехал — на переговоры с вашим хозяином Сапегой. Но против того, чтобы тебя немного пригладили, подготовили, князь ничего не имеет. И ты сто раз пожалеешь, что бросил в меня этот гвоздь!
Прашкович поднял остриём вниз стило, которое, очевидно, искренне считал гвоздём, и с криком наслаждения всадил его в грудь Лёдника, направив, чтобы стержень прошёл под кожей. Лёдник сдержал стон, только дыхание его на мгновение прервалось. Палач отошёл, понаблюдал… Потом осторожно, будто выполнял тонкую работу ремесленника, начал толкать видимый конец стила так, чтобы остриё показалось из-под кожи… Ухватил его, вытянул, как сапожную иголку.
По груди Лёдника побежала тонкая тёмная струйка.
— Никакого существенного вреда, правда? — голос Прашковича мерзко дрожал от удовлетворения. — Но ведь больно не меньше, чем если бы я рубил тебя саблей. Я вышью этой иголкой на твоём теле всю свою боль, паскуда!
И всадил стило в плечо доктора. Снова протянул его сквозь рану под кожей. Медленно-медленно, ловя наименьшие проявления боли…
Вырвич словил злой взгляд Лёдника и послушно закрыл глаза. Постарался вспомнить улыбку Полонейки… Синие очи Сильфиды… Грациозные движения Михалишивны… Считал удары собственного сердца… Но слышал только неровное дыхание Лёдника, которое время от времени замирало. А тут ещё одноглазый жолнер, не прекращая своей ужасной работы, начал напевать знакомую песню:
— З вушак будуць нажнiчкi,
З вушак будуць,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Нажнiчкi.
З зубоў будуць пацеркi,
З зубоў будуць,
Лiгiцiгi-лiгiрулi, вой ды з мазурамi, Пацеркi…
Самое мерзкое, что палач ни о чём не спрашивал, ему не нужно было от узника ничего, кроме боли… Вырвичу показалось, что этот ужас тянется бесконечно. Закричать? Оттянуть внимание на себя? Но Лёдник не даст этого сделать, специально разозлит мерзавца, и будет ещё хуже. К тому же настоящие пытки ждали впереди, очередь должна дойти и до молодого шляхтича.
Во дворе послышались крики, кто-то приказывал открывать ворота… Захлопали двери в подвале. Песня про мазура и сдохшую кобылу умолкла.
— Теперь ты меня запомнишь! И гвоздь твой возвращаю…
Пранцысь открыл глаза: одноглазый стоял за спиной Лёдника и снова орудовал стилом, медленно загоняя его под кожу узника. Но доставать не стал, потёр руки и ушёл, довольный, пьяный мучениями врага. Двери хлопнули, як челюсти людоеда. Пленные снова остались одни.
Доктор выглядел… Плохо выглядел. Он почти висел на цепях, тёмные слипшиеся волосы закрывали опущенное лицо.
Пранцысь севшим голосом проговорил:
— Доктор… Эй, доктор…
Лёдник встряхнул головой, выпрямился, твёрдо стал на ноги.
— Этот гицель совсем не знает анатомии, — голос его не изменился совсем — таким только лекции нерадивым студентам читать. — Сведущий в расположении болевых точек человек мог причинить гораздо больше вреда.
— Ты — как?..
— Как заштопанный сапог.
Пранцысь едва не рассмеялся с облегчением — если бы слёзы не душили.
— Жаль, ты не убил эту сволочь тогда, в карете!
— Никогда не нужно жалеть, что не отобрал у кого-то жизнь, — поучительно промолвил Лёдник. — Не ты же ее давал. А таких, как Прашкович, я считаю больными. В Париже видел я кучку развращённых людей, настоящих сумашедших, которые называли себя «либертенами». Они во время оргий хлестали один другого плётками, втыкали в тело иголки… Наибольшее наслаждение, однако, получали, когда нелюдски издевались над беззащитными жертвами. У Прашковича те же симптомы, что и у них, он даже слюну пускал, когда чувствовал, что мне больно. Так что теоретически и я мог бы иметь удовольствие от его манипуляций.
Прантиш не мог не улыбнуться от ироничного тона доктора. Но сейчас же навалился позорный страх. Первое действие окончено. А дальше? Ясно, что слова «мы выберемся» бывший алхимик бросил, просто чтобы успокоить хозяина. За дверью камеры, в коридоре, что-то грохотало, слышались глухие вскрики, будто кто-то прощался с жизнью.
— Доктор, а если человеку суждено умереть в пыточной, это в гороскопе предсказывается? И на ладони написано?
— Выбрось эти мысли из головы! — звякнул цепями Лёдник. — Ещё недавно бежал с саблей на ружья с криком «Гиппоцента-авр», а теперь? Даже линии на руке могут меняться, если их владелец не теряет головы в самой отчаянной ситуации.
— Ага, сейчас Сильфы к нам прилетят, или Краснолюдки через землю пророются… А может, Гиппоцентавр в дверь вломится?
Дверь распахнулась со страшным грохотом, исполинская фигура возникла в проёме, и чьё-то тело кулём упало на пол.
Пришелец сделал шаг в ярко освещённое помещение, свет фонарей засеребрился на бровях и веках, заблудился в бездонных глазах непонятного цвета. Герман Ватман! Пранцысь не верил своему зрению. Перевёл взгляд на того, кто неподвижно лежал на полу… Одноглазый «либертен» Прашкович!
Между тем Ватман со своей обычной жестокой усмешкой неспешно обошёл вокруг Лёдника.
— М-да, как-то не отважился бы я ходить лечиться к доктору, который так часто попадает в подобные ситуации.
— Пан пришёл проверить, в какой я ситуации? — холодно поинтересовался Лёдник.
— Не поверишь, но угадал! — Ватман потряс связкой ключей, примеряясь, какой из них — от цепей.
— Вас прислала Полонея Багинская? — вскрикнул с радостной надеждой Прантиш. Ватман бросил на юношу насмешливый взгляд.
— Пан… Вырвич, если не ошибаюсь? Вы по-прежнему считаете, что мир крутится вокруг вашей драгоценной персоны, и панне Полонее больше не о ком вспоминать, как о недоучившемся школяре?
Начал отмыкать цепи Лёдника.
— Дело очень простое… Его княжеская мость Героним Радзивилл не сомневался, что одна исчезнувшая из его замка прекрасная особа очутилась у князя Сапеги. И прискакал к нему на переговоры, прихватив мушкетёров. Вот такая диспозиция… Сапега с названной особой не может оставить кавалергардию, но к нему, узнав снова-таки о присутствии той особы, приехал на помощь мой пан, воевода Багинский со своими жолнерами. А упомянутая прекрасная особа, очень, кстати, дерзкая, объявила панам Сапеге и Багинскому, что передаст интересную им вещь только в обмен на жизни двух лиц, которые находятся сейчас в этом помещении. Этого мы, конечно, не считаем… — Ватман кивнул в сторону Прашковича. — Поэтому Сапега отказался вести переговоры с Радзивиллом, пока тот не предоставит точных известий, что особы живы и здоровы… А пан Багинский поручил проверку мне.
Вот я и приехал. С письмом от князя Геронима Лысого, Как Колено. Ну и с тайным поручением попробовать вас вывезти.
— Твой пан будет главным претендентом на тайну прекрасной особы? — спросил Лёдник, с облегчением опуская освобождённую руку.
— Точно так! Вот я и зашёл сюда… С двумя провожатыми. Только у них сразу за дверью ноги подвернулись и шеи свернулись. Такое вот неудобство. А тут этот… под руку попал.
Узнал меня, верещать начал, что я шпик…
— Вы его убили? — поинтересовался Пранцысь без особенной жалости к Прашковичу.
— Зато теперь у него точно оба глаза. На том свете калек ведь нет, — поучительно молвил Ватман.
Упала последняя цепь с Лёдника, и доктор утомлённо опёрся руками о столб. Через какую-то минуту был освобождён и Пранцысь. Школяр подбежал к доктору и взглянул на его спину: стило было воткнуто под левой лопаткой. Вырвич осторожно достал тонкий окровавленый стержень и хотел брезгливо отбросить в сторону, но Лёдник задержал его руку:
— Дай сюда…
Ватман многозначительно кашлянул:
— Если паны никуда не спешат, я могу их оставить в этом приятном месте. Но, боюсь, что какого-нибудь покойника в этих коридорах мне не удалось спрятать как следует, и сейчас прямиком к нам явятся проблемы… с ружьями, сабельками и шестопёрами. Понимаете, где ни пройду последнее время, — скромно заметил наёмник, — вокруг меня свеженькие покойники появляются. Планида, видимо, такая.
Лёдник натянул на себя одежду, причём молодой хозяин на этот раз не побрезговал сам ему помочь.
— Доктор, ты хоть можешь двигаться? — на всякий случай спросил Вырвич, которого смущало, что рубашка его слуги сразу окрасилась красными пятнами.
— Перестаньте беспокоиться из-за нескольких царапин! — раздражённо ответил доктор, застёгивая чёрный камзол, под которым скрылась запачканая рубашка, будто никакой страшной сцены и не было.
За окном прогрохотали по мостовой колёса…
— Это мои ребята приехали. Пойдём! — скомандовал Ватман, взяв в одну руку пистолет, в другую саблю. Оружие одноглазого по праву того, кто выжил, досталось Лёднику.
Ватман шёл, как могучий зверь, немного нагнув голову, будто собирался пробивать ею стены. Никого живого по дороге не встретилось… Мёртвые — да, были. Чаще всего с переломанными шеями — видимо излюбленный приёмчик Ватмана. А вот когда двери из подвала приоткрылись, Ватман разочаровано вздохнул. На выходе стояла кучка жолнеров, которые показывали пальцами в сторону какой-то повозки, которую сейчас обыскивали. Всё поливал унылый дождь.
— Влипли мои ребята. Надобно придумать другой план, — шепнул Ватман Лёднику и Пранцысю, которые прятались за дверью, над трупом караульного ватманской работы. — Всех мне не перебить.
В голосе наёмника, когда он произносил последнюю фразу, слышалось грустное сожаление.
— Если бы пробиться к Малому дворцу, к конюшне… Вон туда… — молвил доктор, показав на дверь, за которыми Пфальцман доводил до ума железную черепаху. Ватман кивнул головой.
— Можем добежать. Если вы будете в мундирах, — показал на труп караульного. — И если сюда раньше времени не войдёт кто-нибудь — снаружи или снизу. Скажу честно — если бы вас отвели ниже, а где заканчиваются эти подземелья, я не знаю, — даже у меня могло ничего не получиться. Ну а если очутились бы в башне Верхнего замка — всё, панове, могила.
Сквозь ливень фигуры в замковом дворе казались размытыми, неестественными, как отражения в воде. Когда трое немного взволнованных жолнера приблизились к Малому дворцу, от Копыльских ворот бешеным карьером, разбрызгивая дождь, слякоть и тревогу, влетела кавалькада. Тот, кто ехал первым, орал, как резаный:
— Приказ князя! Шпиков в башню! Доктора с пацаном! Стеречь! Не трогать!
— Всё, доложили тронутому о торге, — прошипел сквозь зубы Ватман. — Будет нам свадьба с расколотой квашнёю… — Быстрей! — выкрикнул Пранцысь и бросился в конюшню, приспособленную под мастерскую.
Казалось, подземелье слуцкого замка беззвучно завыло им в спины, как голодное чудище, из челюстей которого вырвалась почти съеденая вкусная жертва.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Последний путь
железной черепахи, или рождение
Слуцкого дракона
| Ж |
елезная черепаха была на месте, и Пфальцманы в полном составе с их слугою Генрихом в придачу. Только никак нельзя было сказать, что у них кипит работа, хотя из черепахи шёл пар, видимо, герр Якуб проверял действие двигателя. Фрау Эльза злобно плакала на плече у мужа, усатый Генрих, похожий на лишённого хатки бобра, понурившись как над гробом, мучил в руках шапку, а напротив сердитый пан в мундире полковника Радзивилловского войска сурово выговаривал:
— За укрывательство шпионов! За предательство его княжеской милости!
Двое паюков многозначительно покручивали в руках сабли, время от времени боязливо, со скрытым интересом косясь в сторону «дракона».
Бой был недолгим. Ватман брезгливо выпустил из рук два тела с разбитыми головами, и теперь их освобождённые души непонимающе оглядывались где-то рядом — что это с ними произошло? Лёдник аккуратно вложил окровавленное оружие в ножны и мрачно посмотрел на испуганных Пфальцманов. У Пфальцмановой жены будто отпустило какую-то пружину, она бросилась на Бутрима с кулаками:
— Всё из-за тебя, проклятый еретик!
Переключилась на Пранцыся, нацелилась худыми пальцами в его честные глаза:
— Лжец! Лжец!
Изобретатель схватил фрау в обьятия, что мало помогло, и с отчаянным вопросом, шатаясь туда-сюда волей своей фрау, посмотрел на однокурсника. Тот пожал плечами.
— Порадовать нечем. Если не уйдём отсюда — смерть ждёт всех мучительная и неизбежная. Героним Радзивилл ничего не прощает.
— Что же делать? Что делать? — губы Пфальцмана тряслись, как холодец на свадебном столе во время танцев.
— Могу сразу прирезать, чтобы не мучились, — вежливо предложил немцу Ватман, как будто предлагал нюхательную соль. Пфальцманы его своеобразный юмор не оценили, и фрау начала с бледным лицом падать на землю.
— Значит, с бабы нужно начинать, вон какая дохлая, толку от неё… — меланхолично заметил Ватман, и фрау быстренько встала на ноги, протыкая злобным взглядом выпуклых серых глаз наёмника Багинских.
— Якоб, твоя машина готова? — мягко спросил Лёдник. Пфальцман испуганно моргнул, румянец возвратился на его обрюзгшие щёки.
— Ты хочешь… Ты хочешь… Чтобы мы…
— А ничего другого не придумать. Давай испытаем твою машину, насколько она стоящая.
Якоб растерянно посмотрел на жену, но та временно лишилась способности давать советы, и решился, чему немало поспособствовало то, что в запертые на засовы ворота конюшни начали настойчиво колотить.
— Садитесь! Хоть всем будет тесновато… И жарко.
— Потерпим, не восковые! — ответил Лёдник.
Когда Пфальцман уселся за рычаги своего изобретения, сразу изменился: движения и голос приобрели уверенность, даже черты лица подтянулись. Тем более жена лежала теперь буквально у него под ногами, положение, к которому видимо не привыкла. Но иного места не нашлось — все и так жались друг к дружке, как орехи в горле рождественского гуся.
Поддерживать огонь в котле поставили Ватмана — хоть рвался Лёдник, который по привычке не желал признать себя покалеченным и не самым сильным. Доктора усадили на ящик с углём. Пранцысь и кучер Генрих пристроились по бокам, где были орудия, их успели установить всего восемь. Между спинами школяра и кучера были зажаты бочонок с порохом и ящик с ядрами
Огонь в топке гудел, вода в котле, который находился снаружи, закипела, запахло раскалённым железом, черепаха выплюнула струю пара…
— Шнель! — воскликнул Пфальцман, дёрнул рычаги, тронулись с места шатуны, будто перебирало ногами огромное насекомое. Завращались колёса и колёсики, звякнули щиты черепахи, смыкаясь, от чего внутри стало темно и жарко, как в бане.
Видимо, грохот, который создавала черепаха, услышали снаружи, потому что ворота ломать перестали.
— Франц, стреляй! — приказал Пфальцман, и Прантиш зажёг фитиль миниатюрной пушки, которая находилась в специальном жёлобе наверху, так что её отдача не делала вреда.
Ядро врезалось в створки ворот, и те разошлись, закачались, как будто тоже желали удрать…
А потом начался местный Апокалипсис.
О том событии свидетели долгими зимними вечерами рассказывали своим внукам и правнукам, а те передавали дальше. Рассказ о беларусском драконе-людоеде, из ноздрей которого шёл чёрный дым, приобрёл жалостливый сюжет, обогатил репертуар лирников и прибавил образованным лицам скептицизма насчёт возможности исправить мифологическое сознание здешнего тёмного люда с пережитками языческого мировоззрения.
Естественно, если бы радзивилловские слуги не растерялись, если бы действовали, как должно, шансов у медлительной машины не было бы. Но все просто разбегались со знакомыми до зубной боли криками «Цмок! Цмок» — «Дракон!». Тем более теперь черепаха могла стрелять во все стороны, а вот её блестящие щиты не брали никакие пули. Вокруг машины вился дым, который выглядел бы ещё более устрашающе, если бы сейчас же его не прибивал дождь, как хлопотливая хозяйка — залетевшую муху. А здесь ещё к бурной беседе присоединились небесные силы — поздняя гроза послала на Слуцк целый крылатый гусарский отряд молний, и присутствующие во дворе Нижнего замка тут же связали это явление с железным чудищем.
Черепаха со скоростью обычного прохожего направлялась в сторону ворот около бани, где был опущен мост. Нет, его начали поднимать те, кто не совсем потерял голову… Но пара выстрелов из пушки — и порыв старательных охранников растаял, как соль в бульоне.
Где-то стучал молоток оружейника, безразличного к суете человеческой — мастер изготавливал очередное приспособление для защиты от смерти, дорогой кольчужный панцирь, что благородный шляхтич сможет надеть под сарматскую чугу, прежде чем идти на сойм, который обязательно в этой несчастной державе закончится сечей. А рядом, в кузнице, хлопотал молоток кузнеца, ковал инструмент смерти — шестопёр, булаву с острыми пластинами, который не заметит тонкий панцирь и честно переломает рёбра шляхтичу в сарматской чуге, проголосовавшему не за того кандидата или использовавшему своё «либерум вето» и сорвавшему сойм, как сбежавшая невеста — свадьбу.
Дождь лил, железное чудовище, выдыхая огонь, с ревом ползло по Слуцку, горожане закрывали ставни и читали молитвы. О том, что делается в княжеском замке, давно ходили самые ужасные слухи, и когда оттуда выполз дракон, это никого не удивило. Горожане легко поверили бы и в то, что подобный облик принял сам князь. Жолнеры, обязанные выполнять свой долг, тянулись за страшилищем на безопасном расстоянии и время от времени постреливали в него из-за строений. Черепаха плевала в ответ одиночными выстрелами из пистолетов.
Машина приближалась к рынку, сейчас пустому — не потому, что торговцы побоялись дракона и стрельбы, нет, слуцких торгашей не напугал бы и дождь из смолы, если бы при этом кто-то, хоть бы и с рогами, продолжал покупать огурцы и сало. Но в такой ливень надежд на покупателей не было, даже на русалочьих. Хотя несколько телег с бочками стояли, от них за версту шёл аромат подгнившей селедки.
Ватман унюхал этот запах издали и крикнул Пфальцману:
— Герр, как там тебя, твоя колымажка может прокатиться сама по себе хоть несколько саженей?
— В принципе, может… Если разогреть двигатель хорошо, и я закреплю рычаг… — прокричал в ответ Пфальцман.
— Тогда внимание, гражданские! Сейчас мы поровняемся с возами, на которых стоят бочки. В бочках, миль пардон, не совсем свежая селедка. По моему знаку приоткрывается щит с этой стороны, все выскакивают, как крысы из печи… Кто сможет незаметно залезть в бочки, лезет и спасается. Кто медлит, брезгует, или боится — предупреждайте сразу, но должен сказать, что уголь всё равно заканчивается.
Естественно, никто не промолвил ни слова.
— Подмени меня немного, заштопанный, — попросил Ватман Лёдника, припал к одной из щелей и как-то особенно свистнул.
— Ну, если, сучьи дети, не выполнили приказ и разбежались, прибью…
Свистнул ещё раз… Наконец послышался свист в ответ. Из-за рыночных прилавков высунулись испуганные физиономии, недоверчиво всматриваясь в железного дракона.
— Вырвич, стрельни хорошенько во все стороны, кроме этой!
Густое облако чёрного дыма на минуту закрыло черепаху, преследователи попрятались. Никого не удивило, когда ошалелые кони понесли куда-то в боковую улочку телеги с бочками, которые стояли около рынка. Черепаха бодро проползла ещё десять саженей и медленно остановилась, выпуская клубы пара. Её маленькие многочисленные колёса-лапки грозно застыли, будто готовясь к неудержимому рывку.
Погоня затаилась. Чего ждать? Новых выстрелов? А может у дракона сейчас вырастут крылья, выдвинется голова на длинной шее и начнёт плеваться огнём? Образованные офицеры справедливо считали, что беглецы готовят какой-то подлый план по использованию секретного смертоносного оружия. Особенно пугало то, что когда по черепахе снова начали постреливать, она в ответ молчала.
Кто-то предложил начать переговоры. Проклятым немцам-колдунам советовали оставить металлическое чрево машины и сдаться, иначе… В ответ — тишина. Тем временем подкатили две пушки — Амальфею и Доминику, одну даже сняли с главных ворот. Ещё раз предупредили бунтовщиков… Некоторые напоминали, что князь будто бы приказал не трогать доктора-чернокнижника, но комендант Карлинг, разъярённый до вскипания мозга тем, что его город-крепость едва не сдался собственному страху, хотя из жолнеров любой страх должен быть давно выбит шпицрутенами и муштрой, лично отдал приказ. И пушечные ядра — серьёзные, большие, не то, что у черепахи — полетели в страшилище. Недолёт, перелёт… На месте, где недавно стояли телеги, и вместо части рынка возникла ямища. По стене соседнего дома прошла трещина, как по мартовскому льду. Следующим выстрелом удалось попасть точно. Взрыв получился выдающийся, ибо в черепахе содержался ещё хороший запас пороха, а в котле был пар под давлением. Вверх взлетели детали, колёса, колёсики, рычаги… Остатки железного дождя случчане ещё долго собирали на своих улицах, крышах и огородах. Найти такую драконью кость считалось плохой приметой.
За это время, несмотря на строгий приказ коменданта никого не выпускать из города, через Виленские ворота выехали три телеги с бочками гнилой селёдки, которые были отправлены с княжеской кухни в соседнее имение на корм свиньям. Возможно, охрана не увидела в грузе ничего подозрительного, и не захотела, чтобы рядом было такое смрадное соседство, а возможно офицеры были подкуплены… Но разбираться потом никто не стал, потому что все разговоры в городе шли вокруг гибели железной черепахи и чернокнижников… И о гневе князя Геронима на тех, кто это допустил.
А где-то среди литвинского осеннего леса, на глухой полянке, зарослой вереском, очень вонючие люди охотно подставляли себя холодному дождю, а невысокий толстенький немец бессильно тряс кулаками, будто угрожал самому небу, и ругался так виртуозно и затейливо, что богатырь с белыми волосами и много раз плохо склееным носом с уважением покивал головой, подошёл к одному из кучеров, что освобождали от бочек повозки.
— Мартын, осталось чего от корма свиньям? Давай сюда… Крепкий усатый кучер чинно кивнул головой, залез кудато под воз, достал оттуда тяжёлую кожаную мошну, бросил предводителю. Белоголовый взвесил мешочек в руке:
— Дукатов сто, сто двадцать осталось. Кажется, ещё несколько камешков там должно болтаться.
Передал немцу, чья жена в перепачканном платье, в чепце набекрень сразу же бросилась жадно пересчитывать монеты и рассматривать на свет диаманты, которые действительно в мешочке имелись.
— Это немного, — промолвил белоголовый. — Но когда доедете до дворца князя Багинского, будьте уверены, вас вознаградят сполна. Главное, нигде не называйтесь настоящими имёнами, придумайте себе другую историю… Помните, что Пфальцманов на свете больше нет. А вообще радуйтесь, что выбрались живыми. Посоветовал бы вам вместо оружия перей ти на музыкальные машины.
К белоголовому подошёл высокий черноволосый человек с худым мрачным лицом, на фоне великана он выглядел даже изящно.
— Пан Ватман, Пфальцманы отъезжают?
Наёмник пожал плечами.
— А зачем они нам? Помеха… Вот кучеры их отвезут.
А у нас с вами ещё много важного, доктор.
Голубоглазый юноша с дерзким лицом вмешался в разовор:
— Не забывайте, Ватман, что доктор — мой слуга! Без моего позволения он ничего делать не будет!
— Ну что вы, как же без вас… — белоголовый шутовски склонился. — Пока что выбирайте себе по коню — не смотрите, что они в мужицкие телеги запряжённые, мы отбирали самых быстрых. И двинем…
— Куда? — поинтересовался Лёдник.
— Пока что недалеко. Меньше спрашиваете — дольше живёте.
На поляне, заросшей вереском, валялась то там, то сям гнилая селёдка, будто её принёс дождь. Ватман, не обращая внимания на фрау Эльзу, разделся до пояса, растёр водяные струи по исполосованному боевыми шрамами теле, засмеялся от наслаждения. Прантиш скептически осмотрел своего слугу, тот, хмурый и напряжённый, стоял в своём камзоле, застёгнутом на все пуговицы до горла, дёрнул его за рукав:
— Там ручей есть, за лещинами, я побывал. Вот рубаха и свитка — кучер дал взамен моей, хоть солёной, зато с кружевами. Не строй из себя стоика Сенеку, иди нормально вымойся и переоденься. Как ты сидел в рассоле со своими ранами…
Лёдник странно посмотрел на Вырвича, его губы дрогнули, взял одежду:
— Спасибо…
Даже не ворчал. Прантиш пожал плечами и подставил лицо дождю: как же хорошо жить! Moliter vivit! Даже в раздрайную бешеную эпоху — а кто сказал, что на этой земле случаются более лёгкие? Как хорошо быть литвином и шляхтичем, иметь прекрасную даму, и саблю, хоть и чужую, и герб Гиппоцентавр! И рядом невыносимо ворчливого, невероятно сведущего и невероятно мужественного Лёдника…
Через час три всадника взъехали на небольшой холм, который, скорее всего, имел гордое название Лысая гора — потому что на беларусских землях Лысых гор, похоже, не меньше, чем лысых литвинов. Здесь была только заброшенная охотничья хатка, больше похожая на шалаш. Зато с просеки виды на Случчину открывались выдающиеся — дождь приостановился, серое небо перестало напоминать сплошное льняное полотно, теперь в нём были просветы из пушистых белых облаков, а октябрь щедро разбросал багрец и золото по чёрной земле, хотя знал, что эту красоту никто не оценит… Ватман бдительно всматривался куда-то в ту сторону, где виднелась красная крыша кавалергардии, в которой собрались целых три магната делить одну Сильфиду.
— Доктор, ближе ко мне! — скомандовал Ватман. Лёдник подъехал, остановил коня рядом.
— Смотри в ту сторону! — Ватман показал пальцем в направлении кавалергардии. И даже помахал кому-то рукой, хотя с такого расстояния их никто увидеть не мог.
— Что теперь? — вежливо поинтересовался Лёдник.
— Теперь — мы отдыхаем, ждём и не задаём вопросов.
Ватман легко соскочил с коня и зевнул.
— Туман поднимается… Это хорошо. Ну что стоишь, щавлик, иди привяжи лошадей, а потом костёр разведи, пока дождя нет! Умеешь?
Прантиш хотел возмутиться, потому что щавликом обозвали именно его, но Ватман был дворянином и военным, а военная наука вынуждает даже самых родовитых заниматься грязной работой. Каждый вой должен уметь зашить сапог, наточить лезвие сабли, перевязать рану. Это магнатов, вроде Пане Коханку, вывозят в юности на войну, как на парад, вместе с поварами, лакеями и шёлковыми шатрами. А вот Андрей Римша, чьи произведения изучали в коллегиуме, так написал о возвращении гетмана Криштофа Радзивилла по прозвищу Перун в лагерь во время Ливонской войны, когда воевали с московитами:
Пан прыехаў — трасецца, як пячкур у меху, Што казацi — было тут пану не да смеху: Затушыў дождж кастрышчы, дровы не прасохлi, Ляжа ў адзеннi, да касцей прамоклы.
А когда литвины переходили Медвежье болото, то Не пазнаць было, хто там гетман, хто паняты:
У гразi ўсе таўклiся, быццам парасяты.
Всё это очень походило на их сегодняшнее положение, поэтому Вырвичу, который мечтал о воинской славе, не к лицу жаловаться. Он действительно с военной точки зрения был «щавликом», которого нужно учить. В конце концов, после подземелий слуцкого замка даже шалаш на вершине Лысой горы казался райским дворцом.
Пока светло, можно набрать грибов, поискать каких орехов… По крайней мере они с Лёдником так когда-то и делали. Но Пранцысь увидел, как несгибаемый доктор буквально упал на наваленное в шалаше отсырелое сено, и понял, что лучше его не тревожить. Но сделал другую глупость, начал интересоваться родословной герра Ватмана. На эту тему любили рассуждать все, ибо шляхтич с детства изучал свою родословную до мелочей, и чаще всего можно было в таких разговорах убедиться в родстве с очередным «паном-братом» через какого-либо затерянного в веках князя или короля. Сам Вырвич собирался похвастать, что веточки его родословной тянутся до самого князя Полемона. Отец Вырвича всё время повторял, что когда ляхи не имели гербов своих, литвины уже были шляхтой — от старых римлян. Но Ватман только усмехнулся:
— До Полемона, говоришь? А я — сын маркитантки! Родился на поле боя, крещён пулями. Дворянство заслужил саблей. Есть у меня и баронство — от короля Густава, и ещё пара орденков, которые укрепляют моё шляхетское достоинство как стальной клинок, и даже замок в Силезии, где меня лет семь ждут верноподданные невесты на право первой ночи. Герб мне нарисовали с гриффонами. Но мне на это на…ть.
Лёдник одобрительно хмыкнул, и Пранцысь обиженно отошёл от этих хамов, которые не понимают благородных бесед.
Снизу подымался седой туман, будто собирался штурмовать Лысую гору. Теперь можно было не бояться, что их костёр заметят. Лёдник лежал ничком, и это было плохо. Хорошо хоть, не на земле — на досках, прикрытых сеном. Ещё в шалаше находился узкий стол, украшенный двумя старыми глиняными мисками с прелой листвой и дохлыми мухами, и остатки скамьи. С другой стороны стола на мокром сене лежал, подложив под голову руку, Ватман.
Прантиш присел рядом с Лёдником.
— Доктор, тебе лучше ближе к огню. Недалеко растёт дуб, можно коры надрать… От воспаления кожи заварить. И веточки осины можно взять… С хинином… От горячки…
— Выучил, школяр, зачёт, — Лёдник с трудом присел. — Давай неси… Ещё найди смолы-живицы. И во-от тех красных ягод нарви. Всем пригодится от возможной простуды.
Ватман презрительно воскликнул:
— Гражданские! Солдат в снегу ночует и не простужается.
— Ещё как простужается, уважаемый, и сколько я у таких героев в Пруссии да Чехии отрезал отмороженных рук да ног — на телегу не поместились бы. Пилил и пилил, — не смолчал Лёдник.
Наёмник ощерился, как зверь:
— Вот бы я сейчас не отказался от хорошего куска мяса.
Сделал устрашительную паузу, и добавил успокоительнонасмешливо:
— Нет, не человечьего.
Захохотал, а потом тихо завёл приятным хрипловатым голосом милую песню о девушке, которая ждала с войны своего любимого, ждала, а тот вернулся в виде призрака и завёз её с собою в тёмную сырую могилу.
— Ой, ці не страшна табе са мной?
— Ой, мне не страшна, мой герой!
— А косткі мае не надта грымяць?
— За пацалункам іх не чуваць!
— А хутка і вусны мае згніюць!
— А зубы ж не хутка выпадуць!».
Спина Лёдника, который снова лежал ничком, начала трястись, будто от лихорадки. Он перевернулся и, не прячась, захохотал, а потом начал подпевать чёрновесёлому Герману:
— А што, калі ўсё разваліцца?
— Тады з костак булён зварыцца!» И Вырвич понял, что всё будет хорошо.
А когда туман почти дополз до верха, из его призрачной глубины послышался свист. Беглецы съехали с горы, и к ним присоединились пять всадников, у которых нашлась для вымоченных в сельдевом рассоле новая одежда. Получили изголодавшиеся мужчины и припасы в дорогу. Прантиш просто сидя в седле впился зубами в кусок ветчины.
— Тронулись! — скомандовал Ватман.
— Куда? — жуя спросил Прантиш.
— В Менск, в монастырь бернардинок!
И сердце школяра забилось сильнее: к Полонейке!
А Лёдник упрямо закинул голову:
— Я никуда не поеду без одного человека!
Всадник, невысокий, стройный, приблизился к нему вплотную, приподнял белое лицо с огромными глазами и произнёс неровным от радостного волнения голосом:
— Думаю, это не проблема, мой бедный Фауст!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Как Пранцысь в женском
монастыре жил
| Н |
ынешнее лето было в славном городе Менске не самым спокойным. Пане Коханку весь потолок в зале Трибу-
нала в ратуше расстелял на решето. Потом его конфидент пан Михал Володкович город на уши поставил, проходу панам радцам не давал
Все ждали сечи, а любая шляхетская ссора отражалась на горожанах самым грустным образом. Трибунальский вицемаршалок Марикони поклялся, что за все бесчинства заставит Володковича отвечать по закону. А какой закон может быть для пана, без которого всемогущий Пане Коханку шага ступить не может, в лоб целует и братом называет? Несвижский ксёндз Облачинский, которого едва ли не святым прихожане считают, вон попробовал было в Мариинском соборе буяна присрамить, так тот ему через неделю богослужение сорвал. Привёл на площадь музыкантов, цыган с медведями и обезьянами, да бочку вина выкатил. Особенно радовались ученики иезуитского коллегиума. Прантишу тогда удалось побыть в толпе, выдающимся зрелищем воспользоваться и вином даровым. Тогда он искренне завидовал хвату Володковичу и мечтал стать похожим на него. Захотел кому плетей дать — дал, захотел красивую женщину полапать — пусть её муж терпит… Сегодня, вспоминая бешеные глаза Володковича и его красное, испитое лицо — хоть пан ещё молодой — Пранцысь уже не был уверен, что это его идеал.
Из окон монастыря бернардинок хорошо виден Мариинский собор с двумя башенками, украшенными колоколами, отлитыми из огромного, привезённого из Королевца колокола по имени Ян Сологуб, слишком большого для использования на местной колокольне. Виднелось и такое до боли знакомое здание иезуитского коллегиума. Где-то там, в общежитии-конвенте, осталась родовая сабля Вырвичей, с выгравированым на эфесе Гиппоцентавром. Лирник под окном запел балладу о могучем гетмане Радзивилле, чем, наверное, ранил бы сердца благородных представителей рода Багинских, если бы те считали стоящим прислушиваться к пению какого-то нищего:
— Радзівіл князь выязджае,
Веліч нібы сонца ззяе Моц і слава зямлі літоўскай Па-над ім лятае.
Моладзь і высока панства,
Рыцары — Літвы ваярства, Коні рвуцца пад імі, чуюць вершнікаў штукарства.
Прантиш подвинулся ближе к окну… Только при пани игуменье по сторонам особо не повертишься. Мать Альжбета, дородная и властная, сурово глядела на гостей, хотя и жданных и хорошо оплаченных племянником. Двое мужчин, к тому же схизматиков, и женщина в мужском платье — в её монастыре!
— Как хотите, но в кельях я их поселить не могу! — строго сказала мать Альжбета белоголовому великану с перебитым носом, конфиденту воеводы Багинского.
— Но ведь, тётушка, его княжеская мость мой пан брат очень просил… — милым голоском промолвила молоденькая послушница с немного вздёрнутым носиком, розовыми губами и шаловливыми не как у монашки глазами. — Его княжеская мость уверяет, что гости эти очень важные, их безопасность — дело нашей семейной чести и…
— Умолкни, сорока, — раздражённо остановила племянницу мать Альжбета. — Если бы не это, не пустила бы в святые стены эту банду.
Осмотрела ещё раз пришельцев, как хозяйка — неудачные булки:
— Значит так… Поселитесь в левом крыле, где казна. Туда всем ходить запрещено, ключ только у меня, есть выход через подвалы… Самое то. Женщину — в верхнее помещение, где сложены гобелены. И чтоб запиралась на ключ! Мужчинам придётся ночевать под лестницей. Надеюсь, не нужно предупреждать, что здесь — приют целомудрия…
— Я сама прослежу за их поведением, тётушка! — послушница поцеловала руку игуменьи.
— Ты уж проследишь… — в голосе матери Альжбеты сквозь раздражение слышалась покровительственная любовь. — За тобой следить нужно, озорница. А заботиться о гостях и действительно придётся тебе. Потому что лишних глаз и ушей нам здесь не нужно.
Остановила взгляд на гостье в мужском костюме, чьё ослепительно красивое лицо было таким бледным и измученным, будто сейчас пани упадёт, взглянула на ладного юношу с нахальными глазами и его старшего спутника, с умным саркастическим обликом, слишком умным и слишком саркастическим для доброго христианина, нахмурилась…
— Распорядись, Полонея, чтобы нагрели воды. Запах от этих мужчин, как от гнилой селёдки. Девушка пусть кладётся в кровать. И на ключ запирайся, слышишь! Мерзость какая-то деется… Мужчины в женском монастыре…
На прощание послушница подмигнула Пранцысю так, что у него радостно зашлось сердце.
Спать Лёднику и Вырвичу следовало на сенниках, брошенных на пол под витой лестницей. Но и это было хорошо. Это было даже роскошно. Ещё в их распоряжении была лестничная площадка цокольного этажа внизу, но все двери комнат — и там, и выше — были надёжно заперты, сберегая добро бернардинок. Можно было подняться по лестнице на самый верх, на чердак, к круглому окошку. Ход в подвалы закрывался плитой в полу, и смысла рваться туда пока не было.
Утром Соломея спустилась вниз, переодетая в простое коричневое платье, навряд ли из гардероба дочери воеводы, скорее, какой-нибудь простой послушинцы. Как при этом она умудрялась по-прежнему быть похожей на Сильфиду, загадка. Пранцысь наблюдал за её плавными движениями, за тонкими чертами лица, горделивой фигурой… И крамольные мысли возникали: чем эта мещанка хуже шляхтянки? Поставь рядом её и любую магнатку, неопытный человек именно в полочанке узнает голубую кровь. А Михалишивна из Слуцкого театра, такая же изящная и красивая, вообще из крепостных!
Спасительная мысль вернула пошатнувшийся мир на место: а кто сказал, что у этих паненок нет голубой крови? Ну, дали плоды внебрачные шалости магнатов… Обычное дело. Может и у Лёдника, сына скорняка, такой выдающийся ум именно потому, что его мать или бабушка понравились благородному пану. А кровь — не вода!
— У меня для вас подарок!
Сильфида ласково улыбнулась — именно от такой улыбки Минотавры начинают стыдливо приглаживать космы на звериной морде и вспоминают, когда последний раз чистили крыки — и передала в руки Пранцысю знакомый узелок. Шляхетская шапка с облезлым соболем и диамантовым гузом, фамильный сигнет Вырвичей, мешочек с дукатами от Полонейки. К которым теперь можно было присоединить целых сто дукатов от её брата… Эх, сюда бы ещё и дедовскую саблю! Дальше в узле были докторский диплом Балтромея Лёдника из Пражского университета, его же диплом из Лейпцигского университета, несколько стекляшек-бутылочек с зельями и докторская трубка, перевязанная суровой ниткой стопочка листков, исписанных мелким почерком, молитвенник, ясно, тоже Лёдника, его же карандаш, записки Воронёнка, и — бумага о продаже должника Балтромея Лёдника, полоцкого мещанина, во владение шляхтичу Пранцысю Вырвичу.
— Это мне его княжеская мость Александр Сапега передал — когда уверился, что вы погибли, в знак того, что вы были его посланцами, и я должна ему доверять, — объяснила Соломея.
— Ты видела нас, когда мы стояли на Лысой горе, — спросил-утвердил Лёдник.
— Да. В подзорную трубу, — подтвердила полочанка. — Пан Багинский переиграл всех. Я поставила условие — спущусь за рамфеей в подземелье только для того, кто спасёт вас. Князь Багинский тихонько пообещал, что сделает это, и если покажет мне вас живыми и в безопасности — я должна тайно, чтобы не узнал Сапега, уйти с его слугами. Когда люди Багинского вывели меня из кавалергардии, окно оставили открытым, а внизу там река. Чтобы объявить — я от горя, что мой жених… прости, Бутрим, так тебя назвали — погиб, выбросилась через окно. Так что для всех, кроме нескольких заговорщиков, мы мёртвы.
— Это не самое худшее положение в этом поганом мире, — тихо молвил Бутрим. — Жаль только тех, кто остался в Слуцке.
Прантишу от известия, что он считается покойником, сделалось немного не по себе, однако в голове сразу начали возникать интересные планы, как можно подавать себя в виде пришельца с того света, и что весёлого и полезного из этих появлений можно поиметь.
Реничевна подошла к Лёднику и потрогала его лоб:
— Фауст, у тебя горячка!
— Глупости… — проворчал Лёдник, но Пранцысь, который вчера, когда они по очереди мылись в подготовленной монашками лохани с горячей водой, имел сомнительное удовольствие видеть на теле слуги итог работы древнегреческого стила, решительно промолвил:
— Бутрима нужно бы смазать каким-нибудь бальзамом для заживления ран. На Лысой горе он прикладывал отвар коры дуба и живицу, но…
— Что с тобой сделали? — вскинулась Соломея к Лёднику, а тот только фыркал и отворачивался:
— Ничего страшного и опасного для жизни.
— Я тебя знаю, Бутрим, — ледяным голосом промолвила Реничевна. — Может, ты и добыл философский камень, но не способен вытянуть себя даже из самой маленкой лужи. А я, хоть и не получила диплом лекаря, могу узнать, когда человек действительно болен, но от глупого гонора храбрится.
Пранцысь довольно улыбнулся: нашёлся кто-то, кто мог легко ставить Бутрима на место. Вскоре Соломея раздобыла через Полонею бальзам, который готовили здешние монашки.
— Раздевайся!
Лёдник подозрительно покосился на стеклянную банку с жёлтым вонючим веществом, наклонился, принюхался:
— Основа из древесного масла… Восемь гран жёлтого воска, пять белого, десять гран живицы, один гран ладана, одна часть сливочного масла… Кажется, слишком не переварили.
Давай, я сам.
— Ты уже много чего сделал с собою сам, — твёрдо вымолвила Соломея. — И из этого получилось мало хорошего. Не забывай — я много лет, как и ты, лечила людей. Или ты хочешь, чтобы тебе мазал спину сам пан Вырвич?
Лёдник злобно скосил глаза на Пранцыся, который, сидя на своей кровати, продавал зубы, и потянулся расстёгивать рубашку. Когда полочанка увидела его без одежды, вымолвила только два слова, которые не очень подходили для её губ, но чётко обрисовывали положение:
— Олух хвощёвский!
Потом ворчливый доктор был напоён отварами… Лицо его немного порозовело, а панна Соломея остатки мази понесла к себе наверх. Прантиш догадался, зачем. Ехали они сюда всю ночь и утро, а панна — всадник не очень опытный, к концу дороги держалась еле-еле, на одном упрямстве, которого ей тоже не занимать… И теперь ходит с трудом. Эх, Лёдник, звездочёт несчастный… Под носом ничего не замечает.
На смену радости от спасения, такого маловероятного, снова приходила тяжесть ожидания и неизвестности. Они в очередной раз оказались узниками, на этот раз у Багинских. Если бы не жёсткий ритм занятий — от математики до фехтования — Пранцысь бы истосковался, как некрасивая девушка, которую никто за весь бал не пригласил на танец. Ясно, что князь Михал решил переждать, пока об утраченной Полоцкой тайне забудут Радзивиллы и Сапеги. Но ведь вынудит ехать в Полоцк. По поводу наследия отца панна Соломея по-прежнему сохраняла молчание, так что не было понятным, насколько опасно и реально добыть реликвию, и как с ней наилучшим образом обойтись.
Полочане всё время подначивали друг-друга, разговоры их были интересные и резкие, часть их учёных бесед Пранцысь вообще не понимал, но за словами вырисовывалось такое единство душ, что брали завидки. Иногда доктор и Сильфида замолкали, и казалось, что в это время они ведут самые важные диалоги через взгляды, жесты, биение сердца и дыхание.
А вот амурные дела самого Пранцыся требовали решительных действий. Особенно обидно было знать, что в этом же здании полно красивых одиноких девушек, а ему от этого никакой пользы. Иногда до школяра долетали молитвенные песнопения, из окна он мог видеть фигуры в серых бернардинских платьях. Возможно, среди них есть та, которую в монастырь силой отдали жестокие родственники, и она мечтает сбежать отсюда, или хотя бы не против перекинуться словцом с гожим юношей. Но до монашек было не добраться никак, в эту часть монастыря они не заходили, а старая Доминика, которая приносила пищу, не считалась.
Конечно, основное место в грёзах занимала Полонея Багинская, которая в своём послушницком наряде больше не казалась такой недоступной. Почему бы не выманить Полонею для разговора в какой-нибудь тихий и безлюдный уголок монастыря, ну хоть бы на чердак? Воспользоваться тем, что воеводская дочка, сосланая к тётке для отбытия какой-то епитимьи, здесь скучает, и при отсутствии балов и кавалеров может удовлетвориться разговорами с голубоглазым школяром. Интересно, что же она такого натворила, что брат отправил её сюда? Хотя такая может сотворить что угодно…
Они с Багинской сидели у круглого окошка и смотрели на Менск, который тонул в вечерних сумерках, как могучий корабль с белыми парусами облаков и коренастой мачтой ратуши. Полонейка расположилась просто в оконной нише, изпод серой полы монашеского платья показывалась её ножка во вполне светской, вышитой зелёными камешками туфельке на высоком изогнутом каблучке. Пранцысь пристроился ниже, у ног своей прекрасной дамы, и млел от счастья и гордости: он, сын посконного Вырвича из Подневодья, который пас коров и собственноручно разбрасывал по полю навоз, сидит сам-друг с Полонеей Багинской, которая качалась в золотой колыбели и ела с диамантовых тарелок! Школяр только что закончил цветастый рассказ о своих подвигах в страшном Слуцком замке, спасении Сильфиды, побеге в железной черепахе, получил свою долю заинтересованных улыбок и теперь надеялся на нечто большее, чем дукаты.
Где-то далеко, на Кальварийском кладбище загорелись огоньки на могилах, напоминая, что заканчиваются Дзяды. В Троицком мерцала свеча в окошке недавно открытой аптеки Шейбы — вот Лёдник там роскошествовал бы, среди зелий. Тускло светились окна храмов. Даже Жёлтой церкви, которая после пожара совсем пришла в упадок, в почерневших стенах осталось всего несколько монашек. Но Пранцысю вдруг захотелось очутиться в том полуразрушенном храме, у трепетного огонька, зажжённого во имя Господа…
— А почему ты не перешёл в униатство? — почти безразлично поинтересовалась Полонея, у которой так мило из-под серого платка послушницы выбивались непокорные пряди волос — как лёгкий дымок.
— Отец говорит, нехорошо отказываться от того, что деды берегли, — помолчав, тихо ответил Пранцысь, совсем не желая нарваться на богословские споры о преимуществе той или иной веры. Не пересказывать же истории отца, как полочане содрали с городских ворот униатские иконы, и войт жаловался королю, что они «лжат, дэспектуюць, дзяруць, топчуць, насьмейваючыся», и тем иконам «насы вышарпваюць», а потом у православных поотбирали храмы.
— Деды считали, что мыться вредно, — насмешливо произнесла Полонейка. — А твой доктор нам с тёткой целую лекцию прочитал о «гигиене чистого тела».
— Он может… лекцию… — сердито сказал Пранцысь — и здесь нельзя обойтись без Лёдника! Зато хорошо, что тему поменяли, и можно взять галантную ноту. — Я уверен, что особенно красивые паненки имеют природную чистоту и чрезвычайно приятный аромат, как цветы. Вот кожа ваша, моя панна, пахнет самыми лучшими розами… — Прантиш осмелился склониться к ручке паненки. Полонейка мило сморщила носик и скромно убрала ручку.
— Пан, наверное, забыл, что даже розы растут на земле, которая насыщена совсем не приятными ароматами. Нужно всегда помнить, что мы из земли вышли и в землю сойдём.
Багинская явно повторяла поучения тётки, и ещё вздохнула при этом притворно тоскливо.
— Неужто паненка собирается в монашки? — галантно удивился Вырвич. Полонейка засмеялась, зубки её, белые, аккуратные, почему-то казались острыми, как у хищного зверька.
— Надеюсь, эта судьба меня обойдёт. Да я уже и просватана.
— За кого? — немного натянуто спросил Вырвич, хотя яснее ясного было, что посконник в качестве жениха для сестры магната и претендента на корону подходил не больше, чем телега для колыбели, и любое проявление ревности здесь нелепо.
— За Адама Чарторыйского, подчашего, — легкомысленно ответила Полонейка.
— Он же… старый, — буркнул Прантиш.
— Ну и что? — кокетливо пожала плечиками панна, как будто они были декольтироваными, а не прятались под плотной тканью послушницкого платья. — У него три местечка, десять имений, душ, наверное, сотня тысяч. А утешить сердце я найду с кем!
— Как бы я хотел утешить сердце панны — хоть сейчас… — по всем правилам куртуазности проговорил Пранцысь, но встретил холодный насмешливый взгляд.
— Может быть, если пан Вырвич начнёт появляться при дворе… На балах…
Прантиш покраснел, что-то больно зашевелилось под сердцем, как будто он снова услышал восклицания в коридорах иезуитского коллегиума: «Навозник! Навозник!». Так больше быть не должно! Он перерос это жалкое положение.
— Но ведь этот королевский двор может быть вашим, моя панна! Если я, рискуя жертвенно жизнью своею и не жалея крови своей, принесу его княжеской мости, пану Михалу Багинскому, рамфею, копьё святого Маврикия, реликвию, которая придаёт мудрости и величия, и он станет королём… Может быть, при вашем дворе найдётся место и для меня?
Полонейка посмотрела на Вырвича сверху, и он на минуту ужаснулся, потому что лицо её показалось ему лицом античной богини, более мраморным, чем представляли крепостные актрисы Геронима Радзивилла.
— Безусловно, брат вознаградит вас щедро, и найдёт почётное место. Например, мог бы сделать вас кавалером… Через три года обучения вы приобрели бы необходимый светский блеск и достойные манеры и могли бы продолжить свою карьеру.
Прантиша как холодной водой обдало. При магнатских дворах всегда были кавалеры, иначе — пажи: юноши из шляхетских семей три года служили, как прикажут, носили за паном оружие, за пани — молитвенник. Если напакостят — получали по спине плёткой, на ковре, конечно. Через три года хозяин давал такому юноше оплеуху, пропивал из его рук чару, награждал оружием и чем ещё от щедрости своей, и считалось, что юноша постиг светскую и военную науки. Раньше Пранцысь мог только мечтать о таком. Но неужто это всё, стоящим чего Полонейка считает Прантиша? Даже после того, как он с саблей бежал на вооружённых ружьями жолнеров в Слуцких воротах, убеждённый, что сейчас героически погибнет?
Злость и обида подымались из глубины души кровавым туманом… Может, просто дело в том, что он слишком галантный, а женщины любят решительных? Вон как она оскорбительно вспоминает о своём «мягкотелом», боязливом брате, которого нужно толкать в спину, даже чтобы взошёл на небольшой холм, и который от страха перед небольшим таким скандальчиком при королевском дворе сослал свою сестру сюда, тосковать и замаливать совсем незначительные для благородной паненки грехи. Друг пана Михала, русский посол Репнин, его едва не в глаза называет мокрой курицей, а князь терпит. Adonis in Eskarpnis, Адонис в легких черевиках, а не сарматский рыцарь. На месте россейской принцессы Полонея тоже бы такого в сердце не впустила!
Вырвич же не был мокрой курицей… И попробовал сорвать с губ паненки поцелуй. В конце концов, он точно был ему обещан! Ещё тогда, в трактире.
Но поцелуй не получился, хотя Прантиш считал себя в этом деле искушённым, как старый охотник — в стрельбе. Паненка скривилась, будто дотронулась до лягушки, оттолкнула парня и насмешливо спросила, сколько у его отца крепостных, сколько деревень и городов… И как давно пан участвовал в придворной карусели — рыцарском поединке. И не он ли был в первом ряду карусели в Кракове, в чёрных доспехах, на арабском скакуне с зелёной сбруей? Нет? А пан вообще коня имеет?
Она действительно искренне считала таких, как Вырвич, людьми иной, более низкой породы. Так же, как Вырвичи презрительно смотрели на простых мужиков, пусть те рядом с ними пахали землю и смеялись за глаза «Два паны — одни штаны». Но когда маленький Пранцысь играл в ящера и чижа с крестьянскими детками, старший Вырвич бдительно следил, чтобы мужицкие лапы не ударили шляхетского сына, а после игры чтобы каждый поцеловал руку молодого Вырвича и поблагодарил панича, что снизошёл поиграть с ними. Правда, это не всегда выполнялось, особенно что касательно пинков, которыми малыши обычно обменивались, невзирая на титулы.
— Навозник! Навозник! — звучало в ушах Пранцыся, и мерещились у стен фигуры, зажимающие носы при его приближении.
Такой совершенный светский тон, который крошил достоинство собеседника на мелкие клочья, будто блестящий клинок турецкой сабли — перезрелую тыкву, Вырвич слышал впервые. Но злиться на паненку было всё равно, что на ливень, который тебя вымочил — а нечего выходить под небесный водопад. Он просто чувствовал себя мизерным, неуклюжим, ничтожным, и понимал, что какие бы подвиги не совершил в будущем — в глазах этих Сапегов, Багинских, Радзивиллов всё равно останется Навозником. Не паномбратом, а «братцем»… Теперь он понимал циничный тон Ватмана в отношении титулов — пруссак знал, что хоть он барон, хоть герцог, хозяева боятся, уважают и одновременно пренебрегают им.
— Пан Вырвич, что случилось? — менторским тоном спросил Лёдник, когда Прантиш молча упал на свой сенник. Ещё нашёлся опекун… Если Вырвич — навоз под ногами Багинской, то доктор — навоз под ногами Прантиша! Так, контроль за дыханием, считать пульс… — Вырвич, я задал вопрос!
— Не твоё дело… — только и смог просипеть юнец.
— Может, нам заняться фехтованием? — задумчиво промолвил Лёдник. — Перед сном, конечно, вредно, но я чувствую по твоему дыханию, как тебя переполняют гнев и ненависть, а физические упражнения — лучшее средство с ними справиться.
— Не хочу! — едва сдерживаясь, чтобы не начать ругаться на доктора, проговорил Прантиш.
— Тогда попробуем выговориться… На кого ты так разгневался?
— На своего отца! — неожиданно выпалил Прантиш, и почувствовал, как горят щёки от гнева. — Он мог не разбазаривать своё имущество и материно приданое! Не сводить мать в могилу своими пьянками и драками! И у меня была бы нормальная шляхетская жизнь! Всё Подневодье когда-то принадлежало нам. На поле работали бы мужики, а не мы. Я бы имел коня, парчовый жупан, саблю-карабелу… Знаешь, как мы вконец обнищали? — Прантиш нервно захохотал. — Напились отец с соседом и пошли в заклад, кто больше собственного имущества разбазарит — так как рыцарь не должен от имущества зависеть и в любой момент может себе саблей новое добыть. Лошадей пораздавали, меха и жупаны просто порубили… Даже сараи пожгли! Отец победил, всё без жалости изничтожил и раздал, хоть и так не много имел. Вот только нового нажить не осилил. Мне год был, когда я остался по его милости нищим. Он никогда меня не любил! Кроме пинков да драной задницы ничего я от него не имел! Ненавижу!
И начал бить кулаками в сенник так, что поднялись клубы пыли.
— В действительности ты любишь своего отца, и он очень много для тебя значит, — тихо промолвил Лёдник. — Ты сам не замечаешь, как всё время ссылаешься на его суждения, пробуешь вести себя как он. Ты пеняешь, что от не дал тебе богатства… Но ведь он не бросил тебя, не пошёл в клиенты к богатому пану, чтобы лизать его задницу и расправляться с его врагами. Честно обрабатывает свою землю, тяжело добывает хлеб, и ничего ни у кого не просит. Воевал за Отчизну. Веру дедов сохранил, не побоялся остаться ограниченным в правах диссидентом. Это заслуживает болшого уважения. А его слабости… Их нужно простить. Потому что и нам наши слабости кто-то должен простить. Ты когда последний раз послал отцу письмо?
Вырвич ещё раз стукнул кулаком сенник.
— Зачем ему мои письма? Ему плевать!
— Уверен, он думает о тебе. Я тоже считал, что отцу на меня плевать, и из Европы ни разу не послал ему известие о себе. А когда вернулся, не было уже кому встречать меня в моём доме. А Соломея рассказала, он ежедневно спрашивал у Ивана Ренича, не слышно ли о Бутриме, притворялся, будто просто мимо их дома шёл, а сам в любую погоду… С другого конца города… Но мне теперь не у кого просить прощения. — Лёдник наклонился к Прантишу и похлопал его по плечу. — Ну, выше нос, Гиппоцентавр! Я понимаю, что тебе хочется сравняться с более богатыми и знатными… Но не лучше ли — с самыми отважными и умными? Есть такой молодой французский мыслитель Жан-Жак Руссо. Он говорит, что все люди имеют естественные права, одну кровь и одного Бога. Должен существовать общественный договор — уважать один другого, не посягать на свободу друг друга. Тогда и создастся идеальное общество, где не будет магната и посконника, пана и мужика, раба и хозяина, только личные свойства помогут возвыситься. А свойства у тебя есть хорошие, поверь. Тебя есть за что уважать, больше, чем какого-нибудь развращённого магнатского сынка, который еле читать умеет и которому целуют ручки придворные шляхтюки. Мне приятель из Парижа написал, как принц Конте в опере выглядел симпатичную бедную провинциалочку, посадил на колени и дал, крепко удерживая, сто оплеух, так, что у девочки пошла кровь из носа и разбитых губ. А принц, хохоча, бил на глазах всего театра и приговаривал: «А я не умею давать оплеухи!» И никто, ни один благородный рыцарь не фыркнул.
— Я бы заступился! — воскликнул Прантиш.
— Я знаю, — усмехнулся Лёдник. — Потому и говорю, что ты стоящий уважения. Ну, а теперь, парень, давай почитаем вечерний канон… Это — наилучший способ получить совет и покой.
Знаю, Господи, что не стою я человеколюбия Твоего, но стою всяческого осуждения и муки. Но, Господи, хочу ли, не хочу, спаси меня… Пусть не одолеет моя злоба Твоей несказанной благости и милосердия: и если хочешь, сделай мне это»…
Слова молитвы затихли, но не растаяли бесследно. Вырвич смотрел на беленые стены сухими глазами и думал, что вот, хотя бы Лёдник у него есть. Утешит, объяснит, поможет. К тому же он целиком зависит от Вырвича, от его воли, он никуда не денется… Есть что-то определённое в этом мире и для недоученного школяра! Тёмная злая сила, которая жила в душе и которой Вырвич сам боялся, понемногу стихала.
Прантиш повернулся на бок и задремал… Разбудил его шёпот:
— Соломея, зачем ты так?
— Не глупи. Я слишком долго ждала. И ждала бы ещё… Но теперь у нас нет времени. Возможно завтра… Послезавтра… Придёт смерть. И в чём тогда смысл моего ожидания? Если ты сейчас мне откажешь, не сделаешь своей, это будет бессердечно…
— Не мучай меня. Если бы у меня не было сердца, если бы не любил тебя, я бы согласился. Но я не могу тебе предложить ничего, даже самого себя. Я больше себе не принадлежу. Я…
— Тихо, любимый, я знаю… Я прочитала ту бумагу в узле. Но ведь твой временный хозяин — хороший мальчик, отважный и честный…
— Он — шляхтич, со всеми недостатками своей касты, я — его слуга. Точнее, раб. Даже если мы все выживем, я не смогу на тебе жениться. Пока не верну себе воли.
— Значит, ты её вернёшь… Человек не должен быть рабом другого человека. Это противоречит природе и Божьей воли. — Начиталась Вольтера…
— Тебя пугает, что ты разделишь любовь с учёной женщиной?
— Меня пугает, что я причиню тебе ещё больше зла, связав тебя со своей фатально несчастливой персоной.
— Знаешь, в эту минуту многие сказали бы, что тебе повезло.
— Мне и правда невероятно повезло… — Значит, ты меня не гонишь?
— Я не ледяной… Несмотря на фамилию.
Шёпот умолк, а после послышались шаги: двое людей осторожно подымались по лестнице наверх, потом скрипнула дверь, повернулся в замке ключ…
Прантиш лёг на спину и едва не завыл от злости и обиды. Значит, он Лёднику мешает! Он не хочет ему служить! Навознику! Правильно, даже имея сто дукатов, Прантиш не сможет поселить его во дворце и выкупить лабораторию для опытов. Лёдник только притворяется, будто искренно заботится о Прантише. Он ненавидит его, своего хозяина, хитрый и подлый раб! И это после всего, что они вместе пережили!
Вырвич, конечно, позволил бы, чтобы Лёдник женился на Соломее Ренич, и пусть бы они оба, и дети их, стали его верными слугами, а он бы щадил их, и миловал, и защищал… Да что там — отпустил бы Балтромея на волю, но чтобы при том оба остались при нём… С ним… Но теперь ясно: подлый алхимик при самай малой возможности убежит от Прантиша, предаст его, бросит! Он тоже пренебрегает им! Им, который ведёт свой род от Полемона! Пусть отец Прантиша пьяница, но когда в шинке один мужик по пьяному делу его толкнул, выхватил саблю и отрубил хаму руку. И ничего не было — по закону сделал. Правильно творит Полонея — нужно топтать тех, кто внизу, только так останешься на высоте! А позволь только приблизиться к тебе более низкому — обгадят, наподличают, ухватят, что можно, и бросят! «Хороший мальчик», ха!
В душе снова бурлила тёмная злоба, которой Вырвич уже не сдерживал. Он и сам не заметил, как провалился в сон, чёрный, как отчаяние, и неглубокий, как грязная лужа. Сквозь дрёму отметил, что Лёдник вернулся на свое ложе только на рассвете. Старый греховодник…
Всё утро Лёдник тревожно поглядывал на молодого хозяина, надутого и молчаливого, как арендатор, которого предупредили об окончании аренды, и тоже в основном молчал, так как предложения позаниматься латынью-немецким-фехтованием-химией-душевными беседами встречали только ненавистные взгляды и холодные реплики вроде: «Когда захочу, скажу».
Завтрак, принесенный доверенной монашкой Доминикой, был поглощен каждым в своем углу. Соломея, видно, предупрежденная Лёдником, взяла свою тарелку и укрылась наверху. Лёдник, наверное, охотно присоединился бы к ней, но не осмеливался. Полочане, очевидно, чувствовали себя неудобно, увязывая перемены в поведении юного Вырвича со своим ночным свиданием, а Вырвич ясно наблюдал, что они не могут спрятать своё пьянящее, тайное счастье, что между ними тянутся невидимые нити, которых разорвать не удастся уже никому, и от этого бесился ещё больше. Взрыв произошёл после завтрака, когда они с Лёдником остались один на один. Доктор подошёл к школяру и ухватил за плечи, вынудив посмотреть себе в глаза :
— Пранцысь, нужно поговорить. Так нельзя… Твоё душевное состояние…
— Пранцысь? — Вырвич злобно сбросил с себя руки доктора. — Какой я тебе Пранцысь? Ты забыл, как нужно обращаться к шляхтичу, мужицкая морда? Как нужно обращаться к своему пану?
Вырвич толкнул доктора в грудь, и тот на шаг отступил.
— Пранцысь… Пан Вырвич, гневом нужно овладевать. Ты сам потом пожалеешь. Концентрация…
— Я тебе покажу концентрацию, хамло! — Вырвич ещё раз толкнул Лёдника. — У Агалинского тебе, видно, лучше было, более почтительно себя вёл? Тот же богаче меня, титулованный! Ему ручки, ножки целовал, а со мной — как с ровней можно, как со школяром?
Лёдник опустил глаза, его лицо осунулось, погасло.
— Прошу прощения у пана за дерзость.
Пранцысь от гнева уже ничего не видел, кровь шумела в ушах. Он пан, он может холопа своего «держать, употреблять, во всём отдавать, использовать, дарить, заменить, заставить и в соответствии с желанием своим трактовать и куда хочет определить». Школяр получал мучительное и острое удовольствие от того, что доктор перед ним отступает, мельчает. Что-то он недавно слышал о таком ненормальном удовольствии…
— По-твоему, так у пана просят милости? Или мне надобно было обращаться с тобой, как Агалинский? Дрыном? Ты, значит, рассчитал, что хороший мальчик Пранцысь отпустит тебя на волю, и ты над ним посмеёшься? Уйдёшь и через плечо сплюнешь? Не ценишь добра! На колени! Руку целуй, хамло!
Лёдник с каменным лицом, опустив глаза, встал на колени, почтительно взял руку Пранцыся и приложился к ней губами.
Школяр смотрел на доктора, который стоял перед ним на коленях с опущенной головой, но спина по-прежнему была выпрямленная, не согбенная покорно… И ему хотелось реветь — от злобы, обиды, гнева… В целовании руки превосходящему тебя не было ничего непривычного или позорного. Сколько сам Прантиш перецеловал всяких ручек-ножек, чистых и не очень — пану-отцу, крёстному, священнику, ректору, декану, сколько раз видел, как богатые и родовитые шляхтичи не брезговали в своих шитых золотом нарядах с диамантовыми пуговицами бросаться в ноги более богатым панам, осыпать поцелуями их сапоги и унизанные перстнями руки… Да и самому доктору процедура точно не внове. Это была обычная жизнь! Когда отец отправлял Пранцысь на учёбу, разложил на ковре и согласно сарматскому обычаю всыпал плетей. А Пранцысь слугу своего даже ни разу не стеганул! Но Лёдник, неправильный доктор, который добыл философский камень и отрёкся от него, умудрялся стоять на коленях так, что в этом виделась неправильность, несправедливость, и Вырвичу его унижение было невыносимым… И поднимался гнев на Лёдника ещё и за этот свой стыд. Руссо, Дидро, Вольтер,
человек не должен быть рабом…
«Я тебе ещё покажу! В Европах своих отвык от сарматских обычаев! Ты ещё пыль с моих сапог сцеловывать будешь с почтением!» — Пранцысь, задыхаясь взбежал на чердак, припал к окну, у которого недавно в разговоре с панной Багинской
сам пережил страшное унижение. Вот так оно всё в мире и происходит? Один одному передавать злобу, гасить обиду о шкуру ближнего своего?
За окном снова нудил дождь, барабанил в стёкла как надоедливый старец, просящий приюта. А с Верхнего, Нижнего и Рыбного рынков доносились крики и ругань, и уличные торговцы орали просто под окнами, предлагая свежую рыбу, пойманную в Немиге, вееры с городенской мануфактуры, поставские платки, булки из Троицкого предместья и другие вещи, которыми грешное тело так сильно привязано к этому суетному миру, что забывает готовить ангельское оперение бессмертной души к последнему полёту, в который ничего не взять — ни тех литых поясов, ни налибокских рюмочек, ни того, что из этих рюмок так хорошо пьётся.
Пранцысь жалел себя, пока внизу не грохнула дверь и не раздались голоса. Вырвич сбежал с лестницы и увидел Германа Ватмана, спину которого обтягивал чёрный бархатный жупан с серебряным шитьём, и наёмник казался чёрной скалой. А рядом со скалой сиял цветок, сама Полонея Багинская в скромном платье послушницы, и поглядывала вокруг весёлыми надменными глазами:
— Собирайтесь, пойдём! Приехал мой многоуважаемый брат, вас ждёт его милость Михал Багинский.
Пранцысь почтительно склонился, стремясь выглядеть спокойно и весело. Ясно, их разговор для панны ничего не значил, и в её памяти как что-то чрезвычайное не отложился. Нужно, чтобы она не чувствовала его обиду… Которая стучала в виски, снова наполняла чёрным гневом…
Хотя что ей его обида? Никому в мире нет дела до Прантиша Вырвича и его чувств! Что же, герои Плутарха не ждали сочувствия, сами добывали уважение и императорскую корону. Пранцысь Вырвич найдёт, как доказать своим ближним, что с ним нужно считаться и ценить.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Как Пранцысь
Лёдника продавал
| Г |
де бы человек не поселился — прежде всего он думает о защите и побеге. Что он делает для защиты — из-
вестно всем, ибо издали видны земляные валы, каменные стены и заполненые водой рвы. А что готовится для побега — окружающим не должно быть видно. И чем меньше они об этом знают — тем надёжней путь для отступления. Мало кто, проходя по площади около ратуши, догадывался что он идёт над подземными ходами, которые соединяли здания всего Верхнего Города.
Хотя идти через площадь было не дольше, чем съесть тарелку клёцок, гостей из бернардинского монастыря вели на встречу с Михалом Багинским именно через подземелья. Для всех князь Багинский был в это время за границей, занимался искусствами. Вернулся он в Речь Посполитую тайно, и любой лишний взгляд мог его тайну разоблачить.
Где-то в этих подземельях, наверное, и были спрятаны во время отступления войска Петра І сокровища иезуитов. Пётр в Северную войну жил в менском иезуитском коллегиуме, ему очень нравилась отработанная там система обучения, преподавателей нахваливал и милостивил… Но когда его союзника Августа Сильного шведы разбили как глиняный горшок, отношение переменилось. Солдаты князя Шереметьева начали перед отступлением грабить город как захваченный. Бесстыдно врывались в храмы, даже в Жёлтую церковь, не посмотрели, что православная — братчики горожан созвали, еле свой храм защитили. Вот тогда отцы иезуиты имущество своё в подземельях и схоронили… Пришли шведы, разгром довершили, а потом ещё и чума заявилась — мор любит кровавые времена, когда ещё до его прихода страшная жатва началась… И монахи, которые знали тайну сокровищ, погибли.
Пранцысь с интересом посматривал по сторонам, гадая, за каким поворотом мог быть заветный ход к сокровищам. Ватман держал фонарь, который освещал низкие влажные своды и делал лица похожими на лица покойников. Особенно это касалось Лёдника, его худой мрачный облик точно мог напугать случайного прохожего, если бы такие здесь попадались, но многочисленные встречные крысы боялись только света и шума. Соломея Ренич тоже казалась неземным созданием. Бледное лицо с огромными отчаянными глазами и тонкими чертами, идеально очерченные губы, гордая шея, тонкая фигура… Пранцысь случайно заметил интересную сцену, которая произошла, когда они выходили из подземелья по лестнице и Ватман пропускал всех вперёд, подсвечивая ступени фонарём. Когда мимо последней проходила панна Ренич, прижал её к себе и полушутя предложил:
— Выйдешь за меня, ведьмочка? У меня замок в Силезии. Будешь баронессой. Мою жену никто пальцем не тронет, ни магнат, ни король, а колдовства я не боюсь.
Соломея аккуратно выскользнула из медвежьих обьятий:
— Ваша милость шутит… Какая из меня баронесса? Я простая женщина.
— А ты подумай…
Хорошо, что Лёдник этого не слышал.
Похоже, они очутились в нижнем зале ратуши, видимо и предназначенном для тайных собраний — ни одного окна, тяжёлые своды, казалось, давили на самую душу. Испуганно мерцали свечи, их огоньки тянулись к невидимому проёму, будто хотели убежать.
Багинский на этот раз был в сарматском костюме, довольно скромном в сравнении с парадными, в которых он обычно появлялся. На его груди болтался золотой медальон, в котором, как говорили, находится портрет жены наследника российского престола и её локон: Багинский ещё не потерял надежду оттеснить счастливого соперника по завоеванию сердца будущей царицы и продолжал на всякий случай играть пылкого влюблённого. Князь Михал обнялся с младшей сестрой, пошутив над её монашеским видом, пообещал, что вскоре вернёт её к светской жизни, при хорошем поведении, естественно, и уселся за тяжёлый дубовый стол, украшенный резьбой в виде скрещённых мечей. Рядом с ним устроился черноволосый пан с седыми усами и висками, с умными тёмными глазами, которого называли Марикони — Пранцысь вспомнил, что это вице-маршалак менского трибунала, лютый враг Радзивиллов. За спиной Марикони вырос молодой шляхтич с такой спесивой рожей, какая могла принадлежать только малозначительному судебному чиновнику. Герман Ватман тоже стал за своим хозяином, обманчиво расслабленый, но готовый мгновенно приложить к полу любого, кто вызовет недовольство пана. По правую руку от Багинского расположилась мать Альжбета, его и Полонеи тётка, рядом с ней ещё одна женщина, с красивым властным лицом и тяжёлым подбородком — старшая сестра Полонеи Алена, жена маршалка дворного Потоцкого. Семейный совет Багинских с советниками… Лёдник, Прантиш и Соломея стояли перед ними как подсудимые.
— Я исполню, что обещала его княжеской милости, — тихо промолвила полочанка в ответ на бессловесные вопросительные взгляды. — Но обещать ничего наверняка не могу. Потому, что места опасные, погибнуть можно.
— С тобой пойдёт он, — Михал Багинский кивнул на Ватмана. Герман широко улыбнулся, его улыбка мало кому прибавила бы настроения. — Могу послать и лучших жолнеров, сколько скажешь. А твой жених тебя подождёт здесь.
— Со мною должен пойти человек, связанный со мной кровью и единством душ. Иначе не получится. Подземелья не позволят мне привести чужого человека, — твёрдо промолвила Соломея.
Багинский и Марикони переглянулись, а Алена из Багинских раздражённо нахмурилась, полоцкая Сильфида ей явно не нравилась.
— Ты хочешь сказать, нужно найти какого-то твоего родственника? — уточнила княгиня Алена.
— Или разовор о каком-то ведьмарском ритуале? — подозрительно спросила мать Альжбета.
— Не обязательно родственника, — Соломея покраснела, но продолжала говорить. Поскольку Господь сказал о муже и жене, что двое будут единой плотью… Со мной пойдёт Балтромей Лёдник.
— Но ведь он пока не муж тебе, — сердито сказала пани Альжбета. Панна Ренич на минуту опустила глаза, но снова смело продолжала:
— Перед небом и людьми — муж. Де факто… Пусть и не де юре.
Ватман зло прищурился, но тут же наиграно-весело захохотал:
— Ну, доктор, ну, пройдоха…
Лёдник стоял, как будто это его не касалось, весь такой достойный и важный. Полонея пробовала спрятать улыбку, прикрываясь рукавом. Мать Альжбета начала громко возмущаться, что разврат проник в святые стены, и это нужно жестоко карать, но Михал Багинский вежливо прервал её своим мягким голосом:
— Извините, пани-мать Альжбета, моральность — это важно, но мне кажется, для нас важнее сейчас обсудить совсем другое… За реликвией пойдут, как я понимаю, панна Ренич и её амарат, но Ватман тоже. Как, Ватман?
— Да пусть себе идут вдвоём, — ответил наёмник с кривой ухмылкой. — Не проблема, ваша мость… Если я пойду следом.
— Награда вам будет самая щедрая, — заверил князь Багинский.
— Пусть ваша княжеская милость и все присутствующие высокие гости простят, но позвольте напомнить об одном обстоятельстве, — Пранцысь едва дотерпел, чтобы не вмешаться раньше. — Дело в том, что этот Лёдник не является вольным человеком и не может распоряжаться собою по своему усмотрению. Он мой пожизненный слуга, который продал себя за долги.
Пранцысь с самым светским поклоном подал в руки князю бумагу от Агалинского, и торжественно промолвил фразу, которая заставляла его сердце победно биться.
— Доктор — моё имущество!
Багинский пробежал глазами бумагу и передал Марикони, который начал внимательно её изучать. Лёдник вперился куда-то перед собой отсутствующим взглядом, Соломея сжала руки, будто ей стало холодно.
— Имущество шляхтича — дело святое, — сказал Багинский. — Но я готов купить у пана Вырвича его слугу за любую сумму, которая его утешит.
Прантиш довольно улыбнулся. Вот теперь доктор почувствует, как нужно ценить своего хозяина!
— Может быть, и продам, — промолвил Прантиш, от чувства сладкой мести у него даже кружилась голова. Ну пусть не руку его доктор начнёт целовать, пусть хоть попросит — «Не продавайте меня, пан Вырвич», хоть знак какой подаст. Да хотя бы огорчится, Прантиш и его испугом удовлетворится. — Слуга мой с характером, непочтительный. Худой, зато сильный, — Вырвич схватил Лёдника за руку, будто демонстрируя присутствующим. Лёдник повернулся к нему и спокойно поинтересовался:
— Зубы показать?
— Что? — растерялся Пранцысь.
— На рынке рабов обычно ещё и зубы проверяют, — ровным голосом объяснил Лёдник. Пранцысь где-то в глубине души почувствовал, что перегибает палку со своей местью.
— А я бы его купил! — радостно промолвил Герман Ватман. — Доктор, звездочёт, золото варит… Только нужно ему сделать определённую операцию, чтобы девиц больше не портил.
— Не забывайтесь, пан, здесь дамы! — возмутилась мать Альжбета.
— А что, дамы против? — шалил Ватман. — Они все заинтересованы в потенции доктора?
На этот раз своего конфидента прервал сам Багинский, строго оглянувшись на него.
— Так за сколько продашь своего слугу? — серьёзно поинтересовался князь. Пранцысь сделал надлежащую паузу, принял важный вид и набрал в лёгкие воздуха, чтобы произнести давно заготовленное: «Мой слуга не продаётся! Поэтому в подземелье с ним отправлюсь я, чтобы защищать его и панну Ренич и добыть рамфею!»
Но произнести не успел, потому что трибунальский вицемаршалак Марикони скрипучим голосом сказал:
— Никакой проблемы не вижу! Согласно артикула девятнадцатого, раздел двенадцать Статута Великого княжества Литовского, если вольный человек продаёт себя в неволю, не в состоянии выплатить долги, за ним остаётся право выкупить себя в то же время, как он раздобудет соответствующие средства. И кредитор не имеет права удерживать его.
Багинский улыбнулся.
— Вот и чудесно… Сколько там Лёдник должен?
— Двести дукатов, — зачитал Марикони.
— Всего! — снова улыбнулся князь. — И на что пошли те двести дукатов, а, Балтромей?
— На алхимические опыты, — грустно признался Лёдник.
— И как, нашёл философский камень?
— Главное, я понял, что его не стоит искать, — так же мрачно ответил доктор.
— Ватман, двести дукатов с собою у нас есть? — спросил Багинский. Наёмник вытащил из своей сумки тяжёлую мошну, высыпал на стол монеты, пересчитал:
— Двести, даже с лишним, ваша мость!
— Отлично! Передай их Лёднику.
Ватман аккуратно ссыпал монеты назад в кожаный мешочек, лениво подошёл к доктору, бросил мешочек ему в руки.
— Так, теперь при свидетелях доктор Балтромей Лёдник должен отдать двести дукатов своему хозяину, шляхтичу Пранцысю Вырвичу! — скомандовал Марикони. — А вы, пан Романовский, — приказал чиновнику, который стоял за его спиной, — сейчас же это всё юридически оформите.
Чиновник послушно сел за стол, разложил принадлежности и начал быстро писать, даже перо поскрипывало. Князя Багинского эта сцена, похоже, очень позабавила.
Пранцысь как во сне почувствовал, что ему в руки вкладывают тяжёлый свёрток, который он едва не уронил.
— Ишь, как радуется парень, что столько денег заимел, — заметил Ватман.
— Алхимики, ведьмаки, чернокнижники — они же одержимые, – презрительно промолвила мать Альжбета. — Этот жалкий грешник всё равно свою волю не удержит.
— Вот как… — задумался Багинский. — А что, Лёдник, ты продолжаешь свои опыты?
— Я отказался от алхимии, астрологии и всех магических занятий, ваша милость, — твёрдо промолвил Лёдник, у которого от потрясения горели на худых щеках красные пятна.
— Очень достойный поступок, не правда ли, тётушка и сестрицы? — задумчиво проговорил Багинский, которому понравилась игра «дай волю доктору». — И лекарь ты, видимо, хороший… Диплом есть?
— Даже два, ваша милость! — промолвила Соломея Ренич, вот у неё голос дрожал. — Пражского университета, доктора вольных наук, и Лейпцигского университета, доктора медицины.
— Очень достойно! А что, пан Марикони, у тебя ещё остался какой-нибудь королевский патент нобилитации?
Ты, кажется, от Брюля получал…
Марикони улыбнулся, повертел головой.
— Есть один…
— Вот и впиши фамилию доктора. Сегодня лишь бы кто шляхетство себе покупает, сволочь всякая, галантерейщики, бакалейщики… А здесь — дважды доктор, в Европе учился.
Ватман снова захохотал, а пани Альжбета разбушевалась:
— Михал, это уже слишком! Ты что, хочешь этого хама сделать шляхтичем? Не позорь наши святые идеалы!
— Как говорит Жан-Жак Руссо, тётушка, все люди имеют от природы равенство, и отличаются только личными качествами, — насмешливо промолвил пан Михал.
— Ваша княжеская мость, пане-брат, я понимаю ваше увлечение Дидеротом и другими французишками, но представитель нашего старинного рода не должен так безразлично относиться к шляхетству! — вскрикнула и княгиня Алена, злобно взглянув на Соломею, будто та ва всём была виновата. Но князь Багинский, похоже, был только рад «показать козу» старшей сестре и тётке, которые с детства привыкли его поучать. Княгиня Алена утверждала, что низких людей лучше всего поощрять плетью… Пани Альжбета ворчала по поводу проклятых вольнодумцев, которыми увлекается племянник, о его музицировании и пачкотне, каковые являются грехом легкомыслия, отрывая от таких важных дел, как политика и война. Но Михал Казимир вовсю развеселился и начал обсуждать с Лёдником нашумевший трактат Руссо, игнорируя выкрики тётушки, что Руссо — лакей, и философия его лакейская!
Между тем бумаги были составлены, подписаны высокими персонами и зачитаны. Из них следовало, что полоцкий мещанин Балтромей Лёдник, во-первых, считается с настоящего момента снова вольным человеком, ибо рассчитался с долгами, а во-вторых, он теперь становится шляхтичем, паном Лёдником.
— Герб сам себе найдёшь! — веселился Багинский. — Примажешься к какому-нибудь роду… Хоть к Вырвичскому Гиппоцентавру… Бывший хозяин ведь одолжит тебе своего герба? Ты же ему теперь брат в шляхетском равенстве?
— Пусть лучше из клистирных трубок да ланцета специальный герб составит! — хохотал Марикони.
— Это негалантно, — присоединилась к тониким издевкам и Полонея. — Вы же понимаете, что скорее всего тем гербом будет пользоваться и та панна! А вы — клистир…
Паны хохотали, будто смотрели в балагане на дрессированых медведей, которых вынуждают танцевать, изображать светских хлюстов в богатых костюмах. Пранцысь молча наблюдал, как Лёдник и Соломея Ренич на коленях благодарят благодетелей за такую высокую милость. Кланяются, усердствуют… А паны всё хохочут… Полонейка кокетливо закидывает голову, показывает белые острые зубки, мать Альжбета прикрывает тонкогубый рот рукой, увешанной перстнями, даром что монашка, Багинский уже вытирает слёзы со своего пухлого лица… Хохот будто превращался в жемчуга, которые заполняли помещение, как в давеча увиденном кошмарном сне.
У школяра в голове было пусто, будто после доброй попойки, когда ещё не начали болеть полученные синяки да шишки, но состояние «море по колено» постепенно проходит. — Ну вот, на второй неделе поста отправляетесь в Полоцк, — промолвил, отсмеявшись, Багинский, которому снова становилось скучно. — Сапеги и Радзивиллы в это время будут на сойме в Варшаве.
— Пусть они в Варшаве решают что хотят, а мы знаем, кто станет следующим королём Речы Посполитой! — объявил Марикони.
— Виват королю! — выкрикнул, преданно выпучив глаза на Багинского, чиновник Романовский, желая, очевидно, угодить пану раньше других, но его подхалимского выкрика никто не поддержал, князь даже скривился, будто разгрыз гнилой орех, и пан Романовский смущённо отступил в тень.
— Если рамфея попадёт в твои руки, племянник, нужно будет безотлагательно засвидетельствовать об этом перед всем миром! — предупредила мать Альжбета. — Тебя поддержит святой костёл! Особенно если пообещаешь, что пожертвуешь ему святыню…
— Я ещё подумаю, как распорядиться этой святыней. И стою ли я её… — задумчиво промолвил пан Михал, вертя в руках медальон с портретом будущей российской царицы с самым мечтательным выражением на мягком лице. Пани Алена и тётка многозначительно переглянулись.
— Конечно ты, и только ты достоин владения реликвией и польского трона! — с нажимом промолвила пани Альжбета.
— Брат, подумай, ты сможешь осуществить все свои планы по улучшении жизни народа, мужичков наших несчастных просветлять станешь. При тебе расцветут искусства, пригласишь, наконец, ко двору своего любимого Дидро, и будешь с ним советоваться, — скрывая раздражение, подобострастно промолвила княгиня Алена, а панна Полонея, нарушая торжество момента, фыркнула.
— Возможно, и так… — вяло сказал Багинский, с тоской глядя куда-то в потолок и наверно мечтая вернуться к флейте или художественным краскам вместо тревожных политических разговоров, которые обещали только нешуточные хлопоты.
На его красивом сонливом лице просто написано было: отцепитесь… Я живу в мире Муз… Такого тяжело представить королём.
В помещении под лестницей на Вырвича, наконец, навалилось осознание того, что он за этот день натворил. И как ставил Лёдника на колени, и как красовался перед Багинским и его сёстрами в роли владельца ценного слуги, как пробовал слугу продать…
Двести дукатов, плюс полученные ранее сто… За эти деньги можно было приобрести и коней, и одежду, и купить слуг, и даже дом…
А Лёдник был не бедный, когда начал добывать философский камень, раз таких долгов наделал.
Лёдник… Пан Лёдник. Конечно, к новоиспечённой шляхте отношения были ироничными, и никто с ними, как с «панами-братьями», не считался. Плевались да возмущались теми «патентами» — раньше только на поле битвы великий гетман мог рыцарское звание выдающемуся вою присвоить, или сойм такое постановление принять… А тут королевские фавориты указами торгуют, саксонцами подписанными. Позор! Над фальшивыми шляхтичами смеялись, но это не были уже мещане, и все привилегии им принадлежали.
Что же, Лёдник вполне справится с поддержанием своей шляхетской чести… Раз ему удалось сохранить эту честь даже в положении раба.
Вырвич сейчас может возвратиться домой на собственном коне… Хоть в карете. Но более никогда низкий строгий голос ему не расскажет о путях планет и свойствах растений, о Монтене и Дидро… Не перед кем будет доказывать свои мужество и ловкость, и способность понимать самые высокие материи… Соломея Ренич больше не назовёт его милым мальчиком и не подарит улыбку, от которой хочется жить и становиться лучше. И в полоцкие подземелья с собою Прантиша они точно не позовут, а он надеялся проявиться там героем, вынести на свет Божий реликвию… Проявился. Теперь — всё…
Пранцысь впервые подумал, а что бы он делал, если бы Лёдник действительно сломался, стал его нахваливать, целовать ручку, униженно терпеть побои и радоваться подачкам? Ему нужен был такой Лёдник, приручённый, на цепи? Или ему нужен человек, которого он уважает и чьё одобрение так важно? Наставник, которого Бог послал ему за шелег на дороге в Воложин, которого он оскорбил и наконец продал за двести дукатов?
Прантиш кинул мешочек с монетами на пол, будто он обжигал руки. Какая пустота… Сам всё уничтожил… Единственное стоящее, что у него было… Как тогда, с Воронёнком! Он же так никогда открыто и не признал его другом — чтобы не унизиться. И промолчал, когда того тащили в карцер за чужой проступок.
Вырвич упал лицом вниз на сенник. Просить прощения напрасно, такое не прощают. Навозник… Он же получал удовольствие, унижая доктора, так же, как либертен Прашкович в подземельях слуцкого замка с помощью бронзового стержня. Вот тебе, парень, правда о шляхетской удали.
Прошли часы, а может дни, а может столетия… Юноша не обращал внимания, что там проплывает рядом — он хотел остаться на дне своего отчаяния навсегда.
На лестнице послышались шаги — Лёдник выходил от своей Соломеи… Вот это любовь — не побоялась прилюдно признаться в грехе, чтобы любимого не оставили заложником.
Прантиш не шевельнулся. Лежал ничком, и мечтал только, чтобы бывший слуга ничего не сказал… Не добил ядовитым справедливым словом. Пусть презрительно молчит и обходит бывшего хозяина, как кучу навоза… А может вызовет его на дуэль за оскорбление — он же теперь имеет право! И пусть, пусть убъёт…
Но доктор подошёл к Прантишу и присел на край его сенника.
— Ну что, отыграл спектакль? Удовольствие получил?
Как ни странно, в голосе Лёдника не звучало презрения или ненависти, только усталость и укор.
— Будешь изображать из себя умирающего Цезаря, или всё-таки сделаешь милость встать и поужинать?
Прантиш не верил своим ушам. После всего доктор беспокоится, чтобы он поужинал?
— Хочешь, чтобы тебя с ложечки кормили?
Вырвич почувствовал, что из глаз впервые за столько времени потекли слёзы. Вот же стыдоба… Даже в слуцком подвале не плакал. Его даже затрясло от несказанной жалости. А Лёдник вдруг тронул его за плечо:
— Заканчивай истерику, у меня с собою нет лекарств. Не знаю, что ты там себе напридумывал, но я тебя не покину. И не собирался. Хотя временами ты ведёшь себя просто как свинья.
Пранцысь замер, потом сел и непонимающе заглянул в привычно недовольное лицо Балтромея. Тот терпеливо, как маленькому, повторил:
— Не покину я тебя… И не убегу. Хотя иногда очень хотелось. Точнее, мы с Соломеей тебя не покинем, если сам этого не захочешь. Ты же без присмотра да по примеру титулованых самодуров превратишься в очередного буяна да пустодома с диамантовым гузом на шапке. А всё-таки проблески интеллекта у тебя последнее время наблюдались.
Вырвича затрясло ещё больше, он прислонился головой к плечу доктора и сквозь слёзы начал что-то говорить:
— Я не собирался тебя продавать! Правда! Только попугать… Чтобы ты сказал, что хочешь со мной остаться… И чтобы меня в подвалы взяли…
— Не стоило бы тебе идти с нами, — со вздохом промолвил Лёдник. — Это не на прогулку. Но, похоже, в окружении наших благодетелей нам опасней находиться, чем под землёй. Нам с Соломеей кажется, что этот дождь милости — даже с патентом на шляхетство — прячет не очень привлекательное для нас будущее. Где хозяин кладёт самый вкусный кусок сыру, знаешь? В ловушке. И о судьбе рамфеи мы должны думать. Князь может по слабости характера отдать её в руки российской царицы, чтобы подлизаться… Или попадёт святыня в Рим вместо того, чтобы укреплять силой своею наш Полоцк.
— Так может… удрать? — предложил Вырвич.
— Если бы мы были другими — убежали бы… Но Соломея присягнула. Выкупила наши жизни ценой согласия пойти в подземелья и отыскать копьё святого Маврикия. Теперь умрёт — присягу не нарушит. Но ведь и отцу она слово давала хранить тайну… Короче, снова между жерновами, парень, мы попадаем. Ну, ну, перестань реветь… В конце концов, благодаря твоим взбрыкиваниям я получил волю и шляхетство, а ты — деньги. Хотя удасться ли использовать тебе твои дукаты, а мне моё шляхетство, неизвестно. Успокойся, а то заставлю заниматься немецким сей же час.
Пранцысь был готов хоть немецким заняться, хоть ненавистной латынью, если доктор возжелает. Возвращался смысл жизни… Впереди ожидали подвиги! Даже воспоминание о Полонее Багинской больше не рвало сердце.
— Соломея, иди сюда! И тарелку неси. Пан Вырвич вышел из состояния всемирной печали и больше не хочет играть в укротителя своенравных слуг.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Как Прантиш
за гиппоцентавром ходил
| Н |
а иконе Пресвятая Богородица имела такое красивое, кроткое, грустное лицо… А её пылающее любовью сердце пробивали целых семь мечей! Молодой шляхтич Прантиш Вырвич от жалости глубоко вздохнул и на минуту представил, как бы он защитил Пресвятую, отбив те вражеские мечи своим Гиппоцентавром, тоскующем в плену иезутского коллегиума.
Прантиш, естественно, знал, что мечи на иконе просто символизируют ту боль, которую пережила Пресвятая Дева, потеряв Сына. Без оружия не обходится даже в святых вещах… В Апокалипсисе сказано, что из уст Господа нашего Исуса Христа исходит меч — символ непреодолимой небесной правды… С огненными мечами стоят архангелы у входа в потерянный рай, чтобы грешные потомки Адама и Евы не влезли к соблазнительным плодам, не испоганили любопытством своим святое место. С мечом рисуют святого Павла… Мечом святой Пётр, самый боевитый апостол, отрубил ухо римскому солдату из караула, который пришёл схватить Господа в Гефсиманском саду… Если бы там был Вырвич, жолнер отрубленым ухом не отделался бы! Конечно, нас Святое Писание учит прощать врагов, подставлять другую щёку… Но как же шляхтичу без оружия, особенно того, которое побывало в руках отца, деда и прадеда? На эфесе которого выгравирован Гиппоцентавр? Не зря в рукоять меча вкладывали святые реликвии. Испанский паладин Роланд, так тот умудрился в свой меч Дюрандаль вложить зуб святого Петра, сосуд с кровью святого Базыля, волос святого Дионисия да часть одеяния Пресвятой Девы.
В родовом мече Вырвичей ничего подобного не было, он сам был реликвией. С ним в руках на поле боя погиб дед Пранцыся. Размышляя, Прантиш расхаживал по помещению и напевал:
— Ехаў Ліцвін ды па Сініх Водах
Тры дні, тры начы,
Тры дні, тры начы, Меч крывавячы.
Скокаў Ліцвін, ой ды пад Смаленскам,
Тры дні, тры начы,
Тры дні, тры начы, Шабляй рубячы.
Кляўся Ліцвін у святой Дуброве
На старым мячы,
На старым мячы,
Чужынцаў сячы…
В ушах звучали поучительные слова Лёдника о настоящей отваге и мнимой, которая осуществляется за счёт тех, кто не может защититься. И Вырвичу очень хотелось доказать доктору и красивой пани Соломее, его сердечной подруге, а также заносчивой панне Полонее Багинской, а прежде всего себе самому, что он способен на отважные поступки. Сидеть безвыходно в монастыре, выжидать и учиться уже не хватало сил. Лёднику лучше — у него есть Соломея, да ещё каждый день ходит к матери Альжбете в качестве доктора — как же женщине без разных болячек! А доктор хоть и схизматик, но с дипломом, и в ремесле своём горазд. Начал лекарства для всего монастыря готовить, для чего ему на первом этаже хранилища казны ещё одну комнату открыли, сдвинув в угол сундуки с добром. Бывший алхимик устроил там небольшую лабораторию, гоняя сестру Доминику на кухню за припасами да приспособлениями. Аптечку монастыря, куда ночью Лёдника на ту же кухню водили, он наполовину забраковал, посоветовав выбросить запасы мышиного жира, сушёных лягушек и летучих мышей, настои на щенках и другие необходимые в каждом доме вещества. А ещё он вместе с Соломеей дорвались до монастырской библиотеки. Пранцысь с таким же умилением мог посматривать разве что на свежий пирог с зайчатиной под конец Великого поста, как эти двое на пыльные, пожелтевшие фолианты, которыми здоровенных крыс убивать можно.
— «Апостол»! Скорининский! — гладит нежно страницу, а у самого даже рука дрожит, и в голосе от умиления слёзы.
Тьфу, тронутые!
И когда на мостовую лёг первый снег, будто святой Франтасий постелил ковёр ради дорогого гостя, Пранцысь решил: время выручать своего Гиппоцентавра!
Естественно, что Лёдника в такие планы не посвятишь — раскричится, запретит… Хоть и шляхтич теперь, но ведь натуры своей учительской не изменил, да и шляхетства своего будто всерьёз не принимал. Хотя мог, как такие же «фальшивые шляхтичи», сразу же отрастить усы, на подаренные ему в придачу к патенту княжеские деньги заказать соответствующее платье, надеть перстни да пояс и требовать обращения «пан». Но Лёдник ни на гран не изменился, был почтительный без подобострастия, и одновременно строгий, требовательный да язвительно-ироничный, и это радовало. Потому что Пранцысь всё же считал такое «шляхетство» шарлатанством — не на поле боя добытое, с хохотом подаренное… И, похоже, Лёдник относился к ситуации так же.
Нет, в деле с Гиппоцентавром требовался иной сподвижник.
И вот в сумрачную пятницу повезло: монашка Доминика, презрительно сверкая глазами цвета высохшей листвы, объявила, что её княжеская милость дочь воеводы Багинская желает лично передать пану Вырвичу приказ своей тётки, матери Альжбеты, которая с утра в отъезде. Это по суждению школяра означало, что панна так же, как и он, тоскует и воспользовалась отъездом тётки, чтобы увидеться хоть с не стоящим внимания, но всё же кавалером и получить свою долю поклонения и куртуазных разговоров.
Сестра Доминика всем свои видом показывала, что не одобряет такие вольные нравы, но дочь воеводы была теперь в монастыре самым влиятельным лицом, и Вырвича с должными предосторожностями проводили к келье на первом этаже. Гостя встретила прислуга панны, которой он раньше не видел — тоненькая девчонка с грустными тёмными глазами в платье послушницы.
Прислуга завела Пранцыся в переднюю, по-монашески аскетичную, только распятие на стене и деревянная скамья, и осторожно постучала в дверь:
— Ваша мость, пришёл пан Вырвич!
То, что панна Багинская подготовилась к приходу гостя, можно было понять хотя бы по тому, что она нарочито не обратила на его приход внимания, сидя в кресле, повёрнутом к окну, но ножка в вышитом черевичке была поставлена на обтянутую бархатом скамеечку именно так, чтобы тот, кто вошёл, сразу увидел эту маленькую, похожую на челнок Метлушки, ножку и оценил совершенный французский ботиночек на изогнутом красном каблучке в три вершка. Да и вместо платья послушницы на панне было пусть не парадное, но шляхетское жёлтое шёлковое платье с голландскими кружевами. Комнату украшали предметы, отличные от монашеского устава, которые особенно выделялись роскошью на фоне голых стен: китайская шёлковая ширма с павлинами, два зеркала в золочёных рамах, фарфоровый чайный набор на столике из красного дерева…
Вырвич вспомнил всё, что вычитал о светских манерах в трактате Рэя из Нагловиц «Зерцало, или жизнь учтивого человека», и постарался держаться как можно более достойно, раскланялся, подошёл к ручке панны… Полонейка сделала вид, будто только теперь увидела гостя, и сразу настроила голос на холодно-покровительственный тон:
— А, пан Вырвич… Я из забыла, что приказывала вас привести.
— Всегда готов служить очаровательной панне! — вежливо ответил Прантиш, силясь не впустить в сердце никому ненужную обиду.
Багинская повернула к нему заносчивое личико (а нос припудрила не ради монашек же!) и строго промолвила:
— Пан Вырвич, должна передать вам приказ моей тётки, её княжеской милости матери Альжбеты. Среди сестёр бернардинок пошли нехорошие слухи о том, что происходит в левом крыле монастыря. Потому что до них долетает лязг оружия и выкрики! Я понимаю, что занятия фехтованием необходимы для мужчин, но в этом месте мужчин быть не должно! Передайте и вашему доктору: нужно держаться тише!
Прантиш самым галантным образом поклонился и заверил паненку, что они исправятся… Но есть одно обстоятельство, которая при упоминании оружия и фехтования надрывает вырвичское сердце…
Полонейка надменно приподняла бровку, показывая, что её мало трогает, что там делается в сердце какого-то загонного шляхтича, но не остановила — она бы сейчас, наверное, и кваканье лягушки послушала для разнообразия.
И Прантиш как можно более ярко рассказал ей о своём попавшем в плен оружии, которое он должен теперь любой ценой вызволить, исхитить. Особенный упор делая, что с этим оружием его дед служил в полку под началом деда панны, воеводы троцкого Марциана Багинского, и ранен был смертельно в славной Хотинской битве с войсками Гусейн-паши на Днестре. И всё, что просит от панны — помочь ему выбраться ночью из монастыря, и даёт своё шляхетское слова, что до утра вернётся.
И ей-богу — глаза панны загорелись, и Прантиш готов был присягнуть, что ей сейчас больше всего на свете хотелось бы пойти с ним и пережить Большое Приключение. И понял, что не ошибся, обратившись к спесивой магнатке, за обликом которой скрывалась шаловливая, бесстрашная (и беспощадная) девчонка. Полонейка хлопнула в ладони, и сейчас же прибежала прислуга, испуганно поглядывая большими тёмными глазами на хозяйку.
— Ганулька, когда пани тётка вернётся?
— Завтра, после утренней службы, ваша мость, — тихим нежным голоском ответила прислуга.
— Тогда вот что…
Вырвич мечтал воспользоваться подвалами — но тяжёлую плиту в одиночку даже Ватман не подымет, да и показать путь некому. И Прантиша вывела из монастыря Ганулька — самым банальным путём, через дверь, когда все уснули. Трусиха дрожала, как осина, и останавливалась на каждом шагу, нервируя Прантиша. Как она выдержит в тёмном коридоре до утра, ожидая условного свиста Вырвича?
Ветер подул в лицо колючими мокрыми снежинками. Воля! А школяр и забыл, какая она на вкус! Прантиш поправил за поясом пистолет, погладил саблю: хорошая, но ведь не своя! Менск спал на дне чёрной ноябрьской пропасти, и были в этом мраке свои чудовища и свои Тезеи… И как светоч Ариадны, светилось окошко панны Полонеи, la belle dame sans mersi — Прекрасной Дамы, которая не знает пощады, ради которой стоит умирать, но не стоит ждать благодарности и сочувствия.
Окрестности иезуитского коллегиума Прантиш знал, как цыган знает, на какую ногу начнёт хромать проданный им конь. Сколько раз школяр покидал свою комнату в конвенте не через дверь… Так что вскарабкаться с помощью знакомого до последней веточки дерева к окну спальни младшего курса не было никакого труда. Школяры побогаче селились отдельно, в гораздо лучших условиях, с прислугой… А здесь, в конвенте, набитые в комнаты сколько помещалось, ночевали бурсаки из бедноты. И один из них, тот, который был нужен Пранцысю, спал как раз у окна… Совсем не случайно, так как умный школяр всегда готовит себе путь к ретирации и проказам.
Пранцысь поцарапался в окно.
— Михась! Игрок, ты здесь? Мицкевич!
К стеклу прилипла заспанная физиономия, окно тихо приоткрылось (умный школяр всегда держит путь к ретирации и проказам наготове).
— Кто это здесь?
— Михась, это я, Пранцысь! Пранцысь Вырвич! Только тихо…
— О-ёй! Матерь Божья Ченстоховская… Перекрестись! — тот, кто шептал, перепуган был не на шутку.
— На, перекрестился… Если ты в этой тьме увидел. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Всё, вылезай, Игрок, дело есть!
Пранцысь соскочил на землю, и вскоре около него очутился шустрый щавлик Михась Мицкевич, лучший игрок в карты за всю историю коллегиума. Благодаря чему, а ещё своему авантюрному отчаянному характеру Михась и был принят в банду Вырвича. И прославился тем, что однажды выкрал из кабинета ректора конфискованные астрагалы — свои счастливые кости для игры. Лучшего компаньона по освобождению Гиппоцентавра нельзя было и придумать.
— Нам сказали, ты погиб! — немного подозрительно сообщил Михась, очевидно борясь с желанием пощупать старшего приятеля и проверить на предмет принадлежности к нечистой силе. Прантиш хмыкнул, объяснять ни о своём исчезновении, ни воскрешении не стал, однако заставил Игрока дать клятву, что никому ничего не скажет о встрече. В их банде клятв никто не нарушал, и придумали они такие заклятия, заковыристые да витиеватые, что их произносить было страшно, не то, что нарушить. Одно заклятие Игрок и прошептал Пранцысю на ухо, пообещав в случае измены среди прочего найти свои зубы высыпанными в собственный сапог и отдать печень на съедение гадюкам.
Когда Прантиш пояснил, что пришёл за своей саблей, Михась задумался.
— Не иначе она у ректора в кабинете. Есть там такой сундук, куда конфискованое да пожертвованое попадает… Когда у Шастовича нож забрали за то, что парту изрезал, он точно видел, что отец Романович положил его туда.
— Знаю я тот сундук, — задумчиво промолвил Пранцысь.
— Но на нём замок…
— Это не препятствие! — заверил Вырвич, наученный Лёдником открывать любой замок шпилькой вслепую. — Пойдёшь со мной?
— А то! — улыбнулся Мицкевич. — Всю жизнь мечтал с покойником банду создать!
Ночью приличным людям, которые не отягощены освобождением родовых сабель, следует спать. Ночью никакое учебное заведение работать не должно, ести там не готовят упырей или волков-оборотней.
Но когда Пранцысь и Михась пробрались тёмным коридором к кабинету ректора, пана Ромуальда Войниловича, из-под дверей пробивалась полоска света. Прантиш прислушался: тихо. Заглянул в отверстие для ключа: пусто, ей Богу, пусто! А свеча горит, обгорелый фитиль наклонился, как пьяный. Будто кто-то вышел на минуту и сейчас вернётся, или невидимые духи в комнате гуляют. Но отцов-иезуитов духи должны бояться, поэтому…
— Давай быстрее, я постерегу! — шепнул Мицкевич, и Прантиш дёрнул дверь, которая оказалась отпертой. Замок на сундуке, огромном, как челн, он прикончил за пару мгновений — не то что на ноге Сильфиды в Слуцком замке, осталось радоваться, что в кабинете светло — потому что среди наваленного в сундуке добра он бы свою саблю в темноте до утра искал… Там были сложенные дилеи и жупаны, серебряные кубки и подбитые мехом кунтуши, кинжалы и шкатулки…
Вот он, Гиппоцентавр! Прантиш поцеловал с детства знакомый клинок, надел на себя перевязь с ножнами из кожи угря…
— Идут! — тревожно шепнул Мицкевич, и школяры засуетились, как пескари в сети. В коридоре уже слышались чьи-то шаги, поэтому ретироваться не получалось… Куда спрятаться? Мицкевич первый нырнул в сундук, за ним двинулся Прантиш, искренне надеясь, что в полумраке никто не обратит внимания на открытый замок, и что гремящие предметы их присутствия не выдадут. Что-то твёрдое сразу впилось Прантишу в бок…
— Сюда, пан Марикони!
В кабинет, судя по голосам, вошли трое.
— Благодарю, пан ректор, что поддержали наши стремления добиться справедливости.
Это говорил Марикони.
— Как слуга Божий, я не могу оставить грех ненаказанным. Особенно после истории со святым отцом Облачинским… — в голосе всегда выдержанного ректора Ромуальда Войниловича слышался гнев. — Святой отец до сих пор не может отойти от позора.
— А вы слышали, что Володкович ещё и отцов францисканцев разогнал, когда те шли со святыми дарами и с гробом за покойником? А музыкантов вынудил идти с ним на гауптвахту, где сидел его приятель, такой же разбойник, и играть полечки…
— Слышал, пан Длуский… — мрачно проговорил ректор. — И считаю, что эти преступления нужно остановить.
Длуский был одним из советников магистрата, и Пранцысь понял, что они присутствуют при заговоре против Михала Володковича, приятеля Пане Коханку. А поскольку дело это было очень опасным, не удивительно, что заговорщики собрались ночью, в таком месте, где никто не заподозрит собрание.
Что-то ещё более болезненное впилось в бок школяра, и Пранцысь начал вспоминать историю о спартанском мальчике, который, чтобы не пошевелиться в присутствии старших, терпел, пока спрятанный под рубашкой лисёнок выедал ему внутренности. А между тем заговорщиков даже трясло от ненависти.
— Он безбожник! Это точно! Прямо в зале суда выкрикивал страшные кощунства… А то, что он святое распятие разрубил! — кричал с ненавистью Марикони. — Это страшнее, чем разрубленая рука пана Длуского…
— И это правда, панове… — отметил Войнилович. — Но мы ничего не можем сделать, как не смогли осудить его брата Юзефа за истоптание шляхтича Яцыны. Пан Михал выбран казначеем Трибунала… В соответствии с законом за рассечённую руку он может отлить для пана Длуского серебряную руку, а за кощунство — разве что три месяца башни. И то сомневаюсь, что он их отсидит.
— Менская шляхта — за нас! — Длуский едва не извергал огонь, как слуцкий дракон. — В Быхове, Варшаве, Вильне, Городне — повсюду есть люди, которым радзивилловские бесчинства в горле сидят. Полк Масальского нас поддержит! Главное — не отступать! Осудить мерзавца на горло! И сразу же — расстрелять.
— Так он на суд не явится… — засомневался Войнилович. — В город приехал радзивилловский наёмник, судья Юдыцкий, живёт в проклятом доме на Подгорной, а шпиков рассылает от Татарского конца до Золотой горки. Вынюхают, предупредят разбойника, чтобы не приезжал.
— Явится! — заверил Длуский. — Володкович доказывает, что никого и ничего не боится. Его хозяин рассказал очередную байку, как с чёртом дрался и победил, так этот богохульник теперь, напившись, бегает по кладбищу и вызывает нечистую силу на дуэль. Вот бы Господь допустил, чтобы она ему появилась, да свернула поганую шею! Нет, панове, Володкович придёт в суд, даже если точно будет знать, что его казнить собираются. Даже ещё вернее появится — чтобы доказать своё бесстрашие и всемогущество. Тогда — никакой пощады! Законы не для таких, как он. После рождественского карнавала и объявим суд!
— А что потом сделает с нами его милость Кароль Радзивилл? — осторожно спросил Войнилович. Марикони рассержено фыркнул:
— Радзивиллы тоже не всемогущие. Придёт сила и на них!
— Вот как… — продолжил Войнилович. — Слышал я, что вскоре в Беларуси появится одна святыня… очень могучая… И объявится она в руках следующего короля, которого никто не победит. И это, возможно, будет не Радзивилл. Вы ничего не слышали об этой святыне?
Голос ректора звучал мягко, будто он осторожно раскладывал силки из слов.
— Ничего, — коротко ответил Марикони.
— А что за святыня? — заинтересовался Длуский.
— Та, которую стоит вернуть в Рим, святому престолу, — так же мягко, но с затаенной угрозой, промолвил ректор. — Уверяю вас, что тот, кто это сделает, заимеет могучую поддержку от костёла… Если же нет — накличет на себя вечное проклятие.
— Я бы на месте вашего преосвященства не очень верил слухам, — сухо промолвил Марикони.
— Наш отец Игнаций Лойола учил быть бдительными ко всему… — мягко возразил Войнилович. — Под каждым нелепым предрассудком может оказаться реальная тайна или дьявольские происки. В Полоцке наши братья с доброты покойного короля Стефана Батория построили костёл Святого Стефана. Во время строительства встретились с удивительными явлениями… И слухами.
Иезуит помолчал, видимо, ожидая комментариев, не дождался и продолжил:
— Возможно, пан Марикони, вы что-то узнаете об некоей святой вещи, и подскажете тем, кто на неё охотится, как нужно поступить.
— Если вдруг узнаю, васпан, подскажу, — холодно заверил Марикони.
— И главное — ни слова о наших намерениях даже на исповеди! Лучше ко мне на исповедь приходите! — полушутливо предупредил Войнилович.
Когда свеча была затушена, дверь кабинета закрылась и шаги в коридоре умолкли, школяры решились покинуть сундук. Пранцысь с облегчением растёр онемелый бок…
— Они же на ключ кабинет заперли! — с отчаянием прошептал Михась. Но Прантиш только покровительственно похлопал младшего приятеля по плечу… После науки Лёдника Вырвич мог возглавить банду воров и шуршать по домам, несмотря ни на какие засовы — правда, доктор ошалел бы, если бы такое услышал.
На улице был собачий холод… Вдруг повалил мокрый снег. Школяры рысцой двинули к общежитию… Стали под деревом.
— Ну, слава святому Францску, обошлось! — радовался Михась. — Сабля твоя у тебя, никто нас не видел! Ты чего кислый, как капуста?
— Мне не нравится дело с Володковичем… — удручённо признался Вырвич. — Это не благородно — без суда и закона расстрелять шляхтича.
Где-то на Верхнем рынке залаяла сабака, и ей отозвались соплеменники по всему городу.
— А что тебе до Володковича? — пожал плечами Игрок. — Если бы встретил его где-то, думаешь, он бы тебя дукатами осыпал? Лупить бедных шляхтичей плетьми, как он — это, по-твоему, благородно?
Вырвич вздохнул, ощущая себя последним дураком. Но уже знал, что не может поступить иначе.
— Нужно его предупредить.
Игрок даже подскочил.
— Ты сумашедший! Его же и в Менске нету.
— Может, через судью… Юдыцкого того… — неохотно проговорил Вырвич, вспоминая неприятные минуты своего и Лёдника заключения, и как Юдыцкий разбил доктору лоб, и угрожал проверить Пранцысево шляхетство… Но даже ради мести врагу сарматским идеалам изменять нельзя. Дуэль — да… Переиграть врага, перемудрить — достойно. Схватить гурьбою одного и расстрелять — позор! Пусть он трижды заслуживает. Теперь Прантиш понимал, почему Лёдник собирался лечить в лесу раненого конвоира, что не помешало бы ему раньше или позже зарубить своего пациента саблей в бою. Благородный человек — это тот, у кого есть принципы, которые он не переступит даже ради собственного спасения.
Михась Мицкевич очевидно не понимал, почему атаман вдруг стал на сторону Радзивиллов, и Вырвич не стал его тянуть с собой. Попросил только сбросить из окна свечу, огниво и мел.
У Вырвича нарисовался интересный план, который сочетал сладкую месть и исполнение сарматского долга. Дом на Подгорной не зря был назван проклятым. Несколько лет назад жила там красивая панна, было у неё два ухажёра, один, как водится, старый и богатый, второй — молодой и бедный. Панна охотно поменяла бы их свойства, что позволило бы ей наконец определиться, а пока дурила головы обоим. А когда бедный шляхтич начал аффектоваться, постановила: пусть принесёт ей особенные лилии, которые растут только в Несвиже, в оранжерее дворца великого гетмана Казимира Радзивилла Рыбоньки, и отдаст она взамен своё сердце.
Хорошо ещё звезду с неба не попросила.
Шляхтич, однако, не колебался, доскакал до Несвижа и среди ночи полез в княжеский сад. Цветов наломал, но был покусан собаками, словлен и приведён к самому князю. Незадачливый вор честно рассказал Казимиру Рыбоньке свою историю и ждал наказания. Но князь расчувствовался, признался, что и сам изведал подобные пылкие чувства, и приказал романтического хитника отпустить, отдав ему цветы с серебряной вазой в придачу. И случилось бы оно всё как в сказке, если бы это была сказка, а не жизнь. Потому что влюблённый молодчик, припёршись с добытыми ценою покусанных голеней цветами к любимой, увидел её в обьятиях богатого соперника, и осталось ему только заесть свой афронт радзивилловскими цветами. Парень, однако, не имел при себе доктора с двумя дипломами, который напомнил ему о контроле над дыханием, и вскипел, как забытое на огне молоко. Богача зарубил, а любимую схватил и — вместе с нею — в Свислочь… Так что оранжерейные лилии возложили на свежие могилки. Куда подевалась подаренная гетманом серебряная ваза — никто не рассказывал.
Ну и, естественно, пошли слухи, что девица стала русалкой и блуждает, прохожих губит… Что значит, пугает да топит в Свислочи. И убийца при ней тенью бродит. Родственники утопленницы из дома съехали, никто не захотел там селиться. А судья Юдыцкий, известный скупердяй, видимо, и позарился на низкую цену. Но, насколько Прантиш помнил, отвагой судья не отличался. Так что в появление призрака должен поверить.
Дом был одноэтажный, на два конца, с деревянными колоннами на крыльце… Чтобы не ошибиться, где ночует судья, оставалось только бросить в стекло камень. Знакомый визгливый голос за одним из окон сейчас же обругал менчан до седьмого колена.
Теперь осталось выждать, и…
Судья Юдыцкий действительно имел больную печень и проблемы в постели, что не придавало приятности его характеру. Но вспоминая о той ночи, делался он жёлтым, как шафран, и злющим, как стая борзых, из-под носа которых чудесным образом вырвался хромой заяц. Вот вскочил вдруг на тучку, летит себе, хохочет, а они тогут только лаять вслед…
До конца своей судейской жизни не забудет Юдыцкий, как в окне его мерцало ненатурально белое лицо, которое немного напоминало школяра-чернокнижника, расстрелянного пушками в Слуцке вместе с дьявольской машиной.
— Юдыцкий! Юдыцкий! Меня послал святой Франтасий! — завывал призрак. — Скажи Михалу Володковичу, пусть не идёт в суд, ибо погибнет!
Судья, стоя в кровати на коленях, пробовал молиться, но в голову лезли только статьи Статута, касательные записей и продаж, и вертелась фраза «естли бы какой спадок на кого по умерлой руке правом прирождённым припал».
Ужасное видение вдруг исчезло, будто растаяло в ночи. Юдыцкий не стазу отважился подойти к окну. А когда всётаки подошёл, с зажжённой трепещущей рукою свечой… Ну не зря же он достиг высот в судебном деле, которое при королях Сасах превратилось не то чтобы в лабиринт, но в непролазные дебри, где нет ни троп, ни дорожек, а из-под каждой коряги может прыгнуть хищный зверь. На клочке мокрого снега под окном, который ещё не успел растаять, виднелась цепочка следов, которую ни один приличный выходец из могилы после себя покидать не станет.
Крики судьи сотрясли славный город Менск и ускорили бег одного дерзкого и слишком живого призрака. Большое его счастье, что вместо мокрого снега снова хлынул дождь, смывая следы. Пранцысь мчался к монастырю бернардинок, а голоса погони уже звучали где-то на соседней улице…
— Сюда! — окно на первом этаже распахнулось. — Держи!
Прантиш почувствовал касание чего-то мягкого, не верёвка — скрученная ткань… Но карабкаться наверх ему не впервой.
— Вот мой Гиппоцентавр!
…На осклизлом берегу холодной Свислочи, обнявшись, горько плакали два призрака: молоденькая кокетливая паненка, с волосами, украшенными гнилыми лентами водорослей, и её убийца с выеденными речными обитателями глазами… Такая благоприятная ночь для появления, для запугивания доверчивых горожан — а те горожане, будто им пятки поджарили, бегают просто сквозь прозрачную парочку, совсем не обращая внимания, только стирают со своих перепуганных физиономий нездешнююю изморось, и ищут мошенника с испачканным мелом обликом, как честного призрака! Вот она, несправедливость жизни: маскарадные фигуры считаются единственно настоящими, а от истинных ужасов отмахиваются, как от паутинки бабьего лета! Как же не заплакать призрачными слезами, не возжелать навсегда покинуть этот разуверившийся неблагодарный город, который мог бы своих призраков использовать, к примеру, ради привлечения богатых заграничных путешественников, охочих до ужасных чудес…
И оба неупокоенных духа снова бултыхнулись в чёрные воды Свислочи, которая и не такую дрянь в себя принимала и ещё примет на протяжении столетий.
Прантиш с княжной Полонеей сидели в темноте, прислонившись спинами к тёплому боку печи-грубки, так близко друг к другу, что мать Альжбета осудила бы обоих на двухнедельное покаяние. Вырвич незаметно спрятал в карман платочек, пожертвованный ему княжной, чтобы стереть с лица мел — хорошо будет навязать этот платочек на шапку, ести придётся идти в бой.
— Возможно, судья всё-таки решит, что ты ему привиделся, — тихо промолвила Багинская. — Но рисковать всем ради того, чтобы спасти врага… Юдыцкий тебя бы в тюрьме сгноил. Если же до моего брата дойдёт, он посчитает, что ты его предал.
— Я не мог иначе.
Полонея помолчала.
— Знаешь, за что меня в монастырь сослали?
— Нет…
— За дуэль.
Вырвич постарался не выдать удивления.
— Дуэль по всем правилам. А что? В Вильне дамы бьются, в Кракове, в Париже, в Санкт-Петербурге. Жена наследника россейского трона Екатерина по несколько раз в году бывает секунданткой у своих придворных дам. Я вызвала Агнешку Чарторыйскую, сестру своего жениха. Отбила у меня первую фигуру в кадрили. Кавалера увела и ещё посмеивается, лахудра. Кавалер тот мне и на закуску не сгодится, но честь задета! А главное… Главная причина — она считает, что Багинские не могут быть королевской семьёй! Мы — только придворными у Чарторыйских, понимаешь, можем быть! А брат мой — «мокрая курица»!
Багинская вскипела не на шутку. Интересно, остальные сёстры пана Михала такие же амазонки?
— А на чём вы дрались? — осторожно спросил Прантиш, который слышал, что в качестве оружия боевитые дамы иногда употребляют зубы и ногти.
— А на шпагах! — спокойно ответила Полонейка. — Я эту швабру сразу в правую руку ранила, так она давай реветь, как ребенок, у которого игрушку отняли. Короче, шуму… Жених в оскорблённую позу становится. Тётушки дворцовые шипят о падении нравов. И брат сказал, что с него хватит, что бешеные сестрички больше не втянут его ни в какие авантюры, отказался общаться с паном Сапегой, сказал, что никакой рамфеи не существует, одни выдумки… И отправил к тётке Альжбете грехи замаливать.
Багинская вздохнула.
— Хорошо, удалось всё сделать, как планировали. Старшие сёстры тоже постарались, как могли, брата настроили.
Вырвич, конечно, промолчал, что без него, Прантиша, ничего бы у женской половины Багинских не получилось бы.
Когда перепуганные бернардинки, которые проснулись от шума на улице, помолившись святому Бернару, уснули, Полонея проводила Прантиша в казнохранилище.
А на прощание сказала странным тихим голосам:
— Слушай… Не ходи с этими мещанами в подземелье. Не нужно тебе.
И даже не сразу отклонилась, когда посконник Вырвич поцеловал её в щёчку.
А в казнохранилище Лёдник и Соломея не спали. Соломея напрасно пробовала успокоить бывшего алхимика и едва удерживала от того, чтобы выскочить через окно или полезть в подвалы в поисках исчезнувшего школяра. Пранцысю даже показалось, что сейчас он получит розгами по тому самому месту, для которого они предназначены. К счастью, розог под рукой не было, а Лёдник получил огромное облегчение, что его бывший хозяин вернулся живой и здоровый, и гнев его прошёлся только по вершинам, как лёгкий ветер.
Зато у Прантиша был его Гиппоцентавр! Бутрим, естественно, поворчал о неразумном мальчишке, но Вырвич так светился гордостью, что доктор не стал даже пробовать его пыл пригасить. Сам изведал острое счастье, когда, вдыхая смертельные испарения, добывал незнакомые вещества.
Зато рассказ Вырвича о встрече с Юдыцким доктора встревожил по-настоящему… Но ругаться, что Прантиш не должен был предупреждать врагов об опасности, Бутриму и в голову не пришло. Беспокоило и то, что о рамфее узнали иезуиты — хоть как раз это было не удивительно, с их всемогущей шпионской паутиной и неистовым собиранием всех старинных тайн.
Прантиш лежал рядом со своей родовой саблей и думал о Полонейке. Отважной, как античная богиня. Она ведь тоже не посчитала напрасным его поступок с Володковичем и пообещала сохранить в тайне. Более того — школяру показалось, что его поход к Юдыцкому вызвал у неё уважение больше, чем похищение Гиппоцентавра. Поцеловать позволила… Но ведь при этом и не вспомнила, что где-то у дверей, в тёмном коридоре пугливая Ганулька, а она, похоже, не простая девушка, всё ждёт возвращения пана Вырвича, чтобы впустить его в монастырь.
И Вырвич, к сожалению, уже не мог не понять, что когда они с очаровательной, отважной Полонейкой встретятся потом, на людях, она, скорее всего, его просто не узнает, или — как самое большое одолжение — холодно и едва заметно кивнёт головой со сложной причёской… И невидимый меч снова пронзит сердце загонного шляхтича с голубыми глазами.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Минотавры
Полоцких подземелий
| П |
о дороге из Менска в Полоцк не так много оставалось православных храмов… А нужно было ещё найти тот,
где священник проведёт тайный обряд венчания в ночи, и никто из окрестных деревень не уследит.
Но пан Лёдник, владелец свежего патента на шляхетство, подписанного королём Августом Сасом и проданного за тысячу дукатов его конфидентом графом Брюлем неизвестно кому, упёрся, чтобы перед опасным путешествием в очередные подземелья обязательно освятить отношения с красавицей – подругой детства.
А если доктор упорствовал, его можно было убить, но не отговорить.
Свечи мерцали, как будто какие-то мизерные существа, прощаясь, махали маленькими огненными платками. Мрак по углам храма от этого казался ещё более тёмным, а слова священника угрожающими… Хотя он говорил о вечной любви и единстве душ. Что Бог соединил, того человек не разъединит.
Балтромей Лёдник и Соломея Ренич тоже не выглядели беззаботно счастливыми, как следовало жениху и невесте. Они скорее напоминали тех, кто собирается на смертельный бой… Хотя ведь так и было — поведение магнатов, которые позволяли маленьким людям удовлетворять свои капризы, да одаривали их неслыханными щедротами, напоминало поведение поваров, кормящих рождественского гуся марципанами, изюмом и другими вкусностями, что должны придать мясу особенный привкус. Вот, пожалуйста — позволили полочанам обвенчаться, когда Лёдник потребовал. И Пранцысь, который выполнял роль дружки у своего бывшего слуги, догадывался, почему Лёднику невтерпёж под венец. Чтобы, если что, Соломея осталась шляхтянкой, так как жена перенимает звание мужа. Это «если что» Вырвичу не нравилось.
Над Соломеей держала венец пугливая прислуга панны Багинской. Ганулька время от времени бросала на Пранцыся встревоженный взгляд, но Вырвич делал вид, что этого не замечает. Тени делали лицо Лёдника совсем мрачным, и Прантиш по-прежнему не мог понять, что в облике доктора притягивает женские взгляды. Куртуазный мужчина должен быть с аккуратными светлыми кудрями, ясноглазый, с улыбкой на губах и румянцем на щеках. И уж никак не такой клювоносый…
Соломея в простом светлом платье повернулась к жениху, и чуть-чуть улыбнулась, ямка возникла только на левой щеке, и за этую ямочку каждый не слепой мужчина готов был отдать… ну если не жизнь, то всё остальное. За что доктору досталась такая женщина? Барон Герман Ватман, видимо, подумал об этом же, потому что громко вздохнул и вышел из маленькой церкви в глухой деревеньке между Менском и Полоцком.
…И ложе, и напасть одни на двоих… И подземелья.
На полках полоцкой аптеки бутылки и сосуды громоздились так тесно, что между ними нельзя было и палец просунуть. Что темнело в некоторых стекляшках, свернувшись в кольца, извиваясь бурыми водорослями, Вырвич даже знать не хотел. А острый взгляд светлых, как голубой лёд, глаз аптекаря Лейбы не придавал уюта, ибо казалось, что аптекарь видит насквозь твои смешные недостатки, и снисходительно над ними посмеивается. Ясно теперь, где Лёдник набрался язвительности. Хоть нет, у Лейбы была не язвительность, а скорее мягкая насмешка — и над миром, и над собой, перемешанная с грустью и извечным фатализмом. Будто человек раз и навсегда сказал себе: я знаю, что вокруг дерьмо, но я же ничего не изменю, поэтому остаётся только горько посмеяться.
Но на Лёдника и Соломею аптекарь посматривал со слезами умиления.
— Бутрим! Деточка! Ты жив! И ты, дорогая моя! Господь вступился, не иначе! Прости, прости старого труса — я не смог за тебя толком заступиться… Кто я такой? Прикрикнули, и у меня язык прилип к зубам… А на тебя, бедная девочка, обрушились такие силы, что я думал — всё… Не увижу больше твоего ангельского облика… Боже великий, Боже всесильный… Вступился!
Аптекарь долго обнимался с Соломеей и Бутримом, потом хитро улыбнулся:
— Как я рад, что вы вместе. Наконец ты, Бутрим, смекнул, что самое чистое золото не в тигеле, а рядом, в волшебном облике Соломеи Ренич.
— Она — пани Лёдник, — важно молвил Бутрим. И Лейба едва не расплакался, приговаривая, каким счастливым был бы его друг Иван Ренич, если бы только мог дожить до этой минуты. Потом окинул взглядом довольно скромные одежды бывших учеников и осторожно уточнил:
— Ты сказал, Бутрим, она — пани? Это значит, ты очень высоко взлетел, мальчик?
— Воздушный змей на верёвочке тоже взлетает высоко, дядька Лейба, — сдержанно ответил Бутрим, и аптекарь перевёл умный взгляд на окно, за которым на фоне бледного зимнего утра темнела высокая фигура Германа Ватмана, а где-то ещё скрывались и жолнеры Багинского. И Вырвич подумал, что аптекарь вообще понимает намного больше, чем показывает. И насчёт Прантиша тоже, которого доктор представил как «благородного пана Вырвича», что соблаговолил в тяжёлую минуту приютить бывшего алхимика.
— Значит, твои приключения не закончились, Бутрим… — с осуждением промолвил аптекарь и от огорчения даже смешно дёрнул себя за седые с остатками рыжего пряди, которые свисали из-под чёрной шапочки. — А я надеялся, что ты взялся за ум! Когда узнал, что ты к Мартину Радзивиллу подался, просто пожалел, что больше никто не может оттаскать тебя за волосы, чтобы не лез, куда не нужно. Как я услышал, будто высокородный юрод решил, что евреи владеют разными желанными ему секретами, да начал изучать каббалу, раввинов к себе натаскал — вместе с алхимиками да разными мошенниками, мне сделалось страшно… Ты же сам должен был видеть, он приказывал готовить наши блюда, посвящать его в таинства, как он это понимал… Нашего рэбе тоже по его приказу в Черновчицы возили. Разве можно играть в веру! Разве можно обмануть Бога, пусть сотни льстивцев тебе говорят, что ты — святой и мудрый, как Соломон! Тьфу… А ты и такие, как ты, в тот же час вызывали ему духов, показывали мир мёртвых или заоблачные города, добывали из меди золото да пророчили сумашедшему всемирную власть… А потом снова во всём обвинили евреев!
Аптекарь осуждающе потряс головой.
— Бутрим сам пострадал, дядька Лейба, — тихо проговорила Соломея. — Едва живым оттуда вышел… Он отказался от алхимии и всяческой магии.
— Но последствия своих поступков распутывать приходится долго… И, к сожалению, не только самому, — мрачно проговорил Лёдник.
— Боюсь, то, что происходит с нами сейчас, последствия не столько твоих поступков, Бутрим, как моего отца, — сокрушённо вздохнула Соломея.
— Вот оно что… — задумчиво обронил Лейба, снова бросив быстрый взгляд за окно, потом почему-то на Пранцыся. — Давайте пойдём в комнату, посидим, поболтаем…
Аптекарь приглашающе махнул рукой в сторону двери во внутренние помещения дома. Лёдник задержался у полок, потрогал бутылочки, даже нежно погладил маленький столик в самом углу…
— Да, Бутриме, именно здесь ты учился толочь зелья… — улыбнулся Лейба. — Кто бы мог подумать, что из маленького почемучки вырастет настоящий дипломированный доктор…
— Дядька Лейба, — Бутрим кивнул на полки, — зачем ты хранишь всяческие бесполезные вещества, навроде настоя на крыльях летучих мышей?
Хозяин хитро улыбнулся.
— Пока их заказывают и покупают, буду держать. А почему нет? Вреда от таких веществ нету, а польза в виде живых денег есть. К тому же, парень, ты так и не усвоил, что больному помогает только то, во что он верит, пусть это будет чистая вода.
Лёдник неодобрительно нахмурился, но дискутировать не стал.
Комната была маленькая, освещалась не свечкой, а масляной лампой, и дышалось здесь тяжело из-за бумажной пыли: все стены увешаны полками с книгами, от толстенных фолиантов до папирусных свитков. Вырвич подозрительно осмотрелся вокруг: ему не приходилось гостить у евреев, вообще было странно, как Лёдник и Соломея вольно и уважительно обращаются с аптекарем, и с откровенной приязнью он к ним… Лейба заметил его взгляд:
— Пусть простит ваша мость скромность моего жилья. Но здесь вам ничего не угрожает. Поверьте, временами на меня эдак же косо поглядывали мои единоверцы за дружбу с Иваном, как и на него — православные… Просто в каждом народе есть свои дураки и свои мудрецы, предатели и герои, вожди и чудаки… Процентщики братья Ицковичи, из-за которых восстал Крычев, обирали всех, не смотрели на веру. Так же, как и другие арендаторы — литвины, братья Волковыцкие, которые тех же кричевцев мордовали. А мы с Иваном Реничем были именно чудаками. Он — среди своего народа, я — среди своего… А чудаки, которые жаждут знать намного больше, чем позволяют обычаи, никому не нравятся, над ними смеются, их боятся… Зато они могут узнавать друг друга во всём мире, и сходятся на пути к познанию, на котором нет разницы даже между шляхтичем и мещанином, пусть простит меня ваша мость, но разница только в глубине и смелости мысли.
— Не каждое знание одобряет Господь, — твёрдо промолвил Лёдник. — Не всё, что мы познаём, идёт на спасение души.
— Тебе лучше знать, «бедный Фауст», — неожиданно жёстко сказал аптекарь и откинулся на высокую деревянную спинку кресла. — Слышал о том, что Иван тебя так называл? Писали мне из Праги, в какие ты компании был вхож… Хорошо, что остановился. Но сюда вы пришли именно за опасными знаниями, не так ли?
— Да, дядька Лейба, — Соломея бросила взгляд на Балтромея, будто хотела набраться от него смелости. — Мы должны пойти туда, куда… ходил отец. Я нашла в его вещах вот этот ключ.
Тяжёлый, потемневший, грубой работы ключ лёг на стол. Улыбка исчезла из светлых глаз аптекаря, он строго поджал губы, помолчал.
— А твой отец хотел, чтобы ты сделала то, что собираешься?
Пани Лёдник опустила голову в короне тёмных кос, которые по-хорошему должны были бы, как у замужней женщины, быть скрытыми под намиткой — но у молодых не хватало ни времени, ни сил придерживаться обычаев…
— Он не хотел бы этого, дядька Лейба. Но у меня нет выбора. Я присягнула, что сделаю это… Именем своего Господа.
В обмен на жизни дорогих мне людей…
— И на свою жизнь, не так ли? — спросил-утвердил аптекарь. — Вот почему тебя отпустили…
— Мы не дадим, чтобы с пани Соломеей случилось чтото нехорошее! — горячо заверил Прантиш. — И ничего бесчестного не сотворим.
— А что считать бесчестным, а? И как соизмерить жертву и пользу от неё? — невесело улыбнулся Лейба. — Когда царь Давид послал своего военачальника Урию на гибель, он руководствовался самым благородным чувством — любовью. А позор какой получился — едва отмолился. Но от брака Давида с вдовою Урии, ради которой и совершил царь преступление, родился мудрец Соломон… Значит, Урия погиб не зря, а? И грех Давида пошёл на пользу?
Вырвича даже дрожь пробила: он понял, что старый аптекарь по канонам всех религий кощунствует… Не сверкнёт ли здесь сейчас молния Божьего гнева?
— Мы доверимся Божьей воле, — твёрдо промолвила Соломея.
— Всё равно нас в покое не покинут, дядька Лейба, — тихо проговорил Бутрим. — Не дадут ни убежать, ни спрятаться.
А так есть шанс, что хоть кто-то из нас выживет.
Лейба молча повернулся и вышел в соседнюю комнату, плотно закрыв за собой дверь. В стеклянной банке, что стояла на нижней полке между фолиантами, в мутной жидкости что-то вдруг зашевелилось и снова замерло, только в пыльном воздухе растаял такой звук, будто кто-то бросил камень в глубокий колодец.
— Твой отец оставил разгадку пути к христианской святыне здесь? — не выдержал Прантиш, обернувшись к Соломее. Та пожала плечами, прошептала:
— Отец доверял дядьке Лейбе. К тому же здесь никто бы не додумался искать, даже иезуиты.
Аптекарь вернулся, держа в руках сундучок из тёмной древесины. Прантиш ожидал увидеть там что угодно — но не то, что достала Соломея: клубок тонкой верёвки, завязанной узелками.
— Что же, отговаривать вас — зря тратить своё время, а его у меня не так много осталось до встречи с праотцом Абрамом… Мало я нетерпелся за последние три года, благодаря Ивану… И снова проклятое подземелье меня достаёт. Чтоб им Левиафан воспользовался да хорошо обрушил. И когда думаете идти? — мрачно проговорил Лейба.
— Сейчас же! — выкрикнул Вырвич, положив руку на Гиппоцентавра.
— Ваша правда, благородный пан, оттягивать мгновение, когда на тебя упадёт подвешенный на волосе меч — продолжать свои мученья… — покивал головой аптекарь. — Всё, что я могу — проводить вас до входа, как Харон.
Вырвич ожидал, что вход в полоцкие подземелья окажется где-то в романтическом, святом месте… Но выявилось, что он… в погребе полоцкого аптекаря Лейбы.
Тот просто однажды зашёл туда после весеннего половодья, когда подземные воды пробивали во влажной земле свои капризные пути, и… провалился. Еле выкарабкался наверх. Оказалось, дед Лейбы, который воспользовался милостивым позволением великого князя иудеям селиться в городах и заниматься ремеслом, выкопал погреб точно над подземным ходом. Сам Лейба больше туда не спускался, и скорее всего завалил бы страшный прогал и двери в подвал заколотил гвоздями… Ясное дело, подземелья связаны с храмами, а когда кто-то решит, что еврей тайно пробовал проникнуть в христианскую святыню!.. Нет, лучше подальше от греха… И так живёшь между острыми клинками…
И забылось бы всё, если бы не Иван Ренич, с которым Лейба поделился бедой. А книжник куда только свой любопытный нос не совал в поисках тайн! Полоцкие подземелья были его любимой загадкой. По тому ходу, что начинался под церковью святой Параскевы, ему удалось дойти только до первого поворота — дальше был земляной завал. В подвалах Святой Софии — то же самое, обрушился свод. Когда иезуиты строили костёл Святого Стефана, тоже на подземные ходы напоролись — и Ренич тут как тут, вертеться начал, выведывать. Но ход, каменный, высотою как руку поднять, оказался затопленным.
А в погребе аптекаря неожиданно открылся прогал в нетронутую часть подземелий.
Что Иван Ренич там нашёл — Лейбе не рассказывал, но когда он первый раз оттуда выбрался, будто в смертельном бою побывал — избитый, грязный, да ещё хромой… Это, однако, охоту не отбило, Ренич начал таскаться в погреб, как на работу. Приостанавливался только, чтобы залечить раны, однажды даже руку сломал в земляных дебрях. Сколько свечей извёл, верёвок! А заодно перечитывал летописи, добился доступа до сохранённых остатков архивов Софийского собора, опрашивал старых людей, что они слышали…
Аптекарь не в своё дело не лез. Сначала, конечно, пробовал приятеля от пагубного увлечения спасти. Но убедился, что привести к уму-разуму книжника никак не получается, и если ему перекрыть ход в подземелья, может вообще наделать глупостей и ещё беду на хозяина погреба накличет. Ренич даже деньги начал соседу за каждый визит свой на его двор платить, только бы не вякал. Тогда Лейба выдал одержимому ключ от проклятого места и постарался забыть о дыре в прорву. Больше, собственно говоря, туда даже ни подходил, спасибо праотцу Абраму, погреб на заднем дворе.
Но бедняга даже спать по ночам перестал. И каждый раз, когда Ренич залазил в погреб, садился за молитву… А что, если этот одержимый не вернётся, не выберется? Пришёл честный христианин в дом к еврею и исчез! Кирдык тогда и аптекарю, да и все евреи города пострадают.
Через год Ренич засиял, как новый талер. Однажды показал пару древних книг, не сказав, откуда взялись… Лейба не был таким сведущим, как друг, в книжном деле, но понял, какая ценность перед ним, и догадался, откуда такое богатство. Библиотека Софийского собора, утерянная во время Инфлянтской войны, похоже, дождалась своего открывателя.
Но тайна выглядела достаточно опасно, чтобы не возникало желания ею поделиться. Лейба хорошо представлял, сколько имеется охотников до подземных сокровищ, и что они могут сделать с их владельцем. К тому же и Ренич взял с аптекаря слово, что тот не только сохранит тайну погреба, сам туда не сунется, но и никого не пустит, ибо дело опасное, никто оттуда живым не вернётся.
Но сам Ренич держать рот на замке был не способен… Вот и пошли слухи о новом хранителе полоцких сокровищ, которого избрали призраки подземелий. Кто-то крутил пальцем у виска, кто-то переходил при встрече с книжником — чернокнижником на противоположную сторону улицы… Хорошо, что никому и в голову не пришло бы, где вход в подземное хранилище. Ну, таскается раз в неделю книжник к аптекарю в гости… Книги изучают.
Но, наверное же, добрались бы вскоре до Ренича любители кладов… Иезуиты начали уже понемногу расспрашивать соседей да прислугу, чем занимается книгарь кроме того, что книги продаёт, где бывает. От полоцкого воеводы Сапеги разведчики приходили… А его мость Мартин Радзивилл даже лично приехал — и навряд ли смирился бы с отказом. Хорошо, Иван Ренич сумел что-то такое князю наговорить, что тот согласился подождать. Соломея помнит, что отец начал нервничать и что-то говорить о переезде в Прагу.
Но пришёл мор. Книжник успел ещё передать на сохранение другу сундучок с клубком и купить у него лекарств… Они смотрели в чёрный прогал. Оттуда тянуло влагой и плесенью. Ватман плюнул вниз:
— Погреб, в котором нет вина, не стоит и ладунки без пороха.
Князь Багинский нервно вскинул голову.
— Хватит разглядывать! Если боитесь, могу послать с вами людей.
Соломея, одетая в мужское платье, — невероятно красивый юноша получился, — твёрдо взглянула на князя:
— Это невозможно, ваша мость. Двери открывают двое… И хорошо, если за ними след в след успеет пройти по человеку.
— Так, или не так — не думай, что вам удастся нас перехитрить, спрятаться — жёстко промолвила сестра князя Алена, кутаясь в волчий мех. — Наши люди по всему городу.
Полонея Багинская стояла в дверях погреба, так как пройти внутрь уже было невозможно, и казалась совсем мелкой в сравнении с гренадеркой-сестрой. На Вырвича даже не посматривала.
— Я не собираюсь прятаться, ваша мость, — ответила Соломея. — Я присягнула… Предав память отца.
Голос её дрогнул. Лёдник тревожно посмотрел на жену и спросил у Багинского:
— Ваша мость, а если рамфею добыть не удасться? Если это просто будет не в силах человеческих? Прошу в таком случае вашей пощады к моей жене.
— Без рамфеи лучше вам не выходить из-под земли, — ответила за брата Алена Багинская. Но Михал покривился:
— Ну зачем так… Женщину мы пощадим, даю слово.
Не волнуйтесь, ваша мость, — мягко промолвил Ватман, и в этой мягкости была сила смертельной отравы. — Я за всем прослежу.
При этих словах Полонея вдруг бросила на Вырвича какой-то странный взгляд, и тот почувствовал, как его сердце оборвалось вниз со сладкой болью, будто он прыгал с обырва в воду. Она тревожится за него! Рука сама нащупала в кармане перепачканый платочек, который всё ещё сохранял аромат вербены и померанца.
В свете фонаря казалось, что они находятся в пасти дракона. И не хотелось даже думать о дальнейшем пути, и на что он будет похож. Когда-то, наверное, это был очень приличные, добротные подземелья, по которым можно было ходить в парадной чуге, гордо задрав голову и цыкая на запуганных призраков, которые знали своё место и покорно прятались в щелях между камнями. Теперь же торжественного прохода не получалось: кое-где кладка обвалилась, и на полу лежали завалы из ила и кирпичного щебня, и целиком было понятно, почему пани Лёдник надела порты, ещё раз подтвердив, что учёная женщина — оскорбление для приличного общества. Правда, замечалось, что путь через эти завалы заранее освобождён, виднелись даже следы от колёс маленькой тачки. Здесь проходил Иван Ренич, и страшно представить, сколько ему пришлось ковыряться, и каким неистовым нужно быть, чтобы это дело не бросить.
Правда, через некоторое время путь стал более свободным… Теперь было просто страшно. Особенно когда дошли до перекрёстка, от которого отходили одинаково неуютные ответвления направо и налево. Соломея достала дурацкий клубок, отмотала до первого узелка, зажала его в руке.
— Налево.
Вот оно как… Прантиш догадался, что Иван Ренич с помощью специальных узелков отмечал, куда повернуть. От любопытства Вырвич пристроился близко к Соломее, чтобы следить, какими именно узелками Ренич обозначал повороты направо, налево и направление прямо. Надо же, сам книжник такое изобрёл или в книгах вычитал? Потому что в этих лабиринтах безо всяких пометок невозможно было ни дойти куда-то, ни выбраться. Вырвич с досадой должен был признаться себе, что и он точно бы заплутал.
А Ватман, даже не скрываясь — подошёл, пощупал верёвочку в руках пани, не обращая внимания на злобный взгляд Лёдника, спросил об узелках, похвально поцокал языком.
Наёмник был вооружён как на большую войну. На боку — турецкая серпантина, с другой стороны — чекан. В голенищах, наверное, кинжалы… А вот Лёднику и Прантишу позволили взять с собою только сабли, и то потому, что Прантиш упёрся. Наёмник заверил, что защитит спутников, если что, наилучшим образом, а лишний груз в путешествии помеха.
Время от времени на головы начинала литься холодная вода. Пару раз подул свежий воздух — если бы свеча не был защищена стеклом фонаря, погасла бы. Случалось, под ногами открывались провалы — но прикрытые досками, видимо, притащенными Иваном Реничем.
Они шли и шли… В тёмных ответвлениях, в которые они не сворачивали, чудились призраки, чьи-то красные глаза, и казалось, сейчас оттуда кто-то выползет, бросится… Но бросались только крысы. Они пробегали просто под ногами, будто ослепшие и оглохшие, не имея никакого совершенно страха перед пришельцами, да им и не стоило бояться — так как здесь был их город, со своим королём, миллионной армией, своими законами и обычаями. И, возможно, те, которые выбегали на свет, были разведчиками, шпионами, и сейчас где-то в крысином дворце военачальники с белыми слепыми от вечного мрака глазами принимают решение, как наиболее быстро, с какой подлой хитростью сгубить чудовищ, что принесли в их царство огонь и надземную жадность.
Наконец путь преградила стена из плотно пригнаных камней. Тупик? Соломея свернула клубок до конца и передала школяру.
— Берегите, пан Вырвич. Вы же запомнили, как объяснить тот или иной узелок?
— Мы что, заплутали? — подозрительно спросил Ватман, как бы между прочим положив руку на эфес сабли и скользя вокруг взглядом. Старый воин в каждом тупике не может не ждать нападения.
Пани Лёдник даже не ответила. Она сосредоточенно смотрела под ноги. Вместо брусчатки здесь были широченные каменные плиты, которые напоминали надмогильные. По ширине прохода их умещалось четыре. На последних плитах, которые упирались в стену, преградившую путь, можно было заметить почти стёртые буквы, Вырвич разобрал только слова «ближнего своего». И ещё одна странная вещь: у левой стены на неплохо сколоченной тачке торчал обрубок дерева, комель почти в человеческий рост. К тачке была привязана верёвка.
Не похоже, что это притащили сюда столетия назад… Значит, принёс отец Соломеи. Интересно, зачем? Стены таранить?
— Пан Ватман и пан Вырвич, я попрошу вас отойти подальше. Вот так, достаточно. И не двигайтесь с места, пока я не позову. А ты, Бутрим, передай фонарь пану Ватману.
Голос пани Лёдник был таким властным, что никто не стал ни возражать, ни переспрашивать. Соломея повернулась к мужу.
— Стань вон на ту плиту…
Доктор послушно отошёл в самый угол. Соломея очутилась напротив, в правом углу… Теперь между ними были две плиты. Это было похоже на то, как расставляют фигуры у игре под названием шахматы: Вырвич её так и не усвоил, но видел, как богатые ребята со старшего курса важно передвигают фигурки, вырезанные из слоновой кости и украшенные серебром, по клеткам деревянной доски. Прантиш помнил, что большинство фигурок обязательно будет «съедено» другими. На минуту наступила тишина.
Дальнейшее произошло стремительно, будто древний скандинавский бог Тор врезал кузнечным молотом по часу так, что он сплющился, истончился до одного мгновения. Плита, на которой стояла Соломея, вдруг провалилась, и та, что рядом, начала проваливаться… Лёдник сразу же прыгнул за женой, и под его тяжестью другая плита обрушилась вниз, никто не успел даже вскрикнуть.
Вырвич и Ватман бросились к провалу, осознавая, что безнадежно опоздали… Но ужасной прорвы не увидели — наоборот: плиты медленно подымались наверх, перепуганный доктор (а Прантиш впервые видел доктора перепуганным) держал в объятиях Соломею, а на её устах витала мечтательная, немного грустная улыбка… И вместе с тем, как плиты понемногу возвращались на своё место, в глухой стене, которая перегородила путь, начала возникать ровная щель, которая со скрежетом — камень о камень — расширялась, будто кто-то разрубал, раздвигал кладку богатырским мечом.
— Быстрее! Дверь сейчас закроется! — крикнула Соломея и потянула Лёдника за руку в чёрную щель. Вырвич и Ватман двинулись за ними… Только странники забежали в потайные двери, страшный грохот за спинами засвидетельствовал — проход захлопнулся.
Ватман высоко поднял фонарь, который не выпустил из рук, несмотря ни на что. Они очутились в помещении, где, однако, не было ни библиотеки, ни рамфеи — только фрески на стенах. Ясно, что очень старые, но даже в тусклом свете фонаря было видно — краски не потеряли яркости. Прантиш узнал изображения Бориса и Глеба, Христа Вседержителя и даже святого Вацлава. Надписи на стенах вились старославянской вязью. Ещё одна странность — сложенные в углу камни, будто маленький курган, под которым было похоронено какое-то мизерное существо.
— И как же назад? — подозрительно спросил Ватман. Соломея небрежно махнула рукой:
— Назад проще… Нажать одновременно двумя руками вон те камни, что выпирают из стены.
— Это в знак того, что ничего с собою не выносишь, — насмешливо и сердито объяснил Лёдник, который ещё не пришёл в себя от пережитого, потому что глаза у него даже горели чёрным гневным огнём. — Ты что, предупредить меня не могла? Обязательно было, чтобы я пережил твою смерть ? Соломея виновато опустила глаза.
— Обязательно. Так делали все, кто приводил сюда неофитов. Прости, но отец сказал, чтобы я, когда приду сюда впервые, сделала всё по правилам. В подземелья могут пройти только чистые сердцем, а люди, которые готовы спасать один другого ценой собственной жизни, совсем плохими быть не могут.
— Значит, если бы я не прыгнул за тобой… — в голосе доктора всё ещё слышался гнев.
— Двери бы не открылись. Мы бы не погибли, но и не прошли бы дальше, — спокойно объяснила Соломея.
— Подождите, — заволновался Прантиш. — А как же Иван Ренич один сюда ходил?
— Ренич был изобретателем, — мрачно промолвил Лёдник. А я думал — зачем ему сюда притаскивать то бревно? Как-то он узнал о системе с плитами. Нажать сначала одновременно на две крайние плиты. А когда правая начнёт опускаться — переместить вес с крайней левой плиты на вторую справа. И приводится в действие механизм, который открывает проход. Вот и вся жертвенность. Не мистика, а механика.
— Для того и нужны тайны и таинства, чтобы не сводилось всё к простой механике, — раздражённо ответила Соломея.
— Может пани сразу объяснит, какой холеры нам ждать ещё? — вежливо спросил Герман Ватман. — А то от неожиданности кто-то штаны свои испакостит, оскорбит святое место.
Пани Лёдник горделиво откинула голову.
— Вы не в шинке, чтобы заказывать блюда на свой вкус. Я связана присягой не только с паном Багинским. Просто, делайте то, что я вам говорю.
— Никогда не слушайся женщин, — проворчал Ватман, но умолк. А Соломея прошла в дальний конец помещения, к стене, тоже расписанной фресками. Там был изображён Страшный Суд. Особенно пугали бесконечные толпы грешников, мелких, с мизинец, которые сходили в огненное море, на муки… На маленьких невыразительных лицах виднелись раскрытые в отчаянном крике рты. Внизу фрески вилась надпись: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притёк, вопию ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве».
Ватман подошёл близко к стене, пощупал её, осмотрел, подымая фонарь во все стороны, но никакой щели, что показывала бы на скрытые двери, не нашёл. Зато пол тоже был сложен из знакомых каменных плит, и наёмник осторожно отступил назад.
— Там испытывалась любовь к ближнему. Здесь испытывается ваша вера в Господа, — тихо проговорила Соломея. — Когда мы принимаем святое крещение, то отрекаемся от нечистой силы, трижды плюём в сторону её мерзкого изображения…
— О, мы должны плеваться? — обрадовался Ватман. — Это я могу! Как соломину сломать, доплюну куда скажешь. И школяр в этом должен быть натренированным, правда? Мы в школе, помню, через стебли тростника так сухим горохом плевались! Вот с доктором проблемы… Слишком чопорный, начнёт плеваться — ещё собственной слюной отравится.
Лёдник хотел уже сказать что-то резкое, но Соломея сама раздражённо прервала шутника.
— Не стоит смеяться над предками, которые не могли превзойти нас в цинизме, а нам кажется — что в уме. Тот, кто хотел войти в место, где хранятся святые христианские вещи, должен бросить камень в изображение нечистого, вон там. Монахи верили, что человек, который общается со злом, не сумеет этого сделать.
Действительно, в углу фрески, там, где было написан ад с лесом огненных языков, виднелось мерзкое изображение с рогами и харей, похожей на рыло дикого кабана, немного облезлой — видимо именно от швыряния, а может и плевания в неё. Вырвич послушно пошёл за камнями — теперь ясно было, зачем в углу эта кучка… А Ватман подмигнул Лёднику:
— Механика, говоришь, доктор? Значит, если подумать, все эти плевки-швырки, испытание истинности веры имеет целью нажать на то место кладки, где нарисован Люцифер, да включить очередную машину. После путешествия в железном драконе меня ничего не удивляет.
Ватман лениво приблизился к стене, взвешивая в руке чекан, и клюнул тупым концом просто в морду нечистой силы. Всего один раз. Но в поганом облике сразу возникла выбоина, а пол под ногами сдвинулся. Искатели сокровищ отскочили от стены… Плиты медленно опускались, открывая ход вниз. Ватман посветил в чёрный провал фонарём:
— Ступени! Ну что, спускаемся, или ещё какие фокусы нужно сотворить?
Разгневанная Соломея молча отодвинула Ватмана в сторону и полезла в ход.
За стеною, однако, снова не оказалось библиотеки. Узкая длинная комната без окон, без дверей, однако воздух почемуто свежий, ясно, что есть голосники, связанные с поверхностью. Здесь весь пол был выложен каменными плитами. Посередине шла узкая, не шире локтя, полоска из узких плит красноватого цвета.
— Так кто же всё это построил? — вырвалось у Прантиша. — Неужто наши полочане?
— Думаю, это появилось залолго до Лифляндской войны, — задумчиво сказал Лёдник. — Возможно, ещё и до того, как построили Софию, и кроме полочан здесь постарались приезжие мастера. Похожее есть в катакомбах Константинополя… Конечно, лабиринты Египта и Кноса намного более ранние да крупные, сравнение с ними слишком сказочно выглядит. Но принцип повсюду один и тот же.
— Ты хочешь сказать, сюда египтяне приходили? — удивился Прантиш.
— Египтяне навряд ли… А византийцы здесь точно бывали. Кстати, ты же сам веришь, что ведёшь род от древнеримского аристократа Полемона, — непочтительно молвил Лёдник и повернулся к Соломее.
— Сначала испытывалась сила нашей любви к ближнему своему… Потом — наша христианская вера. Теперь, согласно логике и Святому Писанию, время испытывать нашу надежду? Последнее, что остаётся человеку?
Соломея, вдруг ослабев, закрыла лицо руками и прошептала: — Отец, прости…
Всмотрелась в лицо Лёдника, жадно, будто что-то там искала — например, подтверждения, что он стоит такой жертвы — и решительно отвернулась.
— Да, теперь испытание надежды. Потому что вам придётся надеяться только на милость Божию и на меня. Шагайте за мной след в след. Слышите? Зажгите факелы… Они должны быть вон там, справа от входа. Нам понадобится свет. Смотрите внимательно под ноги.
В углу действительно были подготовлены с десяток факелов, хорошо просмоленных. Мрак подземелий это не разогнало, но всё-таки от живого огня сделалось веселее. Соломея перекрестилась, прошептала короткую молитву и поставила ногу — осторожно, как на лёд — на красную полосу. Шагнула раз, второй, третий, не выходя за границы красноватых плиток… Тихо. Но как только за ней на красной полосе очутился Лёдник, плиты по обе стороны даже не опустились — а провалились с глухим грохотом, так, что всё задрожало, и Лёдник придержал за локоть Соломею, которая немного пошатнулась. И вот уже по обе стороны зияла пропасть. Осталась только узкая каменная дорожка в локоть шириной, которая упиралась в противоположную стену. Ватман многозначительно кашлянул:
— Хорошее средство избавиться от нежелательных посетителей, не так ли, ведьмочка? Спасибо, что не воспользовалась, я этого не забуду.
Лёдник оглянулся на Прантиша, который должен был идти за ним, протянул руку:
— Держись!
— Ещё чего! — горделиво закинул голову школяр. — Да я по этой тропинке с закрытыми глазами пробегусь!
— А вот бежать не стоит, — рассудительно подсказал последний в их череде Ватман. — Только дурак рискует ради пустого хвастовства. Давайте, давайте… Топайте… А то ещё что провалится, свалится или кошельки отберёт.
Лёдник отвернулся и не спеша двинулся за Соломеей, которая уже стояла у противоположной стены, и её факел казался спасительным маяком.
Нельзя сказать, чтобы Вырвичу не было страшно. Ещё как было. Но он скорее загремел бы вниз, чем в этом признался. Он видел, что бывший слуга специально старается не отходить далеко от хозяина и всё время настороженно прислушивается, косится, двигается ли за ним школяр, не оступился ли, чтобы успеть ухватить… От злости, что его считают недотёпой и ребёнком, Прантиш даже не запомнил, как прошёл последнюю часть дороги.
— Ну и что, какой-нибудь святой, но немощный старик через эти фокусы прошёл бы? — проворчал Ватман, пробуя рассмотреть дно в пропасти.
— Думаю, что для святых существует более прямая дорога, — сухо ответила Соломея. — Каждому — такая, какую заслужил.
Они стояли на небольшой площадке перед очередной стеной… Серой, как неизвестность. Волновался даже Ватман, потому что шумно дышал и вытирал взопрелый лоб рукавом, от его вздохов даже колебался огонь факелов.
— Вера, Надежда, Любовь… — задумчиво промолвил Лёдник. — А мать их — София, небесная мудрость. Думаю, мы где-то недалеко от храма Святой Софии.
— Который собираемся лишить великой святыни, — горько промолвила Соломея, и Лёдник ещё больше нахмурился.
— Что же, остаётся только помолиться… — прошептала женщина и стала на колени. Требовательно оглянулась: мужчины поняли и тоже преклонили колена. Прошла минута, две… Послышалось знакомое скрежетание, часть стены опустилась. Но в низкий проём действительно можно было пролезть только на коленях.
— Путь к высшей мудрости идёт через покорность, — пробормотал Балтромей.
И они вошли… точнее, вползли в сокровищницу полоцких подземелий.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Возвращение Рамфеи
| В |
«Бестиарии» Леонардо да Винчи упоминается загадочное существо под названием ихневмон. Этот ихневмон живёт в Египте и является врагом другого чудовища, аспида. Борется он с тем аспидом, укус которого смертелен, достаточно оригинально: бегает к Нилу и валяется в грязи. Обсыхает — и снова пачкается. И так из трёх или четырёх слоёв грязи делает себе панцырь. Вот тогда и хватает аспида за горло…
Отряхивая со своей одежды песок и глину, Пранцысь чувствовал себя ихневмоном, и очень хотелось схватить за горло какого-нибудь аспида… Например, того, который придумал эдакий путь к святыне. Смирение, по суждению архитектора этого лабиринта, выявлялось не только в ползании на четвереньках, но и в вываливании в тлене и прахе, это значит, песке и мокрой глине, через которые вёл узкий ход, больше похожий на нору.
Но вот Лёдник зажёг факел, мрак неохотно расступился, и даже безразличный к книжной мудрости школяр захлебнулся от восхищения. До самых высоченных сводов стены комнаты были завешаны полками из тяжёлого, морёного дуба, который и за тысячу лет не истлеет. А на полках были книги. В добротных обложках из кожи, украшенных драгоценными камнями, окованых серебряными полосами, как сундуки… Более скромные тома, без всяческих украшений, но тоже дородные и важные… Свинцовые футляры с завитушками… Лёдники только с придыханиями проговаривали названия: «Codex Sinaitikus», «Иоанн Златоуст», «Хождение
Богородицы по мукам»…
Были здесь и два стола с креслами — тоже из тяжёлого дуба, даже с чернильницами, песочницами и перьями, как в любой приличной канцелярии, хоть, конечно, чернила давно превратились в чёрную пыль, а перья ссохлись и посерели.
Оглядываясь, Прантиш заметил, что у входа справа на вбитых в камень металлических крюках висят серые одежды, похожие на рясы, а внизу, под скамьёй, лежат кожаные поршни, которые от времени покоробились и потеряли форму. На скамье пустая медная миска позеленела от времени так, что в ней можно было настаивать отраву. Ясно — здесь следовало переодеться и вымыться, чтобы не подходить к святым книгам грязными. Для факелов были предусмотрены специальные стойки, имелся и запас факелов. Возможно, ещё со времён Инфлянтской войны. Помещение было на удивление сухое, и ни следа крыс — будто здесь существовала независимая от них подземная держава. Иначе разве книги уцелели бы?
Факелы освещали пёстрые ряды вековой мудрости. Семейная пара Лёдников так бы, видно, и прилипла к ним… Но Ватман безразлично скользнул взглядом по полкам, выискивая самое главное, ради чего они сюда пришли, и потребовал от Соломеи, чтобы предъявила…
А главное далеко не всегда бывает таким, каким его ждёшь… Вот ждали когда-то в Иерусалиме мессию-царя, в золоте и диамантах, с огненным мечом, впереди могучего войска, а приехал нищий на ослике, который говорил не
о том, как захватить земную власть, а о спасении души и любви к ближнему…
Рамфея, копьё святого Маврикия, лежало в простом деревянном сундучке, который даже потрескался от времени. Наверное, серая древесина этого сундучка была также из какого-то святого дерева, может, того самого Перидексиона, плодами которого питаются голуби, а змеи убегают от его тени, но, возможно, была она от здешней простой липы, которая только и умела, что дарить тень усталым путникам и мёд цветков — здешним пчёлам, что обороняют улья свои.
Соломея опустилась на колени перед неглубокой нишей в стене, в которой стоял сундучок.
Мужчины тоже встали на колени. Пранцысь и Ватман оголили сабли, как испокон веку делала шляхта во время чтения Священного Писания, пусть за этот обычай и совестили священники. Лёдник оголять саблю не стал, просто опустил голову и шептал молитву.
Ватман поднялся, подошёл и осторожно отворил крышку сундучка, который не был заперт. Зачем запирать вещь, которая охраняется силами намного более могучими, чем железо? На выцветшей ткани лежал обычный металлический наконечник копья, перетянутый серебряной проволокой.
— На силу этой реликвии надеялись священники и монахи Святой Софии… — дрожащим голосом проговорила Соломея. — Верили, что пока она здесь, не исчезнет вера, не исчезнет храм, будет процветать Полоцк…
— Но ведь как подняли на воздух Софийку солдаты Петра, когда взорвался сложенный ими в храме порох, не спасла рамфея, — заметил Ватман.
— Может быть, потому, что к тому времени храм уже изменил веру, и люди изменились? — тихо спросила Соломея. — И кто мы такие, чтобы спрашивать о намерениях Господа?
— Вот и не спрашивай, — Ватман закрыл сундучок и осмотрелся вокруг.
— А, кстати, назад как? Снова испытания?
Соломея, всё так же стоя на коленях, проговорила:
— Я же показывала… Назад просто. Обеими руками нажимаешь выступы на стене.
— А волшебный клубок ты, школяр, не потерял? — Ватман смотрел теперь багровыми глазами на Прантиша. Вырвич горделиво вернул взгляд.
— Не потерял.
И как-то тревожно сделалось школяру. Прантиш всегда предчувствовал, когда учитель собирается задать ему жару, разоблачив очередную аферу. Сейчас предчувствие просто кричало, что не нужно было Соломее рассказывать наёмнику, как отсюда выходить.
Между тем плечи полочанки затряслись, она силилась сдержать плач… Лёдник прижался к ней, обнял:
— Скажи, а если бы не нужно было меня спасать, ты отдала б им рамфею? Только честно признайся… Соломея всхлипнула и потрясла головой.
Лёдник приподнялся с колен и посмотрел на Прантиша. Недобро как-то посмотрел, тоскливо, будто прощаясь.
— Значит, и я должен сделать так, чтобы рамфея осталась в Полоцке.
Неизвестно, что пришло в голову доктору и что он намеревался отчаянное сделать с собою и как спасти от магнатских рук реликвию, но Ватман шагнул к нему из-за спины и негромко промолвил с мягкой такой улыбкой:
— Прости, доктор, ничего личного…
Лезвие кинжала будто выросло из руки, которой он обнял доктора. И нормальный человек лежал бы уже, улыбаясь смерти перерезанной шеей.
Но бывшего алхимика никто не назвал бы рядовым человеком, в бою его целиком можно было сравнить с аспидом, такой упругой ядовитой змеёй, с которой боролся ихневмон с помощью четырёх слоёв грязи. Прантиш помнил способность доктора при внешнем каменном спокойствии быть наготове, как натянутая тетива. И если Прантиш теперь заподозрил неладное, то Лёдник, очевидно, ждал нападения всю дорогу сюда. Ватман вскрикнул и выругался, выпустив кинжал: в его ладони торчало древнегреческое стило. Вещь обычная среди рукописей, некоторые из которых, возможно, были написаны родственниками этого стила, снова использованного не по назначению.
— Соломея, береги фонарь! Он видит в темноте!
Лёдник уже держал саблю, Прантиш с Гиппоцентавром стал рядом. Видит в темноте… Это доктор о Ватмане сказал, не о фонаре же? Вот почему у него глаза странные…
Между тем наёмник вытащил стило зубами, даже не поморщился. Ухватил раненой рукой чекан. В здоровой, левой — никто не сомневался, что ею барон владеет так же ловко, как правой — жаждала отведать красного тёплого напитка серпантина.
— Доктор, ты просто жить не можешь без своей спицы. Не в тебя воткнут, так ты в другого её воткнёшь. Вот, хотел подарить тебе да мальчику твоему лёгкую смерть — я же тебя уважаю, у тебя два диплома, свежее шляхетство, жена-красавица. Но по справедливости получается, примешь ты смерть мученическую.
И вдруг сбросил на пол факел, который держался в железной стойке, топнул по просмоленной пылающей вершине… Пламя умерло в последних вонючих извивах дыма. Вырвичу стало страшно: а если Ватман погасит последний факел и свечу в фонаре? И они останутся в темноте один на один с беловолосым Минотавром? А что, если глаза его в темноте начнут светиться, как у зверя? А что, если он не человек, а оборотень? Не может человек быть таким сильным, безжалостным и видеть в темноте.
Они дрались вдвоём против одного, и бой был действительно неравным… Для их двоих, так как они дрались отчаянно, как могли, а Ватман отбивался даже лениво, не теряя своей обычной улыбки, будто играл, как кот с двумя мышками. Не наносил смертельных ударов, только царапал, резал одежду, кожу… Так, чтобы осознавали: могу достать до души в любой миг. Хотя Лёдник уж точно не был слабым воем — в Слуцких воротах он один сдерживал десяток жолнеров.
— Как там поётся в песне о покойнике, который явился к невесте, а, доктор? «А что, если всё развалится? Тогда из костей бульон сварится!». К счастью, женщины отдают преимущество живым героям перед мёртвыми. Не правда ли, пани Лёдник? Я ничего никогда не имел против вдов. Вдова — это ещё лучше, чем девственница, она женщина опытная, ценит мужскую ласку…
Лёдник разъярённо бросился на Ватмана, на пол грохнулся затронутый бесценный фолиант. На кожаную обложку тут же наступил сапог наёмника, а доктор отлетел назад с порезанным рукавом, на котором проступило красное.
— Бутрим! Факел! — вскрикнула Соломея, но ни Лёдник, ни Прантиш не смогли воспрепятствовать беловолосому приблизится к последнему факелу и тоже свалить его на пол.
Теперь комната освещалась только дрожащим огоньком свечи в фонаре, который охраняла Соломея. Полочанка отошла в угол и лихорадочно зажигала ещё одну свечу, понимая, что остаться в темноте означает гибель. Прантиш заметил, что сундучок с рамфеей пани Лёдник прихватила с собою, теперь он стоял рядом с фонарём на полке, около фолиантов. Вырвич в мелькании последних минут так и не решил для себя, чего он хочет сам — вручить святыню Полонее Багинской или посодействовать, чтобы она невидимой силой осталась охранять город, а вместе с ним и всю Беларусь? Как более достойно поступить шляхтичу?
— Подожди меня ещё немного, ведьмочка, сейчас только расчищу дорогу, а то набросано здесь каких-то коряг с колючками, — бодро говорил Ватман, который даже не запыхался. — Уверяю, мы с тобою поймём друг-друга. Доктор твой — зануда, ртутными парами поеденый, а я — весёлый… Смелых женщин люблю.
И подбил ногой неподъёмный дубовый стол, который с глухим стуком упал. «Коряги с колючками», это значит Прантиш с Лёдником, разлетелись по сторонам, пытаясь уклониться от удара чекана, который мог бы, наверное, не только череп, но и стену пробить. Сабля Лёдника мелькала так, что казалась серебряным туманом, её очертания расплывались. Но до Ватмана он смог достать только раз, поцарапав ему щёку, чего гигант будто и не заметил. Вырвич начинал думать о серебряных пулях и осиновых колах, с которым следует ходить на оборотней. А тут ещё Гиппоцентавр, встретившись с чеканом, отлетел в сторону, и лязг старой стали о камни показался школяру похоронным звоном. Лёдник сразу же закрыл бывшего хозяина:
— Отступай к Соломее!
Ни пистолета, ни ножа… Прантиш с отчаянием смотрел, как Лёдник шаг за шагом идёт назад под натиском Ватмана. Добраться до Гиппоцентавра, который наёмник отшвырнул ногой далеко от выхода? Соломея прижимала к сердцу маленький нож, убережённый от досмотра, её глаза горели решительностью и болью. Вырвич не сомневался, что она думает сделать, если её муж погибнет. Школяр схватил свечу, которую Соломея, запалив, закрепила на левой полке, и вскочил на не перевёрнутый ещё стол:
— Эй, самозванный барон!
Ватман бросил ленивый взгляд и злобно выругался: Прантиш держал над огнём свечи клубок Ивана Ренича. Конец верёвки уже облизывало пламя.
— Ну что, останемся здесь все вместе? Как говорят, ни вашим, ни нашим!
Ватман опустил оружие, его широкое лицо искривилось ухмылкой.
— Напрасно я позволил вам пожить эти лишние минуты.
Ты, значит готов умереть, школяр?
— Настоящий шляхтич всегда готов к смерти! — выкрикнул Вырвич, и огонёк поднялся по верёвке выше. — Нормальная компания, святое место, хорошая драка… Умираем, панове!
Лёдник утёр рукавом пот и кровь со лба, к которому прилипли спутанные тёмные волосы.
— Ватман, предлагаю договор… Без верёвки ты не пройдёшь лабиринт. Пусть женщина и парень выйдут отсюда живыми, а здесь останемся я, ты и рамфея. Положимся на Божий суд.
— Я тоже останусь! — выкрикнул Вырвич, не давая верёвке разгораться, но держа клубок в опасной близости от огня.
Барон захохотал.
— Да мне всё равно, в какой очерёдности вас убивать. Лабиринт — это серьёзно, могу заблудиться… Но могу и выбраться, память у меня хорошая. Женщину я и так возьму себе живой, хочет она этого или нет. Опусти, опусти свой ножик, моя красава, а то порежешься!
— В обмен на меня ты тоже не оставишь в покое рамфею и их? — горько проговорила Соломея.
— Какой тут может быть торг? — притворно оскорблённо промолвил Ватман. — Любовью не торгуют, моя пани, её завоёвывают! А ваше волшебное копьё — это просто моя работа. Герман Ватман славится тем, что всегда выполняет поручения.
— Частью твоего задания было убить меня и Вырвича, как только найдём рамфею? — уточнил Лёдник, который стоял в обманчиво расслабленой позе, опустив саблю, но это был покой змеи, свёрнутой ленивыми кольцами, и готовой в любое мгновение броситься на врага чёрной молнией. Ватман шутовски развёл руками.
— Работа есть работа, дорогой.
— Соломея, ты слышишь? — неожиданно победно проговорил Лёдник. — Ты свободна от своего слова, милая!
Наёмник презрительно хмыкнул:
— Ну что же, шутки закончились. Готовься, доктор, первым будешь у смерти на блинах, тварь ты скользкая.
Но первым оказался окованый железными полосами фолиант, который Вырвич точно швырнул в голову наёмника. Что-что, а швыряться школяр умел в совершенстве. Книги легендарной Полоцкой библиотеки, эти вместилища высшей мудрости и морали, уважаемые и важные, летели, как самые лучшие снаряды, тем более, что запас их был солидный. Летел могучий «Codex Sinaitikus», отчаянно взмахивали пергаментными крыльями «Месяцеслов» и «Житие святой Февронии», со свистом прорезала воздух трогательная история о Тристане и Изольде… Ватман зарычал, кровь из рассечённой брови заливала его глаза оборотня. Сабля Лёдника ударила его в бок, правда, доктор сразу же сам получил чеканом по плечу и перекинул саблю из правой, онемелой от боли, руки в левую.
Вдруг послышался каменный скрежет.
— Хочешь выполнить свою работу, Ватман? — голос Соломеи послышался из противоположного конца помещения, у выхода, который снова был открыт. Женщина в одной руке держала фонарь, во второй подымала кусок металла, перетянутый серебряной проволокой. — Прости меня, Господи! — и полезла в узкий ход. Ватман отбросил Лёдника одним ударом чекана, так, что тот ударился головой о полку, и побежал за Соломеей.
В помещении царила темнота, в которой погасало красное око поваленной свечи и догорал клубок Ивана Ренича. Школяр поднял свечу, которая, к счастью, разгорелась снова, и побежал к доктору. Лёдник лежал на полу ничком, у его левого виска натекала тёмная лужица.
— Бутрим… Слышишь, Бутрим, ты живой?
И понял, что спрашивает зря, оружие в руках Ватмана сбоев не давало. Школяр поставил свечу, дрожащими руками перевернул тело. Тело глубоко вздохнуло и сдержанно застонало.
— Живой!
— Частично.
Бутрим с трудом сел, потряс головой, утёр с лица кровь.
— Успел вывернуться в последний момент. Я же тварь скользкая… Хотя пару рёбер Герман мне сломал. Он где?
— Пошёл за Соломеей.
Лёдник поднялся, опёршись на саблю, постоял, опустив голову, чтобы разошёлся туман.
— Бери факел… Идём! Быстрей!
В зале Надежды их ждало страшное зрелище. Соломея стояла на узкой дорожке, держа руку с рамфеей над пропастью. Перед ней, на расстоянии трёх шагов высился Ватман с саблей, которая тянулась к женщине как гадюка.
— Подойдёшь — брошу вниз! — твёрдым, хотя и задыхающимся голосом говорила Соломея. Лёдник также ступил на красноватые плиты.
— Ватман, угомонись! Давай договариваться — я же вижу, ты может впервые в жизни не хочешь убивать!
— Мало что не хочу, есть такое слово — надо! — мрачно проговорил Ватман. — А ты, доктор, просто как блоха: кажется, прижал ногтем, раздавил — на тебе, дальше прыгает. Без рамфеи я отсюда не выйду! И вы не выйдете.
— Послушай, ну представь, что будет, если эта реликвия очутится в руках даже такого мягкого человека, как князь Багинский… Разве есть магнат, который не воспользуется ею в пользу своего самолюбия? Снова начнут свои же резать своих, присоединятся чужие, сожгут города, вытопчут поля… — Лёдник говорил мягко, поучительно… Будто бы во время душевной беседы. И понемногу продвигался вперёд.
— А тебе что до того, Фауст? — насмешливо спросил Ватман. — Кто ты такой? Недовершённый астролог, неудавшийся алхимик, недопечённый шляхтюк? Давно ли тебя продавали как телка на рынке? Давно ли этот боевитый мальчик о тебя сапоги вытирал? И вдруг — государственные хлопоты. Ой, не верю. Это ты перед любушкой своей выделываешься. Будто не знаешь, что и без рамфеи здесь будут резать друг друга.
А так хоть бы один более сильный властитель возникнет, вокруг которого объединится шляхта. И не двигайся дальше, я всё вижу.
Лёдник прекратил своё продвижение по дорожке. Лицо у Ватмана было страшное, как на старинной иллюстрации к «Бестиарию». Ему тоже досталось: голова и лицо избитые книгами, на боку неглубокая, но всё же рана, одежда потрёпана клинками. Но он всё ещё был невероятно силён и ловок, казалось, о него можно только разбиться.
— Пан Ватман, я вызываю вас на дуэль! — выкрикнул Прантиш. — Вы негодяй и мужик! Если откажетесь — вам позор!
— Позором больше, позором меньше, а покойники не сплетничают, — безразлично промолвил Ватман, даже не оглянувшись, и подвинулся к Соломее.
— Милашка моя, отдай копьё! Разве ты не боишься, что за такое вольное обращение со святой вещью Бог тебя покарает?
— Бог видит мои намерения! Не подходи! — проговорила Соломея и отступила дальше. Ясно было, что бой на этом мостике над пропастью, где двоим никак не разойтись — настоящая смерть. Вырвич положил факел на край плиты, подошёл к Лёднику, который застыл на тропе, тронул за плечо, зашептал:
— Ты ранен… А я смогу! Подскочу к нему со спины… Пропусти!
Ватман, не глядя, протянул в сторону доктора и школяра руку с чеканом, в то время, как сабля в другой руке попрежнему целилась в Соломею:
— Даже не думайте!
Школяру стало страшно: неуж Ватман ещё имеет и звериный слух?
Соломея сделала ещё шаг, отступая спиною к выходу… Ватман засунул за пояс чекан, сжал и разжал пробитую стилом руку… А дальше снова было, как во время ночной грозы, когда в свете частых молний успеваешь рассмотреть только отдельные изображения, которые не сразу складываются в единый сюжет. Наёмник бросился к женщине, надеясь перехватить рамфею… Но пани Лёдник очень точным, можно сказать, отработанным движением, дала ему ногой в то место, в которое мужчине получить удар страшнее всего. По крайней мере в этом беловолосый ничем не отличался от других представителей посполитого люду, которые в соответствии с законом носят порты, потому что завыл от боли и скорчился, а ещё разъярился… А Соломея с криком «Прости Господи!» разжала пальцы. Ватман устремился схватить рамфею — и получил от Прекрасной Дамы такого пинка в ещё одно не самое приличное место, что полетел вслед за реликвией. Даже не вскрикнул. Вслед за ним упал фонарь… И почти сразу же упал факел, который Прантиш задел ногой.
Случилось то, чего они так в последнее время боялись: господство мрака. Страшного, всемогущего мрака подземелий.
Темнота… И тишина. Только слышались судорожные вздохи Соломеи.
— Залфейка, ты как? — тревожно спросил Лёдник тихим голосом, будто боялся, что на шум придут новые беловолосые, а может и чернявые или лысые Минотавры, не такие снисходительные, как их недавний спутник.
— Живая. В отличие от… Огниво не потерял? Здесь рядом факелы.
— Подожди, сейчас я подойду… Точнее подползу. Вырвич, а ты не думай трогаться с места, пока света не добудем!
Когда факел наконец запылал, странники увидели друг друга. Присутствие в мире живых, естественно, радовало. Внешний вид — не очень. По традиции особенно досталось Лёднику — видимо, у него действительно была такая планида.
Прежде, чем покинуть зал — теперь они выходили, как и следовало паломникам с чистым сердцем, с пустыми руками — Соломея подошла к краю плиты и повглядывалась в пропасть, в которой исчез Ватман.
Только поднявшись по ступеням в зал Веры и услышав, как за их спиною с грохотом и скрежетом опускается стена, они немного передохнули. Лёдник обессилено лёг на пол, пробормотав своё излюбленное «не понос, так золотуха». И Соломея снова занялась лечением лекаря. Перетянула ему сломанные рёбра полосой, оторванной от рубахи, пощупала плечо, на которое также обрушилось оружие Ватмана — здесь кости были целые, хотя синяк наливался огромный. Доктор заверил встревоженную жену, что выживет… Если, конечно, не получит от неё в будущем таких ударов по чувствительным местам, которые она, оказывается, так искусно умеет наносить.
Если бы у него и так не была разбита голова, Соломея показала бы, по какому ещё слабому месту умеет лупить неделикатных мужчин. Потому что убийство — не самая лёгкая ноша для души, не привычной купаться в крови. Тут не до шуточек.
Они втроём сидели на каменном полу, смотрели на фреску с изображением Страшного Суда, в полумраке казалось, что изображения шевелятся, и глаза Великого Судьи заглядывают просто в душу… И Прантишу не хотелось даже думать, что делать дальше. Потому, что выхода особенно и не виделось.
— Доктор, а клубок сгорел…
— Неважно, — пробормотал Лёдник, который пристроил побитую голову на колени Соломеи и теперь млел от касаний её прохладных пальцев к своему учёному лбу. — Я дорогу помню, не труднее, чем запомнить расположение созвездий.
Но вот стоит ли нам ею возвращаться?
Прантиш не знал, что ответить. Он смотрел на изображения грешников, которые шли в огненное море, хотя, наверное, каждый из них при жизни совсем не надеялся на такой приговор, а кто-то и не задумывался о судьбе своей бессмертной души. А может, были и такие жалкие чудаки, которые горделиво наличие той самой души, «бестелесной субстанции», отрицали, придумывая «животный магнетизм» или «всемирную механику». И вот вам — ангел с огненным мечом… И не убежать, и не приостановиться.
И не получит теперь Полонея Багинская из рук своего верного рыцаря Прантиша Вырвича рамфею, и не станет сестрой короля, благословлённого самим Небом…
Но святыня осталась в Полоцке. Навсегда…
— Нужно идти, пока не догорели последние факелы и свечи. У нас же нет таких глаз, как у Ватмана… — пробормотал
Лёдник. — И воды нет… И пищи…
— Куда же нам идти? — тихо проговорила Соломея. — Разве поискать другие выходы из лабиринта? Но около всех храмов люди князя. Нет для нас места на земле…
— Ага, осталось есть крыс, приучать глаза к темноте и здесь поселиться, — сердито промолвил Вырвич. — Шляхтич не должен ничего бояться! Даже когда проиграл бой, а самому не удалось погибнуть с честью на поле — убегать позор. Нужно явиться к своему хорунжему или самому гетману и с достоинством принять наказание. И, если тебе оставят жизнь, идти в новый бой.
Вырвич вскочил на ноги, растрепал русый чуб и победно улыбнулся. Гиппоцентавр с нами!
— Что вы киснете, как передержанное тесто в кадке? Пани Соломея обещала рамфею в обмен на жизни меня и Лёдника? Багинский первым нарушил слово, приказав Ватману убить нас. Значит, хоть не выполнили свою часть договора, позора на нас нет. Рамфеи не будет у Багинского — но её не будет и ни у кого из его соперников, пусть этим удовлетворится. Надеюсь, он сдержит хотя бы слово, что не будет трогать пани Лёдник.
— Не называйте меня пани, пан Вырвич, — тихо промолвила Соломея, Ариадна, которая без помощи Тезея завалила Минотавра, и её синие глаза казались огромными, как рисуют на иконах. — Вы — пан… Вас вырастили благородным и бесстрашным воином. А мы — полоцкие мещане. Патент на шляхетство — это просто игра… Которую никто всерьёз не принял.
Лёдник нежно поцеловал узкую ладонь жены.
— Во Франции любят ставить пьесу Мольера, которая называется «Мещанин во дворянстве». Там такой купец, Журден, человек неплохой, очень богатый, но соблазнённый славой: ему хочется иметь герб и приставку к фамилии. Но только выставляет себя на смех, пробуя вести себя «благородно». Высокий род бумагой не даётся. Вы сказали правильно, пан Вырвич. Мы не крысы подземельные, чтобы бесконечно прятаться. Мы вернёмся. Расскажем всё, как было. И пусть решает Господь.
— Знаешь, Лёдник, — твёрдо промолвил Вырвич, — рассказывать буду я. То, что нужно рассказать. А ты лучше помолчи. Одно дело — идти навстречу смерти, другое — заниматься самоубийством. Уловил?
Прантиш сам не заметил, как снова заговорил голосом хозяина с бесправным слугой. Но Лёдник только бормотнул что-то о «Бог не Антошка, видит немножко…» и сокрушённо простонал:
— Ё-моё… А какие книги покидаем, Залфейка! Ты видела — Полоцкая летопись! Кирилл и Мефодий! Хоть бы что прихватить… Если вдруг выживу — не прощу себе…
Соломея тоже тяжело вздохнула, но промолчала — ясно, не до книг сейчас.
Подземелья тоже молчали, получив жертву и храня свои тайны. А Вырвич не мог сдержать улыбки, когда подумал, какую кощунственную картину увидят их последователи — кладоискатели в комнате мудрости, которую они сегодня так расколошматили.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Как Соломея и Полонея
подземелья взорвали
| В |
старинных рукописях иногда можно увидеть удивительную тварь: верхняя половина туловища — насто-
ящий рыцарь, в доспехах, со щитом. В руке вместо меча — плеть. Голова — петушиная, вместо ног — два змеиных туловища.
Тяжело представить жизнь этого нескладного существа. Но название оно имеет звучное: Абраксас. Не хуже, чем Гиппоцентавр. Петух встречает солнце, объявляет начало дня и конец господства тёмных сил. Щит обороняет от соблазнов, плеть — наоборот, даёт соблазн власти. А две змеи так и метят разползтись, вернуться в привычный мрак и тлен.
Всё есть в душе человечьей, которую символизирует Абраксас. И искатели рамфеи с трудом преодолевали стремление своего «змеиного» составляющего спрятаться, не выползать на губительное солнце, к которому, однако, также не могли не тянуться.
Первая, кого увидел Пранцысь, подымаясь по приставным лестницам в погреб Лейбы, была Полонея Багинская, которая даже вскрикнула от удивления, увидев Вырвича. Как могла бы исполниться мечта! Все декорации готовы… Но…
— Ни слова о рамфее! — быстро и тревожно прошептала Полонея, встала. Прозвучал её звонкий голос:
— Они уже здесь! Сейчас сами увидите — никакой тайны нет. Просто смелые мужчины спасали женщину, которая по неосторожности упала в погреб соседа.
Бутрим, Соломея и Вырвич щурили глаза на морозном солнце, будто ночные птицы. Солнце бросало скупые горсти лучей на черепичные, гонтовые или просто крытые соломой и аиром крыши славного города Полоцка, жителям которого, по правде говоря, все подземные ужасы казались куда как менее страшными и интересными, чем головные боли их повседневной жизни, с податями подымной, поголовной, военной, чоповой, почтовой, на соль, на дороги, с квартированием войска, с квартированием делегатов соймов и соймиков, да ещё с бесконечными шляхетскими разборками и нападениями чужаков…
Князь Багинский с грустной физиономией посматривал куда-то в серо-голубое, как модный камзол, беларусское небо, передоверив объяснения своим сёстрам. А объяснять было нужно. Потому что рядом стоял полоцкий воевода Александр Сапега, на этот раз не в парике и камзоле, а в старинном сарматском наряде — парчовый жупан, красный кунтуш из саеты с золотыми галунами, шапка с аграфом — и даже притопывал от гнева красными сапогами по тонкому снежному покрытию. Ещё один заметный персонаж сцены, седоусый могучий шляхтич в горностаевой дилее поверх золотого жупана, с булавой на боку ещё больше усложнял расстановку сил, потому что это был сам великий гетман Михал Казимир Радзивилл по-прозвищу Рыбонька. Естественно, каждый из магнатов был не сам-один, хотя пока и без войска и большой свиты. Эдакий частный сойм на заднем дворе полоцкого аптекаря.
— Где рамфея, уважаемые покойники? — Александр Сапега сжал руку на эфесе сабли так, что пальцы побелели, и, возможно, был на волос от того, чтобы сделать Соломею, Лёдника да Вырвича покойниками не фальшивыми, а настоящими.
— Нет никакой рамфеи, ваша княжеская мость! — злобно пояснила Алена из Багинских, которая стояла за плечом брата, будто готовясь подпереть его, как неколебимая колонна. — Эта девица ввалилась в погреб, попала в старые подземелья. Вы что, видите здесь какие-нибудь сокровища?
— Не дурите мне голову, вашамость, — отрезал Сапега. — Мы всё знаем, за чем вы посылали эту женщину. Но вы не имеете права забирать святыню себе!
— Почему это не имеем права, ваша мость? — ядовитым голосом спросила пани Алена. — Наш род не хуже вашего!
— Пане-брате, — густым властным голосом промолвил Радзивилл. — И сёстры… — он бросил насмешливый взгляд на княгиню. — Давайте не будем выяснять, чей род более могуч. Мы явились на мирные переговоры. Мы хотим узнать правду… Есть ли в Полоцке копьё Оттона, и если есть, в чьих руках ему надлежит находиться.
— Известно, в чьих — в руках святого костёла! — вежливо объявил улыбчивый пан в чёрном наряде, ректор иезуитского коллегиума, который, похоже, владел способностью неприметно присутствовать там, где нужно, как и надлежало представителю знаменитого шпионского ордена. — Мы должны передать святыню в Рим.
— Пусть будет позволено и мне подать голос, ваши мости, но рамфея была от начала передана православному храму! — вмешался худощавый немолодой шляхтич из свиты Казимира Рыбоньки, его глаза даже горели праведным гневом. — Её должны хранить православные литвины! Хватит отбирать у нас последнее!
Будто чтобы остудить горячие головы, ударили колокола — на Софии, в Богоявленском храме, на звоннице храма святого Стефана… Люди начали креститься, шептать молитвы. Лица немного смягчились.
— Панове, вы делите шкуру волка, который ещё спокойно воет на луну, — промолвил Радзивилл. — Мои братья, Мартин и Героним, тронутые на чудесах и духах, могут сколько угодно в них верить… Чудеса — это на театральной сцене, о них моя жена-покойница пьески писала. А мне доложили, что копьё Оттона, оно же — копьё святого Маврикия, спокойно хранится себе в Вене, никто в его подлинности не сомневается, и охраняют его австрияки так, что только войной добыть. Где ваша… рамфея? Это вы той банде поручили её добывать? Которая Слуцк волшебством едва по камешку не разнесла, если верить моемиу брату? Женщине-то хоть юбку наденьте, ей Богу, срамотища!
Вот теперь все взгляды нацелились на выползков из подземелий, грязных и побитых, как после баталии. Вырвич положил руку на эфес Гиппоцентавра, шагнул вперёд, опустился на колени и с чувством промолвил:
— Ваши мости, панове, надеемся на пощаду Ваших великодушных сердец и Божью милость. Даю шляхетское слово, что мы не вынесли из подземелий никакой святыни, только наши грешные души, которые Господь позволил нам сберечь в страшных испытаниях…
— Я же сказал — у них нет рамфеи! — обиженно заявил Михал Багинский, даже на крик сорвался. — Нет никакой рамфеи!
— Вот она, мой князь! — послышался вдруг громкий хрипловатый голос, и из погреба вывалилась, пошатнувшись, огромная устрашающая фигура.
— Хол-лера… — пробормотал Лёдник и покосился на жену, которая закрыла лицо руками.
Но это была не холера. А в этих обстоятельствах гораздо худшее явление. Прантиш вскочил на ноги и схватился за Гиппоцентавра. Иезуит начал вслух читать молитву против нечистого духа. А окровавленый и грязный пришелец, который с довольной улыбкой на избитом лице протягивал хозяину железный наконечник копья, обвёл бездонными глазами, которые понемногу начали привыкать к дневному свету, пейзаж с фигурами, оценил стратегическую обстановку, перестал улыбаться и смог вымолвить только одно, но удивительно созвучное выводу доктора:
— Холера.
Сапега разъярился:
— Ну что, будете, ваши мости, мне ещё в глаза пыль пускать?
Ватман держал рамфею в руке, будто она была бомбой с запаленым фитилём, вот только в какую сторону её бросить?
Соломея бросилась вперёд, оттолкнув мужа, упала на колени, перекрестилась:
— Ваши мости, эта святая вещь столетиями охраняла нашу землю! Она не должна покидать своего места! Подумайте, ваши милости, призываю именем Господа нашего Иисуса Христа, нельзя из-за такой святыни совершать грех братоубийства и честолюбия! Пусть она продолжает храниться в Полоцке! А чтобы реликвия не попала во вражеские руки, позвольте, мы вернём её на место и закроем путь так, что никто больше не отыщет!
Радзивилл задумчиво погладил седые усы:
— Что-то в этом есть, рыбонька… Ни вашим, ни нашим, но родной земле…
— Рамфею принёс наш слуга! Значит, она наша! — крикнула Алена Багинская, толкнув брата в спину. Тот нахмурился.
— Действительно, давай её сюда, Ватман!
— Ни с места! — крикнул Сапега. — Ваша мость коварно обманул меня, забрав эту женщину, которую я спас от несправедливого суда его мости, брата великого гетмана, да ещё ваша мость подстроил следы, будто она выбросилась из окна в реку и утонула. И вообще, его мость гнязь Багинский сейчас должен быть, кажется, в Цюрихе? Музицированию учиться, не так ли? Раз тайно вернулся, значит готовит заговор. Я требую, чтобы князь Багинский передал рамфею мне!
Двое здоровенных паюков, которые стояли за спиной воеводы, наполовину вытащили сабли.
— Я тоже могу припомнить, что эта женщина была арестована жолнерами моего брата за искалечение его слуги, и предъявить свои права на рамфею, — грозно крикнул Радзивилл, и все умолкли. — Ваше счастье, что у Геронима почки прихватило. Так что ему сейчас до короны не дотянуться, даже если бы её и за аршин от него положили. А то здесь бы уже шестопёры краковяк по головам выстукивали, да пушки лаяли. Тайна, тайна… Если бы не верный судья Юдыцкий, который узнал, что один из этой банды жив, мы бы и не знали о ваших сговорах. Но ведь узнали! А вдруг дойдёт и до короля? Его королевская мость тоже не будет против завладения таким трофеем. А если до Вены дойдёт? Тогда — где рамфея очутится?
— Может быть, Божьи судом всё решить? — предложила пани Алена. — Каждый из претендентов выставит бойца…
— А вы, конечно, своего Ватмана! — злобно промолвил Сапега. — Он хоть и потрёпанный сейчас, но уложит любого.
Несправедливо.
Ватман не стал более радостным от известия, что его могут выставить на дуэль.
Солнце скрылось за силуэтом Софии, и храм казался кораблём с двумя мачтами, на который мог сесть любой, но смогли придти только единицы, вот они сейчас и отплывут вслед за солнцем в мир света, а здесь останутся грешники смаковать мгновения гибели. Абраксас рвался в разные стороны своей противоречивой натуры, кукарекал, шипел, и хлестал, и никто не знал, чем это закончится.
Сойм перенесли с улицы в опустелый дом Ивана Ренича. Если бы не было споров с рамфеей, её доверили бы хранить Соломее, потомственной хранительнице. Святыню положили в самую красивую шкатулку, которую смогли найти, из красного резного дерева, безразлично вытряхнув из неё чьи-то бусы и сигнеты. Естественно, что пани Лёдник охранял целый набор жолнеров — от каждой партии.
Пока магнаты занимались стратегическими делами, точнее, кричали друг на друга за закрытыми дверями, Ватман утомлённо присел на скамью, прикладывая к ране на боку хлеб с плесенью, самое лучшее средство для заживления. Лёдник от измождения так просто улёгся на пол, и Соломея лечила его раны таким же хлебом, силясь не смотреть на беловолосого мужчину, которого почти убила. А Вырвич вертел в руках платочек Полонейки, будто раздумывая, и краем глаза следил, замечает ли это хозяйка платочка, которая была тут же. Шкатулка красного дерева стояла на столике под распятием, в углу. Три жолнера на карауле с интересом поглядывали на него, гадая, что за ценности там могут находиться.
— Ты говорил, Герман, я живучий… Куда мне до тебя! — нарушил упорное молчание Лёдник, не открывая глаз. Ватман ощерил зубы в улыбке.
— Чтобы я позлолил убить себя бабе? Скорее Вавель в землю провалится.
— Да как же ты выбрался? — искренно поинтересовался Вырвич, увидев, что Ватман пока не собирается бросаться на них, чтобы добить.
— А как два пальца в рот сунуть, — наёмник зевнул и удобней вытянул ноги — скамья была для него слишком низкой. — Прорва оказалась не такой… прорвистой. Когда за вами закрылась дверь, плита, на которой я лежал, поднялась. Лежал, лежал, очухался… Смотрю — и рамфея здесь же. Вот только милашки моей нет.
Соломея вздрогнула, но на Ватмана глаз не подняла.
Лёдник вежливо спросил:
— А горло мне будешь перерезать?
— Снова прикажут — перережу.
Полонея, которая будто была поглощена разговором со своей конфиденткой Ганулей, прерывисто вздохнула и виновато взглянула на Вырвича. Значит, всё-таки знала, что в подземелье они отправлялись на смерть. Что же, кто такой ей бедный шляхтич… Прантиш незаметно скомкал платочек и спрятал в карман.
В комнату вбежал улан, весь взопрелый, с вытаращенными светлыми глазами, не обращая внимания на охрану, застучал в дверь, за которой бурлило высокое собрание.
— Ваша мость, великий гетман! Московцы в городе! Сотни три! Во главе с Алексеем Мельгуновым! Зашли с королевским разрешением на постой!
Магнаты выскочили из комнаты, на ходу вытаскивая сабли.
Сапега повернулся к Багинскому.
— Ты разрешение добыл, ты о рамфее донёс, вашамость?
Не иначе, дружку Репнину рассказал?
Багинский побагровел от гнева.
— Поосторожней со словами, пане-брате. Я доносчиком никогда не был.
Княгиня Алена, единственная женщина тайной рады, злобно дёрнула брата за рукав:
— Намекнул, видимо, что имеешь чем заинтересовать будущую царицу… Или ей самой писульку послал, чтобы утешить? Святой Антоний, помоги сохранить разум…
Пани, видимо, собиралась сказать что-то ещё более резкое, но сдержалась, вспомнив, что у разговора есть нежелательные и опасные свидетели. Иезуит тихо испарился, будто его здесь и не было. Радзивилл отрывисто спросил у воеводы полоцкого:
— Ваша мость, сколько здесь имеете воинов?
Сапега злобно блеснул серыми глазами.
— Сто гусаров королевской хоругви… Да моих людей тридцать. Я же не воевать ехал… Радзивилл нахмурился.
— У меня всего двадцать янычаров. Хотел сохранить в тайне свою поездку сюда… В карете без герба ехал. Пока войско сюда пригонишь…
— У меня здесь сотня человек, — признался Багинский. — По городу, по окрестностям разбросаны небольшими отрядами. Но я не собираюсь воевать против московцев. Пане-брате, не будем горячиться. В конце-концов, мы же не знаем целей Алексея Мельгунова! Он при дворе никакого влияния не имеет — он из ближнего круга наследника, Петра Фёдоровича.
Я просто не понимаю, что он здесь делает…
— Приближённый Петра? — мрачно воскликнул Радзивилл. — Принца, влюблённого во Фридриха, которому россейцы недавно пятки поджарили? Вот вам ещё один претендент на реликвию, панове — Пётр Фёдорович. Не знаю, для себя или для прусского друга старается.
— Это совсем плохо… — пробормотал Багинский, до которого будто только сейчас дошла серьёзность ситуации. — Если Пётр перехватил записку к Екатерине… Её точно сошлют!
— О себе думай! — злобно прошипела княгиня Алена. — Тебе, вашамость, что-то объяснять — как звёзд небу прибавлять.
— Значит, так… — великий гетман взвешивал в руке булаву. — Девицу со шкатулкой — в ту комнату… И защищать, как собственное сердце! Запас пороха сюда, пистолетов… Ну что, пане-брате, не первый раз на поле боя!
Ватман лениво встал, расправил плечи и подошёл к хозяину:
— Что прикажет ваша милость?
Багинский только в отчаянии отмахнулся:
— Что теперь прикажешь? Драться будем! Вылез же ты не вовремя… И этих выпустил. Полонея ждала, чтобы тебя предупредить, а тут они… Эх… Я так и думал, что плохо окончится.
Лёдник успел крепко поцеловать жену и вышел, наклоняясь на больную сторону. А Полонея приблизилась к Вырвичу, который почтительно склонился перед магнаткой.
— Пан Вырвич… Это вам.
Прантиш поднял глаза: Полонея протягивала ему красивый кинжал, такого он никогда не держал в руках — персидской работы, с тонкой чеканкой на позолочённых ножнах, украшенный изумрудами. А на рукоятке — большой диамант. Прантиш вытащил из ножен клинок: он засиял, как зеркало.
— Это чтобы пан Вырвич и дальше мог себя защитить наилучшим образом! — с лёгкой, не обидной насмешкой промолвила Полонейка и быстренько сбежала, не ожидая галантной благодарности. Прантиш догадался, что это было такое извинение за предательство Багинских. Ватман, который наблюдал эту сцену, выразительно хмыкнул, но Вырвич не обратил внимания на уцелевшего наёмника. В душе школяра играл целый оркестр, как в Слуцком театре. Хоробрый пан Вырвич побывал в сердце Полоцка, он прошёл, как Тезей, ужасный лабиринт, его дождалась Прекрасная Дама… А сейчас осталось добыть славу на поле боя!
Кто-то из янычаров Радзивилла запел старинную рыцарскую молитву святому Юрию, которую обычно пели перед битвой:
— Зброя вапалчаецца, мечэве абнажаюцца,
агонь прэціць, кола дзярзаець.
Скары агнём ізвараемы суць,
усё воінства ўва подзвігу ёсць…
И бой начался.
Отряд россейцев не ждал сопротивления. Как доносили Мельгунову шпики, добывать реликвию будут всего несколько человек, тайно, не притягивая внимания. Задача была — не дать никому надолго задержать её в руках, а то владелец ещё приобретёт небывалую мощь и небесную поддержку. Поэтому посланцы Петра и спешили, не ждали. А что у входа в подземелье будет не только Багинский, но даже и великий гетман, никто, даже сам Багинский, не предвидел.
Мостовая Полоцка не впервые была залита кровью — будто смерть надеялась, что, поливая камни, она вырастит себе преданое войско. Но зачем ей войско? Люди и так служат смерти, упорно отбирая жизни друг у друга. Металл стучал о металл, будто выбивал ужасный ритм смертельных танцев. Особенно страшно получалось, что мостовую застлало тонкое покрывало снега, и кровь просто кричала на белом фоне.
В битве не было магната и посконника — были вои. Прантиш видел, как обычно мечтательный, вялый князь Михал Багинский сечётся с двумя пришельцами, и его лицо такое же сосредоточенное и жёсткое, как у них. Как старый гетман валит врагов палашом — спокойно, аккуратно, будто хозяин выполняет привычный свой труд. А шустрый Сапега умудряется махать саблей и одновременно отстреливаться из пистолета. Там, где проходил Ватман, возникала дорога. А за Лёдником, который ещё недавно еле мог стоять, Прантиш просто не успевал следить — знал только, что в минуту смертельной опасности тот скорее всего очутится рядом. Так и случилось — Лёдник вырастал за спиной Прантиша, и рядом валился чужой жолнер, и доктор успевал ещё выкрикнуть какое-то важное поучение…
Россейцы тоже не были трусами. Смерть всё расширяла свой хоровод, хотя за что здесь дрались и умирали, знало всего несколько человек. А мещане просто закрылись в домах и молились Господу… Им не привыкать: что ни соймик, то побоище. Что ни суд, кровавая ссора.
Через некоторое время Вырвич больше не ощущал себя на празднике. По-правде, он только сейчас понял, что война — это действительно тяжёлый труд, который нужно выполнять очень старательно и терпеливо. Мирясь с тем, что не каждый твой геройский поступок будет замечен и оценен — не театр, панове. Но, кажется, пока не дал промашку… Живой. Только русый чуб срезан чужой саблей. Да никак не избавиться от того мерзкого чувства, пережитого, когда загнал подаренный Полонеей кинжал в бок усатому казаку, который и срезал Прантишу чуб. Биение чужой крови будто передалось на какое-то мгновение через клинок, Вырвич и убитый им человек стали одним существом… А потом глаза казака угасли, их них исчезла душа. Страшно видеть так близко, глаза в глаза, как покидает тело душа.
Вырвич опустил Гиппоцентавр, который вдруг стал невероятно тяжёлым, утёр шапкой вспотелое лицо и попробовал отдышаться. Как там учил Лёдник… Контроль… А где, кстати, Лёдник?
— Гетман в опасности! — закричали рядом. Прантиш осмотрелся: на той стороне площади возникла какая-то куча… Туда уже кто-то бежал, припустил и Прантиш с Гиппоцентавром… Но пока приблизился, куча распалась. Казимир Радзивилл пробовал подняться с мостовой, снег вокруг него был весь красный. Великого гетмана заслонял собой сын полоцкого скорняка и дважды доктор, еле удерживая обеими руками саблю. А вокруг лежали несколько радзивилловских янычаров, их белые суконные жупаны щедро окрасились багровым.
— Ваша милость, куда вас ранили?
К Радзивиллу бежали, подымали, спасали… Прантиш подхватил Лёдника, который уже валился с ног, помог опуститься на мостовую. Доктор, и без того не смуглый, сейчас был белый, как новая бумага, и весь в крови. «Ничего, он живучий…» — крутилось в голове у Прантиша.
— Да отцепитесь, я нормально… Вон тому парню помогите, — это рявкнул гетман, и к Лёднику сразу повернулись, побежали, начали перевязывать раны.
Вдруг раздался страшный свист и конский топот. Всадники с крыльями за спиной, в которых с жутким воем бился ветер, в оперённых шлемах пронеслись по брусчатке, как призраки.
— Ваша милость, гусары появились! — обрадованно крикнул кто-то.
Теперь кровь на снегу казалась чёрной. Да и потоптали в основном тот снег, обнажив брусчатку, а с камней — что взять? Сколько по ним прошло уже прохожих, проехало колёс, сколько на них умерло народу, не покинув следа. И следующие поколения будут ходить по этой мостовой, не подозревая, что проходят по месту чьей-то смерти.
Казимир Радзивилл Рыбонька подошёл к Лёднику, тот с помощью Прантиша кое-как поднялся.
— Назовись, кто таков, — властно приказал гетман.
— Балтромей Лёдник, доктор, сын полоцкого мещанина Гаврилы Лёдника, — прохрипел тот.
— Значит, не шляхтич… — задумчиво промолвил гетман.
— Вашамость, ему дали патент на шляхетство! Его мость князь Багинский… — влез Прантиш. Гетман перевёл на школяра тяжёлый взгляд.
— Патенты эти — тьфу, стыдоба! Ничего они не значат. Я бы таких новых шляхтичей в балаган отправлял, вместо медведей. А ты кто есть?
— Прантиш Вырвич из Подневодья, герба Гиппоцентавр! — Прантиш подпёр плечом Лёдника, который так и мерился свалиться, а сейчас это было несвоевременно.
— Оба чернокнижники? — с мрачной насмешкой спросил Радзивилл.
— Это навет, ваша мость! — горячо заверил Прантиш. — Мы оба добрые христиане, доктор даже отказался гороскопы составлять, чтобы гаданием не грешить! Ну скажи, что да, Бутрим!
Вокруг начали собираться уцелевшие люди, кто-то кричал «Виват!», «Победа!».
Гетман достал из ножен свой палаш и обратился к доктору :
— Значит так, рыбонька. Патент свой можешь порвать и выбросить, чести он тебе не даст. Потому что нобилитацию может осуществить либо Трибунал, либо великий гетман на поле битвы за выдающийся подвиг. Вот второй прецедент и имеем перед собой. Да, панове?
Вокруг одобрительно загудели.
— Вы все видели, как этот воин спас жизнь великого гетмана, и как дрался, не жалея себя, с чрезвычайным мастерством и мужеством. Давай, рыбонька, становись на колени…
Лёдник упал на колени, не от того, что спешил выполнить приказ, а от слабости. Гетман ударил его палашом по плечу:
— Посвящаю тебя, Бутрим Лёдник, в рыцари… Да поддержите кто-нибудь парня, чтобы не брякнулся. Пояс подайте… Обвяжите его. Возьми эту саблю, целуй и клянись, что будешь до кончины служить своей Родине, своему королю и своему пану, и без жалости отдашь жизнь за Отчизну. Дарю тебе и твоим потомкам деревню Корабли, и владеть тебе и твоим потомкам отныне гербом «Кораб»… И ещё тысячу дукатов даю на хозяйство. Дарственную подготовьте уважаемому пану…
Прантиш не столько следил за обрядом, сколько смотрел, чтобы доктор не упал, испортив торжество. Но доктор выдержал всё до того момента, когда шляхта начала кричать «Виват пану Лёднику!» Вот тогда он и приложился щекой к полоцкой брусчатке. Гетман удовлетворённо пригладил усы:
— Отважный вой! Как саблей владеет! Никогда такого не видел. Ну, если умрёт — то похороним, как шляхтича.
И двинулся дальше.
Прантиш позвал двух янычаров, доктора положили на чейто плащ и понесли к дому Реничей. Место нашлось в переплётной мастерской, которая была рядом с домом. Здесь тоже побывали жолнеры, о чём свидетельствовал истоптаный пол и перевёрнутые верстаки.
Беспамятного Лёдника положили на скамью. Прантиш послал какого-то почтового по воду, и когда тот принёс ведро, обтёр лицо раненого мокрой тряпкой. Доктор вздохнул, открыл налитые кровью глаза.
— Воды…
Напившись, доктор нашёл в себе силы приподняться и осмотреть помещение.
— Где Соломея? Где все?
— О пани Лёдник не знаю. А все — там, на улице, слышишь, ревут, вино пьют в честь виктории. Ты хоть помнишь, что ты теперь не только дважды доктор, но и дважды шляхтич? И теперь твоё шляхетство никто не оспорит! К тому же, ты богаче меня на целую деревню. Счастливый конец, пан Лёдник!
На улице действительно ревели победные песни:
— Гой-гой, вайна рыхла, покуль сціхла, Распачаці святкаваці! Келіх пенна піва, Піва яно жыва!
Гой-гой, ад суседа няхай беда,
Выпі ныне — хвора згіне, Ліся, піва, ныне Ў шчаслівай гадзіне!
Гой-гой, война негодная, пока стихла, Начнем праздновать! Кубок пенного пива, Пиво оно живо!
Гой-гой, от соседа пусть беда,
Выпей ныне — хворь сгинет, Лейся, пиво, ныне
В счастливой године!
Пер. с белорусского
Дважды шляхтич снова в изнеможении улёгся.
— Это только начало, парень. Ничего ещё не окончено, и будет ещё хуже, пока…
Вдруг дом содрогнулся… Да что там — мир содрогнулся, и что ещё не попадало с полок — то упало. Прантиш бросился к окну, но через маленькие слюдяные стёклышки ничего не было видно. Пушки, что ли? Лёдник сел:
— Рвануло под землёй… Там, где погреб… Помоги, нужно посмотреть!
На улице творилось чёрт те что. Снова слышались крики магнатов, особенно доносчиво — тонкий голос Александра Сапеги, который будто возмущённо хлестал воздух:
— Воры! Где рамфея?
Прантиш схватил за полу радзивилловского адъютанта, юношу с красноватым носом и пышными светлыми усами, который наверняка был не последний выпивоха на знаменитых несвижских балах:
— Пане-брате, что случилось?
Тот махнул рукой:
— Да паны заперли в комнате какую-то девицу, а она исчезла, да ещё украла что-то. Вот теперь ищут.
Прантиш и Лёдник поковыляли к погребу, который скрывал вход в подземелья. В окне дома Лейбы мерцала свеча, и Прантиш представил, как старый аптекарь за последний
день натерпелся страху, и что он переживает теперь, не зная, может, пора удирать, или уже удирать бесполезно. Перед погребом снова собрались магнаты, которые подозрительно посматривали один на одного. И отец иезуит снова был тут как тут. Рядом с ним взмахивала руками закутанная в меха княгиня Алена из Багинских, и даже Герман Ватман стоял себе скалой, отхлёбывая из огромного кубка вино.
— Наверное, сначала надо найти женщину, — мягко подсказал иезуит. — Навряд ли она могла уйти далеко.
Но женщину не нужно было искать, потому что она выскочила из погреба. И не одна — за ней бежала Полонея Багинская. Обе перепачканые, и кричали самым недостойным для благородных образом:
— Бегите! Сейчас рванёт!
И действительно рвануло. И хорошенько так. На месте погреба осталась ямища.
Багински подскочил к Полонее, схватил за руку:
— Где рамфея?
Девушка вырвалась:
— Ах, пане-брате. Случилась такое ужасное приключение, страшное несчастье… Я не пошла с сестрицей прятаться в монастырь, так как потерялась дорогой, и попросилась в комнату к этой пани. И вдруг начали ломиться в окно казаки. Мы давай стрелять в них, отогнали, но были уверены, что к нам снова полезут… И решили спрятать рамфею в самом надёжном месте.
— Это где? — подозрительно спросил Александр Сапега, который внимательно прислушивался к рассказу.
— Там, где она и была несколько столетий! — твёрдо сказала Соломея Лёдник.
— Ах ты… — Сапега даже кулаками затряс. — Додумались, куры безмозглые!
— Осторожно, пане-брате. Ты говоришь о моей сестре, — злобно напомнил Багинский и снова перевёл глаза на перепачканное личико с голубыми и такими безвинными глазами: — А взорвалось что?
— Ах, ваша княжеская мость, мой великодушный брат, это и есть несчастный случай! В нашей комнате оставили бочонки с порохом… Вот мы и надумали спрятать их тоже. Чтобы казаки не забрали да чего не натворили… — Полонейка доверчиво хлопнула ресницами — ай, какая наивная, но хорошая девочка перед вами… Разве она могла предвидеть, что случится?
— Ясно. Рамфея в подземельях, а подземелья обвалились, — с мрачной улыбкой высказался Радзивилл. — Обвалились как, рыбонька, хорошо? Разобрать нельзя?
— Ой, хорошо обвалились, ваша княжеская мость, великий гетман! — заверила нежным голоском Полонея Багинская. — Никакой человеческой возможности разобрать завалы нет!
Гетман пригладил седые усы, посмотрел на изящное, величественное лицо Соломеи, на лукавое личико младшей Багинской, хмыкнул:
— Это ты, вашамость, Чарторыйскую на дуэль вызывала?
— Каюсь, вашамость великий гетман, стыдно мне за такое неприличное поведение, — скромно опустила глаза Полонея.
— Чтоб я так вино пить стыдился… — проворчал гетман. — А ты, пани, покалечила паюка моего брата?
— Я только глаза ему содой промыла, ваша мость, присягаю своей вечной жизнью! — промолвила своим глубоким низковатым голосом Соломея.
Вокруг начался шум, звучали предложения вроде дать глупым бабам плетей и сейчас же начать разбирать завал. Но великий гетман рявкнул голосом, которым привык отдавать команды на поле боя, перекрывая любой звук:
— А ну, замолчите! Хотели Божьей воли? Вот вам Божья воля! Рамфея останется там, где и была. И покуда люди этой земли не поумнеют, там, наверное, и останется. Всё, по домам!
Бросил на прощание Полонейке:
— Желаю тебе хорошего мужа, рыбонька! Чтобы смог тебя взнуздать.
Остановился взглядом на Соломее:
— Эх, был бы я моложе… Буду проезжать мимо вашего имения — заеду, пани Лёдник.
И пошёл вместе со своею свитой. Сапега злобно бормотнул на прощание:
— Сколько денег… Хлопот… Сколько крови пролилось… И всё на комариный писк сошло. Фемины… Нельзя на них полагаться… — и горько вздохнул, вспомнив, очевидно, жену, которая дарила свои милости молодому Брюлю, да так и не выменяла на них для мужа булавы польного гетмана.
А Багинский не захотел даже слушать сетования старшей сестры и заявил, что политика — ничто в сравнении с музыкой, и его изобретение педали для арфы является намного более важным для истории, чем все сёстрины интриги. Лучше он мануфактуру с машинами профинансирует с помощью своего нового наёмника, учёного немца.
Ватман же, прихрамывая, подошёл к Лёдникам и Вырвичу, допил вино, швырнул пустой кубок за спину:
— Плохим я был школяром, не лучше, чем ты, щегол… Но запомнил, как нам рассказывали, что когда победного военачальника провозили с триумфом по улицам Рима, за его спиной стоял человек, который шептал ему: «И это проходит», и другие гадости. Я всегда буду за твоей спиной, доктор… А хорошо всё-таки, что я не перерезал тебе горло, а?
Соломея обнимала Лёдника и плакала — от жалости и облегчения. Радзивилловский адъютант подбежал, сунул доктору дарственную на имение и грамоту на шляхетство, вежливо распрощался с паном-братом. Второй шляхтич, проходя, стукнул доктора по плечу, от чего тот едва не скорчился от боли, и предложил пану-брату Бутриму Лёднику пойти в дом воеводы, хорошо выпить по случаю виктории. Третий шляхтич по всем сарматским обычаям пригласил на Масленицу его милость пана Лёдника в гости в своё имение у Дрибина… Ту самую честь оказывали и его милости пану Прантишу Вырвичу, который горделиво положил руку на Гиппоцентавр, и повёртывался так, чтобы все видели драгоценный кинжал, хотя в сумерках навряд ли кто обращал внимание на его оружие. Соломея растерянно спросила доктора:
— Почему они так с тобой?
— Твой муж великого гетмана на поле боя спас, и гетман его согласно Статута и сарматских обычаев в рыцари посвятил, — с широкой улыбкой объяснил Прантиш. — Так что ты — пани Лёдник герба Кораб, владетельница деревни Корабли и тысячи дукатов. Только вот что я посоветую, вашамость пани… Давай отведём доктора в дом, пока он ещё на ногах держится.
А у Прантиша был княжеский кинжал с диамантом и изумрудами и ещё один поцелуй, на этот раз в губы, от Полонеи Багинской. Его невероятной Прекрасной Дамы, которая способна драться на дуэли, пробираться сквозь лабиринты и взрывать бочки с порохом. Было и обещание подождать отдавать кому-либо своё сердце, пока молодой Вырвич не станет генералом. Если, конечно, это событие не затянется во времени.
Назавтра на брусчатке снова сиял белый снег, даже жаль ступить, нарушить его чистоту, и будто не было вчера кровавой драки… Тела, правда, кое-где лежали. От тел сильно несло горелицей и слышался могучий храп. За викторию шляхтич пьёт, пока не свалится с ног — если смерти не удалось его свалить. В подземельях где-то под святой Софией сияла невидимым светом рамфея.
— Когда же вы вернётесь в Полоцк, а, детки? — тоскливо спрашивал старый Лейба, всматриваясь в лица Лёдников. — И вернётесь ли? Мир велик… И вы теперь большие люди.
— Вернёмся, дядька Лейба, — уверила Соломея. — Потому что мы слишком малы в сравнении с Полоцком, чтобы его забывать.
— Может, напрасно ты, Бутрим… извини, вашамость, пан Лёдник, не согласился пойти служить в войско великого гетмана… Сразу же чин немалый обещали, — с сомнением промолвил аптекарь. — И пан Вырвич карьеру бы неплохую сделал.
— Дядька Лейба, ты можешь представить меня с утра до вечера за пировальным столом, под который я валюсь, напившись, а потом, едва продрав глаза, лезу защищать свою честь от пана-брата, и мы рубим друг-друга саблями из-за кривого взгляда или толчка в плечо? — мягко проговорил Лёдник, одетый согласно своего нового статуса, в шляхетский наряд, хотя и без диамантовых «гузов» и броских урашений. — А мою честь, «свежего шляхтича», точно будут испытывать, кому не лень. А можешь представить, как я ору на соймике в защиту не самого умного, но покорного депутата, которого поддерживает мой патрон?
— Да, это тяжело представить, — улыбнулся Лейба. — А благородный пан Вырвич?
— Пока что я — с ними, — коротко ответил Прантиш.
— Ему доучиться нужно, — промолвил Лёдник. — Что толку, если сейчас он привыкнет к жизни в магнатской резиденции, и станет таким, как пан Михал Володкович? Тот ведь тоже не без соображения был, сильный, отважный… А как окончил: расстреляли свои же литвины в подземельях Менской ратуши. И никто, кроме Пане Коханку и его прихлебателей, добрым словом не помянет.
— Шляхтич всё равно войны не избежит! — весело выкрикнул Прантиш. — Fac et spera, действуй и надейся! Мне генералом нужно стать!
— Будут, будут ещё у тебя подвиги… — ворчливо произнёс Лёдник. — На всех нас битв хватит, времена ждут литвинов бурные. И пока есть возможность — нужно заняться чем-то созидательным. А Виленская академия — неплохое место и для научного труда, и для получения образования.
— Тем более, у пана Вырвича там знакомый профессор теперь есть, — с улыбкой прибавила Соломея.
— Который не даст ему никаких послаблений, — строго глянул на Прантиша Лёдник. Вырвич фыркнул, поправив новую пушистую шапку с аграфом: студенты академии ещё не знают, какой подарочек получили в лице профессора Бутрима Лёдника. Гонять будет, как борзая зайцев! Прантиша вон как загонял, готовя к зачислению в студиозусы.
А в Академию хотелось — Лёдник обещал, что там найдутся учёные механики не хуже Пфальцмана. Прантишу не терпелось самому попробовать сладить машину, ещё лучше железной черепахи, которая бы ездила быстро и далеко. Философия тоже была не самой неинтересной наукой, как раньше думал Вырвич. А астрономия! Посмотреть на звёзды в телескоп, увидеть движение комет! Да, нынешний Вырвич
ильно отличался от того школяра, который полгода назад сделал невероятно выгодную покупку за медный шелег.
Лейба утёр слёзы и отступил к калитке. Полоцк лениво просыпался, удивляясь тишине утра, которую никто не успел испортить криками, стрельбой и ругательствами. Молодой кучер, который ждал у новенькой брички своих хозяев, в очередной раз обошёл экипаж, поправил наполненные сундуки, многозначительно глянул на небо: совсем рассвело, не время ли в дорогу?
— Ну что, двигаем? — Прантиш, который уже сидел верхом, нетерпеливо оглядывался, едва сдерживая своего — собственного! — коня, пегого дрыгканта, рвущегося полететь в далёкие дали, где ждут новые авантюры и подвиги.
И они двинулись по дороге из Полоцка на Вильню.
2011
Перевод Павла Лехновича