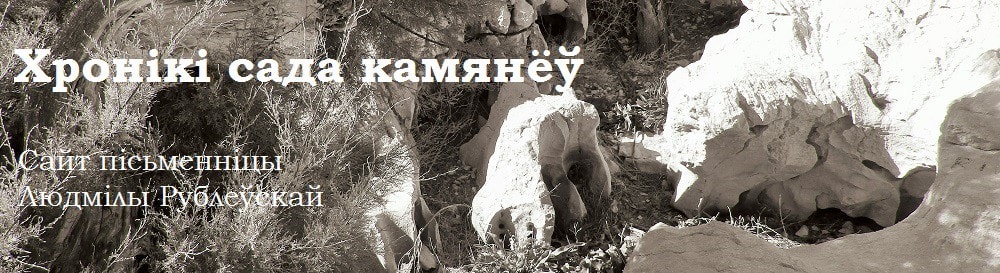ПРОЛОГ
Дуэль окончилась раньше, чем анисовая акавита. Хотя драгуны конной литовской хоругви пили её жадно, как сухой гравий выпивает каждую дождинку припозднившегося летнего дождя.
Зрители не успели побиться об заклад насчёт победителя, а молодой подхорунжий точным ударом сабли аккуратно уложил своего пышноусого днинноносого соперника на травку – на аптечную ромашку, её настой хорошо помогает от колик, на подорожник, полезный для заживления ран и от кашля, на цикорий с синими цветами, приводящий в порядок желчь…. Туда же, на литвинский дёрн, отправилась сабля, выбитая из руки побеждённого – воткнулась во влажную от тёплых летних дождей белорусскую землю, закачалась, задрожала от позора, отражая бессильным клинком небо и белые тучки…
На самом деле длинноносому было всё едино, на какой траве с позором лежать – ведь упал не от раны, прыткий соперник, щавлик, назначенный подхорунжим просто со студенческой скамьи, загонял и запутал, да ещё выпитая акавита коварно подбила колени, оттолкнула от фортуны, как российское войско – Пана Коханку Радзивилла под Слонимом…
— Думаю, этого достаточно, пан Свентожицкий, — вежливо промолвил подхорунжий, русый, голубоглазый насмешник, ловко подхватив выбитую у врага саблю, и теперь щерился, будто получил сундук дукатов от нового молодого короля по прозвищу Телок.
— Я, пан Вырвич, вашу мость ещё на клочки порублю! – как делегат на элекцийном сойме, взревел побеждённый драгун под одобряющий гул товарищей. Попробовал встать, но полоцкая акавита аптекарской работы была хорошим напитком, качественным, и победила. Ромашки сочувственно кивали мелкими скромными цветочками над сладко захрапевшим полёгшим воякой, будто лежал не на земле, а на пуховой перине.
— Пан Прантиш, пойдём отметим победу! Его мость Вырвич должен выпить за удачную дуэль и за именины пана полковника! – зашумели драгуны, но подхорунжий грустно улыбнулся, спрятал саблю в ножны, чужую снова воткнул в дёрн, будто она могла порасти цветами, — отказался от пиршества, сославшись на усталость и необходимость написать письмо семье. И удалился, не обращая внимания на гримасы и перемигивания за спиной. Были и перешёптывания, прислушиваться к которым, чтобы знать, какие слова повторялись чаще, пану Вырвичу без надобности – “чернокнижник” и “схизматик”.
Панам тяжеловато было объяснить, почему подхорунжий Прантиш Вырвич не видит особой причины для пированья. Как сказал бы учитель Прантиша, строгий профессор Виленской академии доктор Балтромей Лёдник, в том, чтобы подраться с пьяным товарищем, не помнящим даже, из-зачего был бит, особенной чести нет.
— Схизматик! – презрительно проворчал один из драгунов. – Как такого в войске держат?
— Пан Вырвич – рыцарь! Из рода самого Полемона! – заступился за товарища черноволосый драгун с такими плечами, на которых, казалось, можно молотить. – Мы учились вместе – никакой он не чернокнижник! Хороший парень и славный шляхтич! Мало ли вместе в бой ходили? Не видали, как он дерётся? Вам же, пан Гаравич, жизнь под Ковно спас! А насчёт схизмы – так ведь наш король, его мость Станислав Понятовский, против того, чтобы диссидентов преследовали.
— Воин пан подхорунжий действительно отважный… Саблей владеет – как сам Полемон… — неохотно признал пан Гаравич, толстенный шляхтич с носом, напоминающим переспелую сливу. – Но разве истинный шляхтич станет, как пан подхорунжий, после баталии дискурсы разводить, правильно ли саблю оголял, справедливо ли кровь пустил? Философию нужно в бурсе оставлять, а не на поле боя тащить! А насчёт схизмы – то я одобряю прошлогодний сойм, постановивший, чтобы за переход из католической веры в иную наказывать смертью!
— Если по-моему, то веру родительскую менять – действительно позор, — согласился Недолужный, и твёрдо добавил, глядя в глаза обрадованному внезапным согласием сливоносому. – Вот православный пан Вырвич и не меняет.
Лицо толстого шляхтича начало приобретать тот же оттенок, что и его нос.
— Пан Недолужный намекает на то, что мой дед перешёл из церкви в костёл? Веру поменял? Так и вашей мости прадеды, не ошибусь сказав, русской веры были!
Возможно, на окраине литвинского местечка, где квартировала драгунская хоругвь, еще кое-кто улёгся бы сейчас на траву, но безвестный, утомлённый долгим отрывом от стола, закричал:
— А не пойти ли нам выпить за преданность вере отцов?
Призыв получил благодарных последователей, и вскоре в хате пана писаря, проклинавшего всех причастных к тому, что его дом не освободили от постоя, и что квартирант-драгун попался щедрый на угощение, загудело застолье, зазвенели чары, загремели виваты… Почему нет – если завтра, а то и сегодня острая сабля вчерашнего друга и соседа может достать твоё сердце, или шестопёр раскроить украшенную чубом, побритую по сарматскому обычаю голову, а полные чарки нектара и амброзии на том свете навряд ли обрадуют так же, как домашний голубой ликёр, на кровавнике настоянный … Гуляем же здесь, на грешной земле, паны-братья! Тем более сегодня подходящий случай: именины пана полковника Мосальского.
Молодой подхорунжий с облегчением удалялся от шума и толчеи, будто от тела отлипала надоедливая паутина. Как говорил Цицерон, гнев – это первая степень безумия. Третий год службы – и от былых мечтаний о военных подвигах остались даже не обрывки, а действительно – квелая паутина бабьего лета, блестящая на солнце золотыми нитями, но ты отлично знаешь, что из этих нитей не соткут ни ткань, ни даже узенькую орденскую ленту. Попал пан Прантиш Вырвич герба Гиппоцентавр на службу в хоругвь конного регимента великой булавы благодаря тому, что тогдашний шеф хоругви, великий гетман Радзивилл по прозвищу Рыбонька, покровительствовал учителю Прантиша, доктору Балтромею Лёднику. Лёдник когда-то на поле боя спас гетману жизнь, и за это получил шляхетство. А до этого какое-то время был слугою школяра Прантиша Вырвича – Фортуна любит неожиданные выверты. Советовал своему ученику пан Лёдник, бывший алхимик и чернокнижник, большой учёный и выдающийся фехтовальщик, посвятить жизнь не гневливому Марсу, а уравновешенной Минерве, богине науки и любомудрия, но разве юному шляхтичу к лицу избегать рыцарского служения!
После смерти Радзивилла Рыбоньки конный регимент возглавил пан Мосальский, враг Радзивиллов и сторонник Фамилии – политической партии Чарторыйских и Понятовских. Ну и пошла среди офицеров качка… Одних – в отставку, других на должность… Не то, чтобы Вырвича с его не самым высоким чином сильно начали прижимать – но на удачную карьеру пока нельзя было рассчитывать. Если приходится тебе жить в межвременьи, чтобы вынесло наверх, нужно уметь покорно болтаться щепкой в водовороте. А Вырвич был перегруженным челном – излишними оказались полученные в Виленской академии знания, воспитанная Лёдником склонность всё проверять умом, даже то, что кажется обычным и неизбежным.
После смерти Августа Третьего Саксонца страна напоминала разворошённый улей. За корону дрались и словами – на соймах, и деньгами – перекупая сторонников, и оружием – на элекционный сойм российская императрица прислала своё войско, чтобы поддержать кандидатуру бывшего любовника Станислава Понятовского по прозвищу Телок. А когда выбрали Телка – развязалась война. Коронное войско, естественно, оказалось на стороне нового короля и Генеральной конфедерации – туда вошла шляхта, надеявшаяся получить свой кусок власти, ну и те, кто был недоволен порядками в Речи Посполитой, где все иноверцы – православные, протестанты – обьявлялись диссидентами и лишались прав. Главным среди противников конфедерации оказался сын Радзивилла Рыбоньки Пане Коханку, чрезвычайно популярный среди шляхты демонстративной приверженностью “сарматским идеалам”. Сойти в грязь, чтобы расцеловаться с панами-братьями, пострелять в окна магистрата, ходить в белом жупане– это же наследство тринадцати поколений предков, виленских воевод! – затасканном так, что не узнать, действительно ли он был белым! Пан называл себя некоронованым королём Речи Посполитой. И Прантиш искренне радовался, что их полк не участвовал в битве под Слонимом, когда войско Конфедерации вместе с российским разбили жолнеров Пане Коханку, после чего его самого наказали баницией, а имения секвестровали. Небольшая радость осознавать, что в бою убил своего же литвина, просто очутившегося по другую сторону.
Рассказывали, что под Слонимом в первых шеренгах в мужском платье дралась панна Теофилия, сестра Пане Коханку. Там и понравился ей мужественный, но небогатый поручик Моравский, с которым потом сбежала и обвенчалась супротив воли брата… А Вырвич вспоминал такую же отчаянную паненку, панну Полонею, сестру магната Михала Богинского, ещё одного претендента на корону. Панна Полонея тоже умела обращаться с оружием и носить мужское платье, и, убежав в Америку с отчаянным шляхтичем паном Гервасием Агалинским, разбила сердце Прантиша Вырвича.
И Вырвич иногда жалел, что однажды встретил на своём пути алхимика Балтромея Лёдника, воспитанника Пражского и Лейпцигского университетов, научившего думать и всматриваться в этот мир и в себя. Это всё равно как плавать в болоте с крыльями за спиной. И жабы косятся, и крыльев не раскинуть, и далеко не проплывёшь.
В прошлом году их хоругвь случайно наткнулась в дороге на длиннющую колонну – на повозках сидели старые и молодые, мужчины и женщины, с котомками, набитыми спешно забранным из родных хат скарбом. Кто-то мрачно молчал, кто-то плакал, кто-то молился, а кто и стонал, беспощадно избитый. Повозки сопровождали россейцы – оказалось, что это выселяют из Ветки в Сибирь староверов, сбежавших когда-то в Великое Княжество Литовское, где столетиями уживались разные конфессии, от преследований в России. Повозок были тысячи… Казаки озверело лупили еретиков нагайками, особенно жаль было тех, кто шёл. Ясно – не дойдут. Ляжет такой бедняга рано или поздно на дорогу, в пыль, грязь или снег, или скорчится в углу придорожного острога, и даже зверские удары по избитому до черноты телу не заставят двинуться… Прантиш тогда бросился на одного такого, с нагайкой, избивавшего женщину, прижимающую к себе младенца… Но свои же начальники не дали заступиться, оттащили… Мол есть договор, дело россейцев… Да когда такое было – чтобы иноземные войска гуляли по стране как хотели! Суд вершили, в работу сойма вмешивались… Войско же Великого Княжества и Короны сократили до смешного, до видимости… У магнатов больше! У того же Пане Коханку целая армия была. Вот и бился пан за шляхетскую волю, за право “либерум вето”, пока не очутился в эмиграции, где удивляет италийцев и французов жирной до несварения пищей и дождём дукатов… Как говорят, трибунал с декретом, а Радзивилл с мушкетом. А Лёдник как-то рассказал Прантишу, что есть тайный договор между российской императрицей и прусским императором, чтобы не давать в Речи Посполитой “либерум вето” упразднить: пока любой шляхтич имеет право сорвать сойм, пока в стране нет твёрдой руки – она безопасна для врагов. А для подобных Вырвичу вообще что за польза драться на стороне власти, закрывающей твои храмы, а тебя только за то, что ты крестишься иначе, записывающей в предатели? К тому же, после воцарения Екатерины Пане Коханку ей письмо послал с предложением верности взамен на протекцию в добывании короны… Но получил тыкву – царица давно поставила на Понятовского. А если бы Радзивилл от россейцев любезность получил, неизвестно, как бы сейчас на шахматной доске Европы фигуры стояли…
Прантишу довелось быть на коронации Понятовского в Варшаве. Телок всю родню привёл, для которой добился званий принцев и принцесс. А шляхта, даже сторонники, стояла и усмехалась: многие считали себя родовитее Понятовских, да и не было здесь принцев никогда – разве только князья Великой Римской империи, как Радзивиллы. А теперь титулы – графья да бароны – настоящая мерзость! Шляхтич на загроде равен воеводе. Король всего только первый среди равных, такой же пан-брат.
Понятовские слух пустили, что происходят из Италии, от старинного рода Торелли, переводящегося как Телок, поэтому и возник их герб с изображением бычка. Но ведь людей не обмануть – хватало тех, кто помнил, что предки нового короля из мелкого имения Понятовы в Люблинском воеводстве, а первый в роду был Мартин Тёлок Матеёвский, никакой не князь, шляхтич средней руки, магнатам ручку целующий.
Особенно насмехались над малолетним племянником Телка, тёзкой короля – Станиславом Понятовским, сыном прославленного бесстыдным поведением подкомория Юзефа. Бледный мальчик с вытянутым чванливым лицом был не по летам высокомерен, и все знали, что король присмотрел его в свои наследники – ибо будто бы взамен за трон Екатерина Вторая взяла с бывшего любовника слово не жениться и не иметь законных детей. Говорили, царица ещё в замужестве родила от него дочь Анну, и Телок мечтал, чтобы Екатерина развелась и вышла замуж за него… Но бывшая принцесса Ангальт-Цербская твёрдо рассчитывала на тот трон, на ступенях к которому стояла, к тому же Анна умерла маленькой, и Станислав Понятовский по этой причине сильно печалился.
Во многом можно было обвинить короля, но его омерзение от пьяных пиршеств, умасливаний делегатов подарками, целований и совместных осушений бокалов Прантиш никак не мог считать пороком. Так же, как и то, что король переводил Шекспира.
Пан Вырвич и сам пописывал вирши… Чаще всего, правда, они заканчивали свою жизнь как испанские еретики: в очистительном огне. И посвящать их, если честно, было некому.
Ласточки чертили на небе сложные руны, по ним можно было гадать на жизнь и смерть, хотя на самом деле они служили только предвестниками мошкары. Драгун грустно усмехнулся. Не ошибся ли он, избрав военную карьеру? А какой гордостью наполняли когда-то слова из трудов пана Шимона Старовольского, написанных более ста лет назад: “Никогда захватнических войн с соседними народами не ведём, если только сначала нас не спровоцируют на них силою, и то, только чтобы отомстить за обиды и возвратить захваченные земли, а не для занятия их владений и господства над ними. Поэтому наше войско более для защиты Отечества приспособлено, чем для добычи городов иноземных… Поэтому также войско наше в большинстве из конницы состоит, почти исключительно из шляхты, и служит для битвы в открытом поле, чтобы идя вперёд, противостоять неприятелю раньше, чем он придёт к нашей границе”.
Прантиш загляделся в синее-синее небо Отчизны, по которому навстречу неизвестному будущему плыли белые фрегаты облаков, и межвольно улыбнулся: всё ещё впереди! Авантюры не заканчиваются!
Предчувствие не обмануло: назавтра Вырвича растолкал его денщик:
— Пан подхорунжий! Вас пан поручик зовёт!
К счастью, с паном поручиком, старым служакой, Вырвич был в хороших отношениях, тот иногда своей строгостью и любовью к античным философам напоминал Балтромея Лёдника. На сей раз поручик Малишевский был мрачен, как зимний вечер.
— У меня для тебя поручение, пан Вырвич. Немедля отправляйся в Вильню с очень важным письмом. Ne differas in crastinum (Не откладывай на завтра. Лат.)
Сердце Прантиша радостно забилось: в Вильню! Считай – домой… Туда, где неподалёку от Острой Брамы стоит дом с зелёными ставнями, где живёт семья Лёдников, самых близких ему, хотя и не кровных, людей, и где всегда рады пану Вырвичу герба Гиппоцентавр… А как пани Лёдник готовит рубцы с анисом!
Но тут же шевельнулось и подозрение: почему это с письмом посылают не вестового, не адъютанта, а подхорунжего, командира шести рядовых драгунов и денщика? Нет ли в сем унижения? Пан Малишевский хмыкнул в усы:
— Не кривись, пан Вырвич, не дуйся. Посылаю тебя потому, что ты этим утром единственный трезвый изо всей хоругви, во-вторых поручение моё секретное, письмо могу доверить только человеку испытанному, и никак не слуге… А в-третьих, не обижайся, ваша мость, но… — пан Малишевский сделал паузу. – Лучше тебе отсюда уехать.
Вырвич напрягся:
— Почему?
Пан поручик вертел в руке серебряную кружку с выбитым на ней гербом – повсюду возил с собой, будто надеялся, что отпитое из фамильного кубка вино убережёт от пролития своей крови. Загрубелый от оружия палец пана обводил очертания горделивого оленя с ветвистыми рогами – никто из драгунов даже подшофе не осмеливался высказать куртуазную версию происхождения эдакого “рогатого” герба.
— Вчерашняя дуэль имела нехорошие последствия, — неохотно продолжил поручик. – Не могу осуждать твою мость за чрезмерную склонность к учёным шуткам, одиночеству и уклонению от дружеских бесед, но это всё же не прибавляет пану товарищеской любви. Знаешь, что вчера пан Свентажицкий во время застолья, продрав глаза, о тебе орал?
Пан Малишевский кинул на Вырвича настороженный взгляд.
— Что ты – чернокнижник, и наслал на него слабость в ногах. И нет, не нужно хвататься за саблю и снова бежать защищать собственную честь, навряд ли пан Свентажицкий помнит, что вчера молол. Но подобные вещи западают людям в память, и любую мелочь испуганный ум начнёт объяснять преувеличенно. Скажи, пан Вырвич, — поручик замялся, опустив глаза на кружку. Склера глаз у пана была желтоватой, на руках – характерные пятна, что свидетельствовало о нездоровых почках. –Ты никогда не был замешан в чём-то… ведьмарском? Поговаривают о твоём близком знакомстве с одним таким… виленским Фаустом, доктором чернокнижником, золото умеющим делать и мёртвых оживлять.
Истинно говорили латиняне, fama bona volat lente et mala fama respente, добрая слава в лукошке лежит, а дурная по стёжке бежит.
— Даю слово чести пану поручику, что я добрый христианин, так же, как и мой наставник, пан Балтромей Лёдник, — холодно промолвил Прантиш. Пан Малишевский грустно кивнул головой.
— Верю пану подхорунжему, и больше спрашивать не стану. И о докторе Балтромее Лёднике слышал, и как он в Полоцке за великого гетмана дрался, и сколько больных исцелил… Даже жена моя к нему собиралась сынка везти, когда тот покалечился, упав в старый колодец. Наговорили ей о чудо-лекаре, так женщина готова была всё имущество отдать, чтобы лечить взялся, чернокнижник он или нет… Но не успели мы ничего, умер сынок. Божья воля…
Пан поручик вздохнул, отставил кубок и полез в ящик секретера.
— Вот пану сто злотых на дорожные расходы, вот письмо… И не спеши возвращаться, пан Вырвич. Погости в Вильне. Возможно, тот, кому письмо завезёшь, тебя кое о чём попросит. Когда понадобишься, я пришлю за тобой сам.
Вырвич едва сдерживал гнев и обиду. Фактически ему вежливо сообщали, что могут отправить в отставку. Но – на кого обижаться? Пан Малишевский к нему по-доброму, спасает от неприятностей. Себя самого нужно обвинять. Понравилось дразнить неучей псевдофилософскими беседами… Самому весело, а дураки всё всерьёз принимают. И кот с усами, а гоняется за мышами.
Прантиш горделиво выпрямился, молодецки улыбнулся.
— Пусть пан поручик не сомневается, исполню наилучшим образом! Кому передать письмо?
— Его мости, пану судье Михалу Юдицкому, лично в руки.
Пан поручик потом какое-то время гадал, показалось ли ему, или его подчинённый, бесстрашный пан Вырвич, когда услышал ответ на совсем простой вопрос, действительно побледнел и растерялся? Но на улице завизжала какая-то девица, заревели пьяные голоса… И колдун-подхорунжий вылетел у пана Малишевского из головы, как улетают с первым же ветерком пушистые семена с лысой головы одуванчика.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДОКЛАД ПРОФЕССОРА ЛЁДНИКА.
Зал виленской академии был наполнен учёными людьми, как сундук ростовщика – чужими монетами. Казалось, от накопленной здесь мудрости благоговейно дрожит даже воздух. Правда, к благоговению почему-то примешивалась приличная добавка совсем иного чувства. Сквозь высокие окна щедро просеивало свет солнце, не в силах позолотить строгие одежды, деревянные скамьи и насторожённые взгляды.
— Таким образом, путь, обозначенный Везалием, отдавая преимущество опыту и практическому познанию анатомии, оказался гораздо более результативным, чем путь Галена, изучавшего анатомию человека на трупах животных, что не является идентичным.
Голос докладчика, высокого горделивого пана в чёрной профессорской мантии и аккуратном белом парике, с хищным носом, тёмными пронзительными глазами и презрительным ртом, звучал уверенно, как у военачальника-победителя. Хотя слушатели – многие в чёрных сутанах – посматривали на пана за кафедрой кто с ужасом, кто с гневом, кто с искренним удивлением, как на жолнера, вооружённого даже не огненным мечом, а обычной сабелькой, в одиночку бегущего супротив целой армии. От упоминания некоторых имён присутствующих аж передёргивало. Кое-кто даже крестился. Докладчик же сохранял нерушимое спокойствие. Не обратил никакого внимания, и когда приоткрылись тяжёлые дубовые двери, и в зал осторожно вошёл молодой драгун, чей русый чуб молодцевато выбивался из-под шапки, у левого бедра угрожающе поблескивала сабля, а красные сапоги нахально скрипели и цокали по каменному полу подковками. Кое-кто из учёных мужей недовольно оглядывался на припозднившегося посетителя, коего никак нельзя было заподозрить в любви к естественным наукам, а скорее в том, что сейчас наделает шляхетского шума. Но молодой человек скромно присел на последнюю скамью аудитории, около также неожиданных слушателей – женщины в кунтушике из тёмно-зелёного шёлка, надетом на светлое платье, в парике, украшенном только зелёной лентой, и темноокого мальчика лет пяти в немецком костюмчике, страшно важного и серьёзного. На самом деле, женщина в скромном, но благородном одеянии могла надеть рядно или золотую парчу, и так же казалась бы сказочной королевой. Такую величественную красоту не портили даже годы – слушательница была не юной, но время от времени на её тонкий профиль, совершенной формы розовые губы, чёрные брови, горделиво взлетающие над нестерпимо синими глазами, оглядывались и студенты, и старые профессора. Но синие глаза были направлены только на мрачного клювоносого докладчика, продолжавшего дразнить аудиторию.
— A posteriori, эти результаты, позволяющие избежать слишком больших потерь крови во время операций в брюшине и даже на сердце, можно было бы получить быстрее, если бы в нашем уважаемом научном учреждении имелся свой анатомический театр. Ещё Уильям Гарвей писал, что анатомы должны учиться и учить не по книгам, а препарированием, не из догматов учёности, но в мастерской природы. Надеюсь, панове убедились, что результаты моих экспериментов подтверждают схему циркуляции крови в организме, определённую Гарвеем. Могу также сослаться на труд “Элементы физиологии человеческого тела” фон Галера, а также на исследования Герарда Ван-Свитена и Антона Гаена из Венской Академии наук. Задумайтесь, панове – на дворе вторая половина восемнадцатого столетия, воду качают с помощью пара, машины ткут ткани, а вы всё ещё верите, что жёлтые вещества помогают от желтухи, потому что совпадает цвет, плоды в форме сердца – от сердечных болезней, а кровь в артериях как челнок в ткацком станке – колеблется туда-сюда.
— Пани Лёдник, его потом на костёр не отправят? – прошептал драгун на ухо сосредоточенной красавице. Та вздрогнула, перевела взгляд на соседа, тень радостной улыбки тронула губы:
— Пан Вырвич! Какими судьбами?
— С поручением послали, — шёпотом ответил драгун, обвёл глазами аудиторию. – Надеюсь, драться здесь будет не нужно?
— Не знаю… — тревожный взгляд жещины снова возвратился к фигуре в тёмной мантии. – Он же неугомонный… Лезет всё время на горячие угли…
— Пани мать, пан Вырвич, тише! Пан отец говорит! – важно прошептал малыш, и Прантиш улыбнулся, узнав интонации упомянутого пана-отца, стоящего сейчас за кафедрой.
— Cogito ergo sum. Пока мыслю, существую. Всё новое сначала кажется непривычным, а потому неправильным, omnium quidem rerum primordial sunt dura (начало всегда кажется неправильным – лат.) – на латыни завершил своё выступление докладчик. – Но если нововведение поможет спасать жизни, мы должны его усвоить. Да помогает нам Господь, аминь.
Часть аудитории горячо зааплодировала, кое-кто даже подхватился с места – в основном молодёжь, но и серьёзные учёные тоже. Особенно старался пан в богатом камзоле из серого атласа, в белоснежных кружевах, с умным открытым лицом – пан с вызовом поворачивался к тем, кто сидел и неодобрительно гудел. А потом начался диспут…
— Многоуважаемый доктор Лёдник наверное не знает, что в Сорбонне его любимого Гарвея, ученика алхимика и богохульника Бэкона называют не иначе, как “циркулятором” – что означает шарлатана, — язвительно начал старый учёный с острым носом и запавшими глазами. — Abyssus abussum invocate.(Бездна призывает бездну – лат.) И вы вослед ему отрицаете, что организм – это микрокосм, одухотворённый археем? Что в крови присутствует жизненный дух?
— Когда Уильям Гарвей описывал разрыв стенки левого желудочка сердца, он нашёл там известкование венозных сосудов, а вот архей отсутствовал. Могу подтвердить своими наблюдениями, — ещё более язвительно ответил доктор Лёдник. И понеслось… Учёные – и в сутанах, и в камзолах – ревели на чистейшей латыни, как торговцы на древнеримском рынке. Лёдник дискутировал, будто дрался на саблях – атакуя при каждом удобном случае. Докладчика обвиняли и в том, что вместо того, чтобы положиться на волю Божью, кровопускание и микстуры, он проводит рискованные операции, а также что он вообще, позоря звание врача, работает скальпелем и ланцетом – ибо сословие хирургов исконно принадлежит цеху цирюльников, и должно прислуживать врачам. Утверждали, что операции на сердце и на печени невозможны, ибо там содержится жизненный элексир, и если Лёднику что-то подобное удаётся, то не с помощью ли тех сил, к которым добрый христианин никогда не обратится?
Находились у доктора и защитники, особенно уже замеченный Прантишем пан в сером камзоле, выкрикивающий достаточно дерзкие реплики, свидетельствующие о хорошей образованности.
— Кто это, пани Соломея? – спросил Прантиш Вырвич у докторовой. Та, прижимая к себе сына, побелевшими от тревоги губами ответила:
— Граф Михайло Рязанцев. Российский консул в Вильне. Они с Бутримом дружат.
— Ещё его императорская мость Пётр Первый приказал открыть анатомический театр в Санкт-Петербурге! – кричал Рязанцев. – Потому что считал, как и знаменитый анатом Фредерик Руйша, что внутренности человека – тоже доказательство совершенства Божественного мастерства! Они тоже созданы Господом! Его императорское величество лично присутствовал на практических занятиях в Госпитальной школе, а когда видел, что кто-то из присутствующих брезгует, вынуждал собственными зубами разрывать мышцы трупа! Потому, что врач не должен брезговать тем, что создано Богом, и что он должен, призывая Господа, спасать!
Вообразив картину разрывания зубами мышц, Вырвич в очередной раз подумал, что, видимо, медицина – не его путь. Между тем бедлам достиг той точки, когда начинается или настоящая драка, или усталость и затихание.
— Я вызову всех их на дуэль! – заявил младший Лёдник, его тёмные глаза угрожающе блестели. – Меня пан-отец учит фехтованию!
И даже руку положил на эфес маленькой сабли в серебряных ножнах. Как говорят, если отец – рыбак, то и сын на воду глядит.
— Вы очень смелый, пан Алесь, — похвалил малыша Прантиш. – Но думаю, профессор сам справится.
Но от разворошённого улья нельзя отмахиваться веточкой. Вырвич жалел, что недостаточно сведущ, чтобы присоединиться к спору – за два года совсем оторвался от науки. Наконец светопреставление остановил ректор. Из его речи следовало, что несмотря на уважение к научным достижениям профессора Балтромея Лёдника, основы академической схоластической науки в Академии ломать не станут, создание анатомического театра, так же, как и медицинского факультета, в планах руководства пока нет, да и вообще по поводу работы самой кафедры практических наук, возглавляемой докладчиком, есть вопросы.
Лёдник пробился через толпу с таким высокомерным и сердитым видом, что к нему боялись цепляться и с критикой, и с одобрением.
— Съеду в Вену! – сквозь зубы заявил жене. – Там, чтобы нормально изучать анатомию, не нужно прятаться в подземелья! Неучи!
–Успокойся, Варфоломей, — промолвил граф Рязанцев, шедший вслед за приятелем. – Сам же говорил – новое всегда встречают с подозрением. Вспомни, в Лейпциге одного нашего профессора после подобного же доклада вообще в тюрьму посадили. Как говорил Сенека, aequo animo audienda sunt imperitorium convincia (Следует с безразличием выслушивать упрёки неучей – лат).
Ага, сообразил Прантиш, значит – ещё один Лёдников однокурсник покорён его гением. Видимо, Лёдник был в университете таким ярким персонажем, что его знали все. Николай Рязанцев положил руку на плечо доктора.
— Сколько раз говорил, Варфоломей – ты должен ехать в Санкт-Петербург! Тебя примут в Российскую академию, я тебе обеспечу практику во дворцах – возможно, и до самой царицы дойдём. Её императорское величество имеет большую склонность к науке… Журналы выписывает из Европы… Что ты забыл у иезуитов? Придёт время, поверь, оно не за горами – всё переменится, и в стране, и в образовании, академия будет целиком светской, появится и медицинский факультет… А может и отдельный медицинский университет. Тогда и вернёшься, если захочешь.
— Пока возможно что-то делать на Родине, буду делать, — проворчал Лёдник. – Кстати, приветствую пана Вырвича…
Доктор, вспомнив светские манеры, представил Прантиша и графа друг другу, взял сына за руку, улыбнулся расстроенной жене и, прямой, будто аршин проглотил, направился из аудитории.
— Иезуиты собираются Бутримову кафедру прикрыть, — пока Лёдник и граф Рязанцев, идя впереди, переговаривались, тихо объясняла по дороге Прантишу опечаленная Соломея. – Наверное, оставят его заведывать аптекой, чтобы продолжал лекарства готовить, и лекции по химии читать позволят или что там посчитают наименее вредным. Не пропадём, конечно – лекарская практика никуда не денется. Но Бутрим так мечтал о белорусской медицинской школе, вроде венской или лейденской. А теперь…
Зная бывшего алхимика, можно было предсказать, что он так просто не покорится, и неизвестно что на свою мудрую голову сотворит.
Прантиш прислушался: Рязанцев всё уговаривал своего Варфоломея ехать в Россию.
–Послушай, сейчас не те времена, когда врача Антона Немчина на Москве-реке в клочки разорвали, а Леону Жидовину, который от камчука сына Ивана Третьего лечил, голову отрубили… Иноземных врачей у нас ценят! Тем более – ты единоверец.
Лёдник неохотно отбивался:
— Нерусских врачей у вас по прежнему не любят, думаешь не знаю, что по Аптекарскому департаменту был приказ, чтобы русские ученики ели и жили отдельно от иноземного учителя, “дабы не оскверняться”. Да и вообще лекарь сегодня – фигура несолидная.
— Вспомнил Аптекарский департамент столетней давности! Это когда аптекаря Бремберга из Москвы выгнали за то, что скелет в витрине выставил? Теперь у нас Кунсткамера с заспиртованными эмбрионами, препарированными детскими трупами с разными патологиями и даже скульптурами из костей, и каждый, кто себя считает образованным, должен туда сходить. А по поводу солидности – ты хочешь, чтобы тебя все боялись, Варфоломей? Брось! Не вижу ничего плохого в том, что народ смеётся и над врачами, и над политиками, – весело говорил Рязанцев. – Смех – признак здоровья. Видел я один спектакль, где у кровати больного ипохондрией собрали консилиум. Русский доктор предлагал больного напоить, хотя бы и насильно. Француз – познакомить с девицей. Немец – запереть и не кормить, соблазняя из-за дверей пищей, англиец – вручить пациенту пистолет и дать возможность застрелиться.
Лёдник невольно рассмеялся, Прантиш тоже еле сдержал смех.
–Ну и какой рецепт использовали?
Рязанцев махнул рукой.
— Сын больного всех наших коллег поганой метлой прогнал. При этом англиец на прощание избил немца, немец пригрозил разбить в монографии научный опыт английца, француз пошёл, напеваючи, а русский – головой киваючи.
Тут уж захохотала вся компания. Около ратуши, так и стоявшей после пожара обгоревшим столбом, граф Рязанцев распрощался с Лёдником, у него были дела в магистрате. И семейство доктора отправилось дальше, туда, где высились два каменных здания с кличками Рай и Ад. Городские часы отбили три пополудни, на их плоском латунном лице по обычаю была надпись “Vulnerant omnes, ultima necat” — “Каждый час ранит, последний убивает”. У позорного столба на площади толпился посполитый люд, охочий до чужих страданий. Лёдник покосился в ту сторону.
–С моим счастьем и я там когда-нибудь могу вокруг себя толпу собрать, большую, чем с кафедры.
— Не городи чепухи, Бутрим! Не искушай Бога! – гневно сказала Соломея. – Мало тебе в жизни золы в похлёбке перепало?
— Я отстою тебя, папа! – важно промолвил младший Лёдник, в его тёмных глазёнках пряталась тревога.
— Вот, ребёнка напугал… — с укором проговорила пани Соломея. Лёдник подхватил сына на руки, поцеловал, худое мрачное лицо доктора просветлело, стало мягче – что же, за право называть этого мальчика сыном профессор заплатил очень дорого.
— Пусти, я уже большой! Я шляхтич!
Мальчик вывернулся из рук отца, соскочил на землю и принял горделивую осанку. Прантиш спрятал улыбку – характер у Александра Балтромеева Лёдника был явно папин.
–Ой я, малада, дзе розум падзела?
За жаўнера, за зладзея сама захацела,
— завёл рядом песенку лирник, и его сподвижник, чумазый мальчонка в наброшенной поверх рваной рубахи облезлой меховой жилетке из неопределимого уже зверя, зарыскал около прохожих.
–Ой, пайду я ў поле: жыта палавее.
Добра мая галованька, што не акалее, —
жалобно выводил надтреснутый голос. Прантиш бросил в подсунутую шапку грош и сердито попросил более воинственных песен. Нечего жолнеров позорить.
Вслед тут же понеслось “воинственное”, на заказ:
–Збройныя дзеі пяю, ваяводаў, Літоўскага Марса.
Караляў збройных пяю: іх харугвы варожыя разам
Бачылі землі Барэя і месца паўночнае – Рыга,
З імем адным – ды з адрозным і лёсам, і сілай ад Бога…
Прантиш даже споткнулся… Нищий исполнял “Кароломахию” Христофора Завишы, да ещё в переводе с латыни! Нужно возвратиться…
Драгун с печалью всматривался в исполосованный шрамами и морщинами облик лирника, мимо которого с рассеянным пренебрежением только что прошёл. Это лицо не было лицом необразованного пугливого мужика… Глаза выхватывали подробности, складывающие портрет горькой судьбы: костыль, прислонённый к липе, где пристроился песняр, через всё лицо шрам от сабли, старый жолнерский ремень, стягивающий рваньё…
— Воевал, васпан? – тихо спросил Прантиш. Слепые глаза лирника были полуприкрытыми, и весь облик казался “слепым”, нечётким. Единственно – за этой нечёткостью чувствовалась застарелое презрение, почти инстинктивная ненависть к тем, от чьего милосердия он сейчас зависит.
— Да, воевал, милостивый пане, с турками дрался, со шведами, с московцами. В войске славного нашего короля Жигимонта, да устроят его светлые ангелы в небесном дворце, — голос звучал так, будто человек столько раз повторял свою историю, что смертельно устал, и ему обрыдли чувствительные подробности, ибо не трогают они сердца.
— А учился где?
— У пиаров, ваша мость, в Зельвенском коллегиуме.
Вырвич обшарил карманы и высыпал в шапку, тут же подставленную чумазым мальцом, всё до грошика.
— А это от нас! – важно промолвил детский голос, и пан Алесь Лёдник, видимо, посланный родителями, тоже бросил монеты.
Неужто нет справедливости в этом мире даже для тех, кто проливал за Отчизну кровь? Неужели она – этакая беспощадная дама, заставляющая за себя умирать, но благодарности от которой не дождёшься? И не случится ли так, что когда-нибудь Прантиш Вырвич, старый, искалеченный, ослепший, будет вот так же ковылять, выпрашивая на хлеб и тихо ненавидя спесивых безразличных богачей?
В доме с зелёными ставнями их ждал ужин, радостный лай рыжего лохматого пса по кличке Пифагор, прибаутки толстенного слуги-лодыря Хвельки и стройные ряды книг, имеющих в этом доме свойство разрастаться, как опята на трухлявом пне, так что не было видно ни одной пустой стены, где не стоял солидный шкаф – то висела полка с бумажными или пергаментными собеседниками. Много книг прибавилось после того, как в прошлом году умер Лёдников учитель и дорогой ему человек, полоцкий аптекарь дядька Лейба, отписавший Бутриму всю свою библиотеку.
Вырвич так и не перенял пылкую любовь своего ментора к научным трактатам, но книги с выдумками, всяческими фантастиками, да о высокой науке стихосложения были ему сейчас дороже, чем чара доброго вина. Драгун снял в полки потрёпанный томик: “Лопаточник”. Что за притча? Полистал… Пособие по ворожбе на овечьей лопатке, перевод трактата Петра Египтянина… Чего только у дядьки Лейбы не хранилось! А вот тебе более известный и серьёзный труд, “Тайна тайн, Аристотелевы ворота”, правда, как уверял Лёдник, к Аристотелю не имеющий никакого отношения. Том из “осьми глав”, где и “о поведении военном”, и “о премудрости парсунной, яко сохранити царю живот свой, питием, ядением, и спанием, и порты”, и о покупке рабов и рабынь, а также – самое интересное Лёднику – лечебные советы.
Узнал Прантиш и гравюру с изображением Иерусалима, висевшую раньше на стене в аптеке дядьки Лейбы: с миниатюрными зданиями, пальмами, павлинами и херувимчиками.
Драгун с умилением рассматривал дом и хозяев, поснимавших парики и переодевшихся в домашнее. В чёрных волосах Лёдника появились серебряные нити, но он всё такой же упрямый, жилистый и быстрый, не человек – змея. Наверное, по-прежнему занимается фехтованием – вон даже несколько деревянных мечей в углу. Раньше Лёдник такие презирал, тренируясь только с боевым оружием. Но когда Вырвич уехал, приходится, видимо, профессору в тренингах иметь дело с глупыми юношами, могущими и покалечиться. Прантиш даже почувствовал в глубине души острый укол ревности к тем незнакомым ученикам.
Соломея Лёдник была всё такой же красивой, только в уголках глаз появились тоненькие морщинки, кои пани не считала нужным прятать под слоем пудры. Она даже теперь, через тревогу, светилась счастьем, только стоило увидеть сына. Прантиш гадал, помнит ли маленький Алесь, что у него когда-то была другая мать?
Между тем пани Соломея накрывала на стол – она, дочь полоцкого купца-книгаря, не гнушалась собственноручно заниматься домашним хозяйством, хотя для чёрной работы в дом приходила и прислуга. Но перед ужином Лёдник завёл Прантиша в кабинет, где кроме книг громоздились химические и медицинские приспособления и несколько устрашающих восковых муляжей, очень реалистично представлявших препарированные фрагменты человека, запер двери на ключ.
— Рассказывай!
Прантиш молча протянул письмо к Юдицкому. Профессор внимательно рассмотрел конверт, но печать не тронул.
— Ясно… Идти к пану-судье не хочется?
— Ещё бы! – фыркнул Прантиш, косясь на раскрашенного воскового покойника без половины черепа, чей мозг, оплетённый венами, напоминал ком разноцветных червей. – У тебя вон до сих пор шрам на лбу от его сабли! Забыл, как он нас едва в слуцкие подземелья не законопатил? А потом в Менске я же под его окнами призрака изображал, меня со стражей ловили. Ну и физиономия была тогда у пана!
Вырвич рассмеялся от воспоминаний. Лёдник задумчиво повертел письмо.
— Бояться тебе сейчас нечего. После того, как Пане Коханку за границу ретировался, Юдицкий мало влияния имеет. К тому же его двоюродный брат, речицкий судья, наделал беды – совершил наезд на сеймик, где его не хотели маршалком выбирать, людей порубил. Чтобы его схватить, российские войска пригласили. Так взяли пана только в родовой усыпальнице – сидел на гробу прадеда с двумя пистолетами. Теперь, говорят, к расстрелу осудили – слишком всё жестоко и беззаконно, никто не заступился. И наш Юдицкий от брата поспешил отречься: мол, хоть и печаль на сердце, но пан-брат сам виноват, закон нарушать нельзя. Такие, как судья, врагов и друзей меняют, как модная паненка кавалеров. Ты знаешь, что он ещё в прошлом году ко мне на приём приходил?
Вот те раз! Вырвич вспомнил, как Лёдник, когда ехал в тюремной карете на расправу, “припёк” Юдицкого диагнозом, что у того печень не в порядке, и мужской силы нет.
— Ну и как, вернул судье мужскую силу?
Доктор даже не улыбнулся.
— Прости, пан Вырвич, но лечение пациента – дело между ним и доктором.
Прантиш даже покраснел. Вот же зануда, этот бывший алхимик… Мало того, что лечит недавнего смертельного врага, так ещё от самого близкого своего друга подробности скрывает.
— Единственно – если Юдицкий начнёт в какой-нибудь заговор соблазнять, не лезь! – задумчиво промолвил Лёдник. – Пане Коханку сейчас в эмиграции, но связь здесь имеет постоянную. Слышал может, что на его пуговицах был девиз – “Fiducia amicorum fortis”, силён верностью друзей?
— Но не супружеской, — злорадно отметил Прантиш. – Пани Тереза из Ржеуских за мужем в изгнание не поехала, на балах у Понятовского танцует, королю амуры строит. А полученные от Радзивилла письма в королевском дворце вслух зачитывает, чтоб все посмеялись.
Лёдник вздохнул.
— Что же, где густо, а где пусто. Мне рассказывали, что у этой пани у опочивальне висит железная клетка, куда она садит врагов – удовольствие от их стонов и криков получает, совсем как князь Героним Радзивилл. Недаром Пане Коханку от жены в монастыре скрывался. Зато альбанцы, друзья радзивилловской банды, имения пана в аренду берут, стерегут, прибыль пану посылают… Так что Радзивилл слух пустил по всей Европе, что у него неразменный золотой динарий есть, размером с жернов. Потоцкие и Броницкие тоже лезут, как смолица в глаза, о короне мечтают. И Понятовскому ещё долго придётся за крепость своего трона бороться. А денег у него на это нет.
Вырвич удивился.
— Как это – у короля да денег нету!
Восковой человек единственным вытаращенным глазом с укором смотрел на Лёдника, сына полоцкого кожевника, безо всякого трепета рассуждающего о политике.
— То, что шляхтичу – гора золотая, королю обворованной державы, желающему реформ – что кот наплакал, — устало говорил Лёдник. – Сам подумай: прибыли от портов, копален и податей идут только на государственные нужды. Собственных же имений у короля стало меньше, да и ладу в них нет. А россейцы, оружием хоть поддержат, но реформы финансировать не станут. Зачем им хорошие законы и сильная экономика в государстве, которое они собираются сожрать? Вот, назначил Телок друга, Антона Тизенгауза, администратором своих владений, а тот взялся люстрации, ревизии земельные, проводить. А ты представь, сколько королевских земель понемногу поотрезали себе всякие-разные! Так что недовольных даже этим будет много. Диссидентский вопрос тоже так просто не решить…
— Так россейцы же угнетение православия главным преступлением обьявляют, а его защиту – своей главной задачей! – напомнил Прантиш. – Меня в хоругви за то, что я не католик, едва в россейские шпики не записали.
Лёдник тяжело вздохнул.
— Рязанцев мне по секрету рассказал, канцлер Панин говорил, что не стоит здесь особенно расширять права протестантов и православных – крестьяне из России начнут убегать. Нужно только из диссидентов создать партию приверженцев России. В действительности никому нет дела, хорошо нам или плохо живётся. А здесь, что в Короне, что в Литве – даже в одной партии нет согласия. Король мечтает “либерум вето” упразднить, его дядья Чарторыйские боятся по этому случаю симпатии шляхты потерять… Пане Коханку из-за границы сторонников вербует… Короче, в этих декорациях такие интриги завернуть можно, что страна кровью зальётся. Завтра пойдёшь к Юдицкому – будь осторожен.
— Что ты меня за дурака держишь? – обиделся Прантиш. – Вот сейчас пану судье душу начну открывать, как сундуки со старыми коврами, аж моль полетит. И вообще – как ты с этим российским графчиком-боярином так сошёлся? Не дерётесь из-за политики?
Лёдник пожал плечами.
— Умный человек всегда будет уважать убеждения другого. А насчёт боярина ты не прав. Отец Михайлы простым купцом был, его царь Петр Первый дворянином сделал, в Голландию учиться послал. И Михайло всего без протекции добился, собственным умом.
Вот оно что… “Новые дворяне” – болезненная тема и в Литве, и в Польше, и в России. А Лёдник со своим “свежим” шляхетством не был исключением — ещё в 17 столетии, после Гадячской унии, шляхетство от сойма Речи Посполитой получили кое-кто из командиров крестьянских отрядов, дравшихся с московцами. Например, Мурашки, Драни, которые в шляхетстве сделались Драневскими. Но много было и тех, кто ещё “при Сасах” просто покупал патент нобилитации, или выслуживался не военными подвигами, а фаворитством.
А Понятовский, очевидно имея ввиду пример Петра І, щедро присваивал шляхетство неблагородным сословиям, естественно надеясь приобрести себе верных сторонников.
За это старая шляхта его ненавидела ещё больше. Так же, как и его “крестников во шляхетство”
В углу Вырвич заметил что-то, накрытое зелёным сукном. Уже догадываясь, подошёл, приподнял тяжёлую ткань. На него глянули серые стеклянные глаза совершенного красотой воскового лица. Пандора… Кукла-автомат, вынудившая их с Лёдником тащиться за самое море. Доктор поспешно подошёл и аккуратно закутал восковую красавицу.
— Что, вспоминается леди Кларенс? – догадался драгун. Профессор помолчал, видимо перелистывая в памяти приключения в Ангельщине, когда ему довелось завести близкое знакомство с очаровательной, но капризной пани с лицом этой куклы.
— Как такое забудешь… Знаешь, — бывший алхимик немного поколебался, очевидно не зная, стоит ли озвучивать то, что просилось, — я часто думал, как мне собило поддаться чарам той леди… Ну да, красавица, аристократка, отказом разгневал бы – ещё всех бы убить приказала… Но ведь и я не мальчик. И Соломея мне дороже всех цариц мира. И я понял, что если бы не было этой куклы, если бы не мучился я столько над разгадкой тайны механизма, встречей с живым оригиналом не впечатлился бы. А тогда, в Лондоне, когда я увидел, как ожила моя механистическая задача, моя научная победа… Да что теперь оправдываться…
Кукла молчала под зелёным сукном, но казалось, что в любой момент ткань шевельнётся.
Между тем Лёдник немного поколебался и полез в ящик секретера из чёрного дерева, украшенного изображениями купидончиков – античные боженята имели пухлые хитроватые лица и спутанные кудри. Казалось, целью этих шкодливых созданий с золотыми стрелами были не сердца, а как у виленских школяров – булка или горсть изюма с чужого стола.
— Здесь есть ещё одно письмо к пану Вырвичу… Честно говоря, не очень я хотел его пану отдавать. Зачем бередить старые раны…
Прантиш выхватил из рук бывшего своего слуги скромный конвертик, запечатанный зелёным сургучом с оттиском знакомого герба “Огинец”.
— Давай я сам буду решать, что мне бередит, а что нет.
Драгун не удержался, чтобы не поднести письмо к лицу: если принюхаться, можно уловить слабый запах моря, а ещё – вербены. Запах любимого парфюма панны Полонеи Богинской, ныне – пани Агалинской. Сколько же миль и вёрст между ними сейчас! Моря-океаны…
Прантиш поспешно вынул из конверта листик, прочитал, и гневно повернулся к Лёднику, с тревогой наблюдавшему за бывшим учеником.
— Когда это пришло?
— Да принесли перед Пасхой, — с некоторой неловкостью ответил Лёдник.
— И ты не переслал мне! – возмутился Вырвич. – Не сообщил! Оберегал отрока от нервного срыва! Может, хватит водить меня на вожжах? Из-за твоей дурацкой опаски потерпели и другие люди! На, читай!
Рассерженный драгун бросил письмо из далёкой Америки Лёднику, как бы мог бросить король Ягайло донос подкомория Гневаша на добродетельную королеву Ядвигу.
“Всегда помню глубокоуважаемого пана Вырвича, а решилась напомнить ему о себе вот по какой причине… Со временем многое переоценивается, дорогой пан Вырвич, и вещи, раньше казавшиеся незначительными, оказываются очень существенными, и делается стыдно за то, что ты ими пренебрегал. Когда я отъезжала, моя камеристка Ганна Маковецкая всё ещё оставалась в монастыре, где по моему приказу должна была выдавать себя за меня, чтобы я могла беспрепятственно отправиться в наше аглицкое путешествие. Честно говоря, в мельтешении событий я совсем забыла о судьбе Ганны, у которой не осталось никаких родственников. Буду очень благодарна пану Прантишу, если он исполнит, пусть с опозданием, мою обязанность: узнает о судьбе бедной Ганульки и передаст ей то, что хранится от моего имени у банкира Мамонича в Вильне: банкиру я посылаю отдельное письмо с соответствующим приказом. Пусть панна Маковецкая простит меня за всё и воспользуется тем, что я ей передаю.
К слову¸ сына нашего мы назвали Франциском Казимиром. Гервасий, устраивая с друзьями фейерверки в честь рождения наследника, едва не спалил весь форт. Индейцы боятся мужа как злого волшебника, управляющего огненным богом. А Гервасий пробует изучать их язык, чтобы записывать новые байки. Немного разочарован, что здесь, где мы поселились, нету джунглей и маленьких разноцветных птичек, зато здесь горы, поросшие лесами, чёрные медведи с когтями как у дракона, и такие огромные деревья, что, наверное, с вершины видна Вильня. Гервасий пробовал проверить”.
И ниже – строчка из букв, танцующих пьяного гопака:
“Поскольку сей младенец уродился не чернявым, а, как должно, рыженьким, можешь, пан Вырвич, доктора кнутом не сечь! Пан Гервасий Агалинский”.
Последняя буква заканчивалась росчерком, будто бы у автора вырвали из рук перо. Далее снова был почерк Полонеи:
“Надеюсь, пан Лёдник понимает, что Гервасий ещё не окончил праздновать рождение сына, посему пусть не обижается за недобрые намёки. А я от своего имени пану Агалинскому уже всё высказала”
И совсем кривая и неровная запись:
“Ох, высказала! Сильно и больно! На коленях стою и моей жёнушке ноги целую!”
Лёдник, читая, то бледнел, то краснел, в конце пробормотал что-то вроде: “Как есть скоморох…” В словах пана Агалинского был намёк на давнюю историю, где накрутились страсти и трагедии не меньшие, чем в шекспировских пьесах: маленький Алесь на самом деле был сыном Лёдника и пани Гелены Агалинской, жены старшего брата пана Гервасия, этого пан Гервасий долго не мог доктору простить.
Лёдник отдал письмо Прантишу с нечитаемым выражением лица, это нужно было понимать как признание вины.
— Прости, пан Прантиш. Я действительно виноват перед панной Ганулькой. За полгода многое могло с ней случиться. Понимаешь, Соломея о её судьбе ничего не знала – жену держали отдельно от других монашек. Нам и в голову не приходило, что твоя Прекрасная Дама может так обойтись с верной компаньонкой. Посему, как решишь дела с Юдицким, поеду с тобой в Гутовский монастырь. Слово даю.
Вырвич, пряча радость, сурово кивнул: как он соскучился по приключениям с Лёдником вдвоём!
— Ну что, пошли ужинать? А потом покажешь мне своё фехтовальное мастерство… драгун, — привычно язвительно сказал доктор.
— Думаешь, ты такой непобедимый, Бутрим? – не менее язвительно ответил Прантиш. – Смирись – в боевых искусствах нужны молодые мышцы! Молодая страсть! Боевой опыт!
Лёдник ничего не ответил, только скептически шевельнул бровями.
А потом Прантишу пришлось ударяться своими “молодыми мышцами” о стены покоя, где Лёдник устроил тренировочный зал. Ибо молодцеватого драгуна доктор заставил всё время к тем стенам прижиматься. И даже – это было со стороны профессора чистое мальчишество, — продемонстрировал прыжок, который вправду можно в балагане показывать. Прантиш даже не сообразил, как это у Бутрима получилось – вот он перед тобою, а вот оттолкнулся ногой от стены – и приставляет саблю тебе меж лопаток.
— Ты меня такому не учил! – возмущался Прантиш. – Это колдовство какое-то!
— Не колдовство, — назидательно сказал Лёдник, в душе – по всему видно – весьма собой довольный, — а изрядное знание анатомии и механики тела. Ну и тренинг, тренинг, Вырвич! Организм человека способен на такое, что может показаться магией, а это просто обычные, но забытые знания.
Прантиш попробовал тоже прыгнуть на стену, но едва не упал, и вышел из покоев злой, как выкуренная из улья пчела.
Интересно, откуда сам Лёдник добыл те “забытые знания”? Разве что рукопись какую древнюю нарыл?
Лёдника перехватила пани Соломея, какая-то виновато-растерянная:
— Там женщина пришла… Беременная… Просит, чтобы её посмотрела именно я.
Доктор нахмурился.
— Я же тебе говорил… Не приманивай их. И выбрось из головы глупости о собственной практике. Не хватало ещё, чтобы за тебя снова взялись, — посмотрел на опечаленное лицо Соломеи, казалось, она едва заставляла себя не прекословить. – Хорошо, раз пришла женщина – посмотри её. Выполняя христианский долг. Но – ни слова лишнего! И чтобы ничего в оплату тебе не сунула!
Пани Лёдник опустила глаза, в них, не успев сверкнуть, погасли гневные молнии, и ушла.
Прантиш уставился на доктора, устало усевшегося в кресло около камина – к папаше сразу подбежал сын и расставил на подлокотниках своих солдатиков.
— Ты что это, Бутрим, не только меня на вожжах пробуешь водить? Где же твои прогрессивные идеи по поводу женского образования?
Лёдник откинул черноволосую голову на спинку кресла, под закрытыми глазами залегли тени усталости.
— Моя главная идея – уберечь свою семью. Благородного пана Вырвича, так уж сложилось, записываю тоже в категорию родственников, ежели он не брезгует. Соломее возжелалось сделаться доктором, — Лёдник покривил губы. – Как пример указывает на какую-то мошенницу Русецкую-Пильштинову, мотающуюся по миру и лечащую то жён турецкого султана, то российскую царицу, то Радзивиллов, ну и меняющую по дороге любовников. Но кто же такую всерьёз примет? Тоже мужа-лекаря имела, от него и научилась. А Соломея – женщина серьёзная, представительная. Её бояться станут. В ведьмарстве уже обвиняли – забыл, как мы едва её отбили? У меня репутация тоже сомнительная, не прикрою. Подай мне с полки тот томище, в рыжих корках.
Прантиш добыл Лёднику огромный фолиант. Бумага его шуршала, будто возмущалась, что её наконец потревожили.
— Вот, для примера… Выписки из процесса пинского городского суда 1630 года, — как в изобличённого шпиона ткнул пальцем в страницу Лёдник. – Жена пинского возного Вечёрки Высоцкого, Федя, извела жену пинского войского и подстаростого Миколая Ельского. Откопала на кладбище человеческую кость, железные гвозди от гроба, немного песка и приказала своей племяннице Сазоновне, прислуге жены Ельского, три раза поскрести кость, смешать с песком и всыпать в любимый утренний напиток пани, а именно в тёплое пиво с маслом. А кость с гвоздями и песком положить, обойти три раза против солнца со словами: “ Как эта кость мертва, как эта кость онемела, так пусть и пани моей будет”. Самое интересное, что проклятие должно было осуществиться только на четвёртом году. Жена возного умерла, и колдовство выявилось.
— Каким образом? – заинтересовался Прантиш.
— А лихо его знает, — меланхолично промолвил Лёдник, подняв от книги глаза. – Кто там кому мстил… Но девицу Сазоновну тут же отдали на пытки, и она призналась. Ну и тётку её арестовали. Даже Главный трибунал, куда пинский возный обратился, не помог. Так что механизм простой, — Лёдник смотрел, как сын увлечённо переставляет маленьких оловянных жолнериков, вынуждая их убивать друг друга, вследствие некоторые из бедняг с грохотом падали на пол. – Умрёт любой из пациентов Соломеи… На его теле, одежде или в доме тоже найдут приметы колдовства. Царапину, заплатку, ржавый гвоздь, гнилой орех… Виновата ведьмарка! И – на пытки её… — Лёдник резко захлопнул книгу. Даже пыль пошла от жёлтых страниц. – Помнишь, как на мельнице познакомились с девушкой-травницей Саклетой, которую собрались убивать все окрестности? Почесун, мол, на деревню наслала! А у неё только и были, что травы да от матери книга по фармацевтике. Я – мужчина, доктор, имею университетский диплом, член научных обществ, профессор академии… Я могу быть богохульником, а не ведьмаком, но многие подозревают меня и в том и в другом. Да, Соломея ходила слушать лекции в полоцком коллегиуме, но это только подтверждает её “ведьмарство”.
— Слушай, ты меня убеждаешь или себя, что прав, когда запрещаешь Соломее лечить? – сердито спросил Прантиш. Лёдник помолчал, опустив глаза.
— И то, и это, пан Вырвич…
Маленький Алесь начал использовать для боевых действий своей оловянной армии огромную книгу, что лежала на папиных коленях, и суровый доктор силился не шевелиться, чобы игрушечное войско не попадало. И Прантиш подумал, что Лёдник дорого заплатил за безопасность всех своих ближних, каждого из которых мог потерять навсегда. Потому и трясётся, чтобы с ними снова ничего не случилось.
— Знаешь, меня тоже в полку чернокнижником считают, — горько улыбнувшись, признался Прантиш. – Не напиваюсь, книжки читаю…
— С известным чародеем Лёдником дружишь, — подтвердил доктор. Алесь поднял заинтересованный взгляд на отца:
— Пан-отец, а ты чародей?
Лёдник погладил мальчика по голове.
— Я – учёный. Только неучи верят в чародейство, запомни, сын. Ты ещё увидишь, как наука изменит мир!
Вздохнул, будто последнего коня продав.
— Хотя изменит ли она его к лучшему – это ещё большой вопрос.
Соломея вернулась с виновато опущенными глазами, повела сына спать, пообещав ему, что все убитые жолнерики завтра оживут и станут ещё более воинственными.
Вот бы так было и в жизни…
Но в жизни всё непросто. И Прантиш понимал, почему неугомонная когда-то пани Соломея только незаметно вздыхает и силится не показать обиды. Чувствует вину, что так и не смогла родить любимому мужу дитя. Прантиш подозревал, дело в том, что когда-то, во время заточения в Слуцком замке, пани сильно застудилась – Героним Радзивилл всеми способами принуждал упрямую полонянку к покорности. Что ж, сапожник без сапог, а доктора свои хвори вылечить не могут.
А Вырвич, только очутившись в комнате один, смог дать волю горю… Которым оборачивается счастье твоей любимой – с другим. И нужно иметь большое сердце, чтобы пожелать ей этого счастья и впредь.
Драгун Прантиш Вырвич герба Гиппоцентавр так и постарался сделать.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОРУЧЕНИЕ СУДЬИ ЮДИЦКОГО
Древние кёльты верили, что когда-то в Ирландии над ручьём Троицы росли девять кустов лещины с волшебными орехами тёмно-малинового цвета: кто их сорвёт и съест, познает тайны вселенной. Умников, однако, не находилось, орехи потихоньку падали в воду вместе с тайнами, их там глотали жирные ленивые лососи. Вот эти рыбины и сделались самыми мудрыми в мире, особенно после того, как из-за любопытства одной женщины волшебные лещины засохли. А что толку от мудрости тех лососей? Что они расскажут? Разве словить какого, да съесть… Одному кёльтскому герою, Финну Мак-Кумхейлу, сподобилось такую рыбу поджарить и сделаться мудрецом. А так – сплошное разочарование: лососи уныло снуют в реке, выискивая орехи, люди вылавливают лососей, надеясь встретить нужного…
Пан судья Юдицкий, наверное, тоже надеялся посредством поедания рыбы мудрецом учиниться. Поэтому старательно ковырялся в запечённом с лимоном куске лососины. Вообще стол, где сидело всего два человека, судья и его гость, был уставлен дивными лакомствами: медвежьи лапы под вишнёвым соусом, бобровые хвосты с икрой, лосиные ноздри с миндалём, жареные ёжики и ещё что-то, чему Прантиш Вырвич и названия не знал. Просто магнатский пир… Второй странностью было то, что хозяин почти ничего из этого не съедал – принюхивался острым носом, причмокивая тонкими бледными губами, жадно посматривал запавшими глазами, клал в рот малюсенькие кусочки… Жевал, щурясь от наслаждения. А потом выплёвывал на специально подставленный лакеем серебряный поднос. Драгуну Прантишу Вырвичу, совершенно не ждавшему подобного угощения, от такого зрелища и настороженности тоже кусок в рот не лез. Судья, заметив недоуменные взгляды драгуна, объяснил:
— Ах, ваша мость пан Вырвич, к сожалению, желания человеческие превосходят возможности человеческого организма, отпущенные нам Господом, но ослабевающие за грехи наши. Было время, когда я пренебрегал доброй шляхетской пищей, и, выполняя обязанности перед его мостью князем Радзивиллом и Отчизной, успевал за день только откусить сухой булки… Сколько же я упустил простых радостей жизни, жертвуя собой ради высших идеалов! Certum est omnia licere pro рatria! (Следует жертвовать всем ради Родины – лат.)
Пан Юдицкий подобно костельной кликуше закатил вверх глаза и нацепил на двузубую вилку очередной деликатес. Прантиш вспомнил, как Юдицкий усердствовал “ради высших идеалов”, когда тайно хотел продать на мучения “ведьмака” Лёдника князю Герониму Радзивиллу.
— А потом пришло время, — продолжал хозяин, — когда даже самую простую и лёгкую пищу мой желудок перестал принимать, и думал я уже, что отдам в огненное море золотые ключики… Дай Бог здоровья уважаемому доктору пану Лёднику, вашему учёному другу, — Юдицкий слегка поклонился Прантишу. – Спас меня… Но прописал специальную диету! А как только мы чего-то лишаемся – тут же начинаем этого алкать, грешники… — печально промолвил судья и отправил в рот кусочек жареного ёжика. – Потому и решил я, не губя здоровья ради чревоугодничества, всё-таки познать благородное искусство шляхетской пищи. А какие ещё, дорогой пан Вырвич, остались у меня радости жизни, у больного, потерявшего Фортуну!
Юдицкий мечтательно пожевал кусок и выплюнул на поднос. Ага, если не врёт насчёт последней радости – значит мужскую силу Лёдник пану судье всё-таки не вернул, злорадно подумалось Прантишу. Здоровым человеком судья не выглядел: худой, пожелтевший… Но не сказать, чтобы хилый, а уж хитрец какой! Будто на самом деле попался ему лосось, съевший волшебный орех. Зачем, делая вид, что забыл о былой вражде, эдак обхаживает молодого драгуна, будто сам Радзивилл в дом пожаловал? Прантиш больше всего на свете хотел очутиться подальше от этого шикарно накрытого стола и заплёванного пережёванными вкусностями серебряного подноса.
— Ах, как жаль мне сегодняшних молодых людей, отважных и смекалистых, но не имеющих ясной цели и славной карьеры на поле боя! – почти с искренней скорбью завёл Юдицкий. – Какие возможности они утратили, когда лучшие силы страны очутились в изгнании!
Слова сопровождал острый взгляд, проверяющий поведение драгуна помле сего признания. Вырвич придал своим голубым глазам самое честное, наивное выражение – как перед профессором на занятии, к которому не подготовился. Судья выждал немного, но продолжил, хотя и очень настороженно.
— Так мало сегодня, в наше испорченное время, людей, заслуживающих доверия. Вот его мость пан Малишевский написал мне, что пан Вырвич как раз редкое исключение. Неспроста слышал я, что пан Вырвич собирается в паломничество в Гуту.
Вырвич даже вздрогнул. Эх, кругом шпики… Это же он вчера в корчёмке, ради которой отложил на день свидание с Юдицким, встретил однокурсника родом из-под Гуты, да и начал расспрашивать о Гутовском монастыре, и есть ли там красивые черницы. Беседа после пары-тройки кружек стала куртуазной и громкой, перетекла в другую корчёмку, потом в третью… Приятель громко объявлял, что его товарищ пан Прантиш Вырвич – самый что ни на есть добродетельный и собирается в паломничество… Короче, Прантиш смутно помнил подробности. Так что сейчас вся Вильня теоретически могла знать, что драгун Прантиш Вырвич собирается в Гуту.
Юдицкий положил вилку, медленно перекрестился.
— Редко, редко среди молодёжи встретишь такое похвальное благочестие.
Прантиш скромно опустил глаза, вспомнив, как в корчёмке они кричали, что нужно спасать монашек, и каким образом это следует делать. Или шпики всё донесли Юдицкому неточно, или сам судья хитрит, но Вырвич постарался придать лицу выражение необходимой степени благочестия.
— Хочу с паном Вырвичем посоветоваться, — мягко стелил судья. – Есть у меня дальний родственник… Болеет, бедняга, после перенесённых несчастий, и не только телесно, но и, так сказать, умственно. Одно несчастье близким наблюдать за его страданиями. Единственный выход – чудо Божье… Поэтому и решили мы отвезти его сначала в Менск, к чудотворному образу Богородицы, явленному на берегу Свислочи и писанному апостолом Лукой. Вы же, пан Вырвич, православный, эту икону тоже почитаете?
Прантиш старательно закивал головою. С какого перепугу везти больного на голову из Вильни в Менск, обходя другие святыни? Для побирушки миля не круг? Юдицкий удовлетворился молчаливым согласием слушателя и продолжал:
— А потом и в Гутовский монастырь, где сейчас хранится десница святого Лукиниана. Поэтому как услышал о намерениях васпана, посчитал это знаком Божьим. С Божьей помощью родственника моего встретят и довезут до римского престола, где, возможно, пан и будет исцелён. Но карету нужно сопроводить. А где найти надёжного человека, готового это сделать? Опекуны больного готовы заплатить таковому двести дукатов.
У Вырвича даже дух захватило. Именно за двести дукатов Лёдник когда-то и запродал себя в рабство – задолжав за редкие ингредиенты для добывания философского камня. Потом эту сумму князь Богинский Лёднику пожертвовал, чтобы тот выкупил себя на волю и в благодарность полез вместе с Соломеей в полоцкие подземелья, добывать реликвию для будущего короля. Каковым, естественно, должен был стать Михал Богинский. За двести дукатов многое можно купить! Это четыре годовых заработка подхорунжего Вырвича!
— Думаю, какой-нибудь молодой драгун мог бы и взяться, — задумчиво промолвил Прантиш. – Плата неплохая… Только…
Юдицкий, привыкший аrgenteis hastis pugnare, бороться серебряными копьями, по-своему понял колебания молодого гостя, и добавил:
— Простите, ваша мость, за мою несообразительность… Конечно, мне нужно было сразу назвать плату в триста дукатов!
Вырвич неопределённо хмыкнул, пытаясь скрыть потрясение. И межвольно вспомнил предупреждение Лёдника, что самый вкусный кусочек сала хозяин кладёт в ловушку. Воспоминание о докторе тут же материализовалось: Юдицкий снова вкрадчиво улыбнулся бледными оттопыренными губами, слова его лились, как мёд на обручении некрасивой старой девы:
— Ваш командир оценит, ежели выполните сие дело, дорогой пан Вырвич, возможно и насчёт вашего повышения по службе дело сдвинется. Но вот незадача… Для сопровождения больного нужен не только вой, но и врач. И самый талантливый. Вот бы такой мастер, как ваш друг, профессор Лёдник! Для него была бы интересная практика, и гонорар щедрый! Но, простите, я понимаю, что это невозможно, профессор занят, к тому же не очень прислушивается к более молодым… — Юдицкий преувеличенно грустно вздохнул. – Навряд ли пан Вырвич имеет сейчас на него какое-то влияние. Не думаю, что доктор – а он сейчас такая важная персона – согласился бы поехать с паном Вырвичем, простым драгуном, в Гуту.
Вырвич раздражённо прикусил губу. Юдицкий, что – считает, будто сын полоцкого кожевника теперь настолько возвысился над потомком Полемона?
— Вот оно, своеволие Фортуны… — продолжал Юдицкий, делая вид, что не замечает переживаний гостя. – Вчерашний слуга сегодня командует своим паном… Хотя, между нами говоря, — голос Юдицкого сделался омерзительно-заговорщицким, — сейчас уважаемому профессору лучше всего тоже на время уехать из Вильни. После его чрезвычайно дерзкого доклада.
Нельзя сказать, чтобы Прантиш совсем не заподозрил двойного дна. Более того – Прантиш был уверен, что это дно существует, и оно весьма топкое. Но заработать за каких-то одну-две недели триста с верхом дукатов! А главное, Вырвича очень обидел намёк судьи, что Лёдник им командует, пренебрегает мнением бывшего хозяина. И правда, почему пан Прантиш Вырвич дал столько власти над собой какому-то простолюдину, которого несколько лет назад имел право сечь плетью с утра до вечера! Тёмное, болезненное ощущение несправедливости, последние годы душимое в себе драгуном, испорченным французской философией, выплеснулось наружу… Он – шляхтич! Когда-то в родном Подневодье пан Данила Вырвич принуждал деревенских мальчишек целовать ручку маленького Прантасия Вырвича каждый раз, когда тот сделает милость поиграть с ними в чижа. Хотя панич бегал таким же босым, как и они. Фортуна может отвернуться от шляхтича, но кровь его остаётся такой же благородной, и он имеет возможность стать и великим гетманом, и даже королём.
— Простите, ваша мость пан Вырвич, что задел неприятную тему насчёт слуг, становящихся панами. Забудьте, что я говорил о докторе, даже не говорите с ним об этом. Он вас всё равно не послушает, а вам, потомку Полемона, аристократу, лишнее унижение…
Хитрые слова Юдицкого Прантиш еле слышал – так от гнева шумела в ушах кровь…
— Ваша мость ошибается! Если я скажу, Балтромей Лёдник сразу же поедет со мной в Гуту! Слово шляхтича! – воскликнул разозлённый Вырвич со всей уверенностью, так как Лёдник ведь дал уже ему слово, что поедет выручать паненку Ганну.
Судья всем видом показал осторожное недоверие.
— Не смею сомневаться в словах вашей мости… Но, повторю, доктор человек важный, занятой…
— А я говорю, что он поедет со мной!
Юдицкий уважительно поклонился.
— Ваша мость рождена для великих дел. В таком случае, вы не откажетесь принять деньги вперёд? Возможно, и за доктора тоже? А после выполнения благородного дела вас будут ждать и другие награды…
Судья подал кому-то знак и снова сосредоточился на пище.
Гнев схлынул с драгуна, как холодная вода. И в душе зашевелился мерзкий червяк раскаяния – а так бывало почти всегда после эдаких вот гневных припадков, от них всё время предостерегал Прантиша Лёдник. Теперь Вырвич отгадывал в мелких чертах лица судьи злую радость. Что он наделал! Нет, драгун – не муха, доверчиво летящая на сироп с мухоморами, поставленный в блюдечке на подоконнике радетельным хозяином.
— Многоуважаемый пан судья так и не назвал имени больного… — напомнил Прантиш. Юдицкий выплюнул на серебряный поднос ещё один пережёванный кусочек. Лакей отошёл, с интересом посматривая на очередное удивительное блюдо, к которому потянулась вилка пана. Ясное дело, всё, что останется на столе – а останется много – доедать будет челядь.
— Это одно из условий нашего контракта, дорогой пан Вырвич, — в голосе судьи появилось немного металла. – Никаких имён, никаких расспросов. Не стоит докучать любопытством и без того обездоленной персоне, и не стоит распространять известия, что уважаемая семья имеет такой… прецедент.
Между тем другой слуга принёс и положил на стол два тяжёлых мешочка с соблазнительно бряцающими монетами. Вырвича разрывало на части, как хозяина продырявленного на средине реки челна, который и не желает выбросить мешок с золотом, и понимает, что с этой ношей до берега не доплывёт. Нет, наверное нужно всё же с доктором посоветоваться…
— Пусть ваша мость даст мне время обдумать это почётное предложение.
Юдицкий не обиделся и не опечалился.
–Мы не прощаемся, пан Вырвич. Вашу долю возьмите, а долю доктора заберёте после. Поклон от меня пану Лёднику! Передайте, что я строго выполняю его рекомендации, чему вы были свидетелем.
Только на улице Вырвич понял, какое напряжение не покидало его всё это время. Такое, что сейчас будто упали невидимые цепи. Но что за хитрец этот судья – уговорил Прантиша на своё поручение, хоть тот с самого начала не имел ни капельки доверия.
Триста талеров… Прантиш взвесил в руке тяжёлый мешочек. Прикупить земли в родовом Подневодье, когда-то целиком принадлежавшем предкам… Вернуть роду славу… Приобрести арабского жеребчика, как у пана полковника… Монисто для одной хорошенькой паненки с улицы Шкельной… Только курица от себя гребёт. Вот только что скажет Лёдник? Слово своё назад не возьмёт, но…
По дороге Прантиш снова зашёл в знакомую корчёмку, где продавали пиво, крепкое, как шляхетское слово, и с кружками бегала хорошенькая шинкарёвна Ривка, с губ которой в тёмном уголке драгун сорвал не один сладкий поцелуй. Шинкарёвна гостю обрадовалась, пиво было на славу…
“Па вуліцы, ля студніцы мне з табою не хадзіці,
Чарнявае, бялявае за ручаньку не вадзіці!”,– выводил нестройный хор пьяных голосов, и жизнь на несколько затуманенных минут приобрела смысл.
Так что когда Вырвич вернулся в дом с зелёными ставнями, мешочек с монетами был немного легче, а губы сами собой напевали песенку о сивом коне, он всё бежит-бежит, а девица под венец не с тем молодцем идёт…
А дома был гость.
У Вырвича даже рот по-детски раскрылся, уставился на пришельца, как гусь на молнию. Маленький щуплый старичок с жёлтым морщинистым лицом, с узкими, как прорезанными ножом, глазами был одет в синий халат и смешную шапочку с помпоном, бородка и усы редкие, так, несколько седых волосков. Но, если всмотреться, от всего облика исходил тихий покой, на дне которого дремало что-то опасное, будто гадючье гнездо в сухом колодце. Китаец, что ли? Откуда Лёдник его выискал?
Не то, чтобы Прантиш никогда раньше не видел людей из далёких стран – при магнатских дворах были и негры, и эскимосы, и индианы. Подумаешь! Каждый князь или монарх стремились насобирать во дворец ещё и разных чудищ, — не делая разницы между карликами, горбунами и двуглавыми телятами. Многие свято верили в существовании циклопов, лотофагов и других невероятных народов. Как писал монах из Корби Ротрамн пресвитеру Римберту в послании о кинокефалах, “Подобно тому, как в каждом народе встречаются люди, кажется, родившиеся на свет вопреки законам натуры, например, двуглавые, трёхрукие, карлики, гермофродиты или андрогины и многочисленные иные, живущие на самом деле не вопреки законам природы, но выполняющие своё назначение, ибо законы природы установлены Господом, так же среди рода человеческого естественным образом существуют считающиеся уродливыми создания, — например, пигмеи, антикауды, — у одних размер тела достигает локтя, у вторых ступни вывернуты назад, а на ногах по восемь пальцев. Гиподы – люди, сочетающие человеческий облик с конскими ногами. Макробии, кои почти вдвое выше людей, а в Индии есть племя женщин, беременеющих в пять лет и живущих не дольше восьми, а также много иных, в существовании которых верится с трудом”.
Чем же может удивить дедушка-китаец?
Но вот так увидеть его в доме Лёдника, к тому же, похоже, он здесь гость обычный… Да и занимались гость и хозяин, сидевшие по разным сторонам длинного обеденного стола, чем-то странным. Между ними – на расстоянии сажня от каждого – стояла свеча, её огонёк светился испуганным оранжево-голубым глазом. Лёдник и китаец вглядывались в этот глаз, будто в морскую даль, не обращая внимания на молодцеватого драгуна, застывшего в дверях. Вдруг Лёдник молниеностым движением выбросил в сторону свечи сжатый кулак – даже огонёк немного вздрогнул. Что за фокусы? Лицо профессора сделалось кислым, будто крыжовник раскусил.
–Вы недостаточно концентрируете свою энергию, пан доктор, — смешно коверкая слова, промолвил тонким голосом старичок. – Мы с вами об этом уже говорили… Я даже не почувствовал вашей силы – хотя она у вас есть.
Китаец тоже выбросил вперёд и убрал кулак – причём движение его было ещё более стремительным, чем у Лёдника, хоть представить такое тяжело, и случилось странное: огонёк свечи тут же погас, будто кто-то прижал фитиль. Доктор от этого зрелища упрямо нахмурился, ноздри его клювоподобного носа угрожающе раздулись, рука поднялась…
За окнами послышался звонкий крик:
— А ну, давай! Вперёд! Давай, Пифагор! Что же ты!
Панич Алесь Лёдник муштровал во дворе пса-добряка. Пифагор радостно взбрехнул – похоже, не понимая пользы боевой подготовки. А в комнате с портретом Аристотеля профессор Виленской академии снова пробовал убить свечу, хотя она ему точно ничего плохого не сделала.
— Пошли, не мешай им… — прошептала за спиною Прантиша Соломея. – Они ещё около часа будут мучиться.
В другой комнате, где на камине стояли синие голландские часы-ваза и висел портрет сэра Ньютона, Прантиш наконец сумел утолить любопытство.
— Китайца зовут Чунь Ли, работает поваром у графа Рязанцева, — объяснила пани Лёдник. – Тот его из самой Сибири привёз. Модно сейчас иметь по нескольку поваров-иностранцев. А этот так готовит, ни по виду, ни по вкусу не понять, что ешь – рыбу, мясо, овощи или вообще каких-нибудь насекомых. Время от времени присылает нам от графского стола попробовать своих изделий. Правда… — Соломея замялась, — как-то не очень они нам по вкусу, только не говори никому. Старичок не простой, и медициной занимается, и всяческими боевыми искусствами. Бутрим как-то подсмотрел, как он убил здорового такого бычка, откормленного для панской кухни… Невооружённой рукой. С одного удара. А ты же знаешь, наш Фауст никогда не откажется от новых знаний. Ну и сдружились… Бутрим ещё китайский язык усваивает.
— А что это они со свечой делают? – поинтересовался Прантиш.
— Сударь Ли учит Бутрима секретному удару на расстоянии, — сдержанно ответила Соломея, ей, видимо, эта наука совсем не казалось хорошей.
— Это как? – не понял Прантиш. Пани Лёдник поморщилась.
— Это когда ты не касаешься тела врага, но повреждаешь его ткани так называемой “освобождённой энергией”. Сударь Ли утверждает, что первыми задеваются внутренние органы, и все последствия такого удара проявляются постепенно.
На красивом лице пани была брезгливость. Но Прантиш представил, как можно использовать такое умение… Годится!
— Вчера Бутрим полночи сидел и пробовал эдак вот погасить свечу на расстоянии, — печально промолвила Соломея. – Если бы ему кто показал, как лбом стену разбивать – страшно представить, чем бы окончилось. Весной сударь Ли предложил ему собрать разбитый кувшин прямо в мешке, через ткань. Говорил – хорошая тренировка для врача, складывающего поломанные суставы и кости.
— А сам китаец собрал? – удивился Вырвич.
— Собрал, — ответила Соломея.
— А Бутрим?
— Две недели боролся, — пани Лёдник раздражённо вздохнула. – Злой был – не подходи. Будто мало ему неприятностей в Академии. Ну, да Бог с ними, пошли на кухню, поужинаешь. Почему-то мне кажется, что у судьи Юдицкого пан подхорунжий не слишком наелся.
Теперь Прантиш знал, откуда его бывший слуга научился прыгать по стенам. Явно китаец опытом поделился.
Блины пани Соломеи действительно вкусные, да ещё со сметанкой… Хорошо, что не пост, к тому же Прантишу не требовалось придерживаться диеты, как судье Юдицкому. Так что успел приговорить блинов пять, пока китаец не ушёл, и на кухне не появился мрачный Лёдник. Видимо, удар на расстоянии так пану и не удался.
Доктор молча выслушал красноречивый рассказ о соблазнительном предложении судьи.
— Нам же всё равно нужно в Гутовский монастырь!
— Что-то я не очень верю в такие счастливые совпадения… — проворчал Лёдник. – Надеюсь, ты ничего не пообещал пану – ни от своего имени, ни от моего?
Прантиш немного замялся… Но с самым честным видом подозрения доктора отверг. А тушитель свечей сидел грустный, понурый, лицо завешено чёрными патлами. Спросил устало:
— И зачем радзивилловским клевретам нужны именно твои и мои услуги, а, Вырвич? За такие деньги могли бы нанять профессионального убийцу самого высокого ранга, хоть Германа Ватмана. Что у нас есть такого, что отличает от обычных наёмников?
Вместо драгуна мужу ответила очень встревоженная рассказом пани Соломея:
— Да просто вы не принадлежите к кругу противников короля! Вы православные, дружите с россейцами, у пана Вырвича даже проблемы из-за этого на службе, а у тебя – в Академии. Вас нельзя заподозрить в заговоре против Понятовского и России! Значит, хотят использовать вас для маскировки чего-то сомнительного.
Доктор вздохнул.
— Вот и я так думаю. И как же мне это обрыдло… Быть инструментом в чужих руках. Всё, никаких авантюр! Никаких соблазнительных предложений! В Гутовский монастырь съездим сами.
Вырвич постарался не показать разочарования. Похоже, полоцкого Фауста не сразу удастся уговорить. А требовать, чтобы выполнил данное слово, пока не хотелось – Прантишу всё ещё было немного стыдно за недавние недобрые чувства к доктору, любящему его, как родной отец.
В комнату, словно ворвался ветерок, вбежал маленький Алесь:
— Пан отец, пани мать! Спадар Ли прислал ещё одно блюдо!
За маленьким хозяином ковылял Хвелька, бережно неся на вытянутых руках тяжёлый глиняный горшок, покрытый белоснежным льняным рушником. От горшка распространялся непонятный, резкий аромат. Но на жирном лице слуги почему-то не отражалась заинтересованность в содержимом посуды, хотя Хвелька не упускал ни одного случая перехватить вкусненький кусок. Горшок был торжественно поставлен на стол, рушник и крышка сняты… Семейство настороженно склонилось над подарком, изучая китайскую вкуснотищу. На какое-то время установилась тишина.
— Спадар Ли не сказал, как это называется? – спросил доктор. Алесик, вскарабкавшийся на табурет, чтобы заглянуть в горшок, закивал головой:
— Говорил! Фан… фин… цзя… ця…
— Ясно… — вздохнул доктор. – Ну, кто попробует?
Хвелька скромно отошёл в сторону.
— У меня печень больная, пан доктор знает!
— А из чего это сделано, Бутрим? – спросил Прантиш, рассматривая бело-красно-зелёную массу.
Лёдник втянул длинным носом душистый пар:
— A prima facie (на первый взгляд. Лат.), курятина здесь есть точно. Ли как-то рассказывал о национальном блюде “Дракон, тигр и феникс”, готовящемся из курицы, кошки и змеи…
Хвелька громко сглотнул, будто его затошнило. Прантиш скривился.
— Ты что, думаешь, твой китаец кормит графа Рязанцева варёными кошками и змеями?
— Ну, не так радикально, — меланхолично проговорил Лёдник, потянулся за длинной ложкой, помешал ею в горшке, от чего и Прантиш почувствовал, как что-то подступило под горло. За ложку цеплялись длинные белые макаронины, похожие на червей, плавающих в красном соусе. А самое устрашающее – плескался чей-то глаз. Круглый, с вишню, с чёрным зрачком, он будто выглядывал из горшка, из-за этого было непонятно – кто кого собирается есть. Сразу вспомнился судья Юдицкий, выплёвывающий пережёванные куски на поднос.
— В китайской кухне сочетаются несочетаемые элементы, — откашлявшись и ткнув ложкой в варёный глаз, начал лекцию профессор. – Например, в блюде “Будда перелетает через стену” в одном горшке находятся плавник акулы, кальмар, утятина, курятина, свиная нога, баранина, побеги бамбука, грибы и ещё незнамо что. Согласно легенде, один путник таким образом спрятал в горшке все свои припасы, и получилось такое вкусное блюдо, что на его запах полезли на стену монахи из ближайшего монастыря, оправдываясь, что так же сделал бы и сам Будда.
— Я не хочу это… с глазами… кушать! – решительно заявил Алесик. – Я блинов хочу!
— Сколько голодных людей были бы счастливы иметь такое угощение на столе! – строго сказал Лёдник, сам, однако, не спешащий нести ложку в рот. – И сударь Ли обидится… Кулинария – тоже вид искусства!
— Всё, заканчивайте любоваться! – решительно заявила Соломея. – Сударь Ли – шутник, он специально присылает такие… специфические блюда. Помнишь, Бутрим, как ты прошлый раз соду глотал после его приправ? Моих блинов хватит на всех.
Полочанка ручником забрала со стола тёплый горшок и поставила на пол.
— Пифагор, любишь китайскую кухню?
Рыжий пёс сунулся к горшку, принюхался, поджав хвост, обиженно тявкнул и выбежал из помещения. Прантиш не удержался от смеха.
— Это блюдо нужно назвать не “Будда перелезает через стену”, а “Пифагор удирает во двор”.
Куда наконец отправились китайские деликатесы, Вырвич не выяснял.
Гасил ли ночью профессор кулаком свечу на расстоянии, неизвестно, но навряд ли. Потому, что когда в городе самым обычным способом исчезли огни, в дом с зелёными ставнями прибежали от очередного пациента, которому сделалось худо, и Лёдник, собрав докторский чемоданчик и прочитав короткую молитву святому Пантелеймону-целителю, отправился спасать ещё одну человеческую жизнь, и, верно, наплевать было больному на все гуморальные и магнетические теории, на учёные диспуты и на кощунства его лекаря.
Но когда драгун Вырвич продрал наутро свои голубые честные глаза, хозяин из дома уже ушёл. Пани Соломея объяснила – вызвали в деканат. Немного тревожно, конечно, но ведь вот-вот начало учебного года, у профессуры много дел. Вырвич зевая ходил по дому, и подумывал, не податься ли в корчёмку…
И в это время возвратился хозяин. Прошёл торопливым шагом через прихожую, снимая на ходу шляпу и перевязь с саблей.
— Вырвич, в кабинет!
К гадалке не ходи – случилось что-то скверное.
Профессор смотрел на своего бывшего владельца, как отец брошенной невесты на предателя-жениха.
— Когда я присягал вашей мости, что поеду с вами в Гутовский монастырь, я не думал, что попадаю в такую ловушку. За триста дукатов меня Юдицкому запродал? Моя цена за последние годы возросла?
Вырвич растерялся. Он ведь долю доктора не взял… Оставил за ним право решать… В чём драгун горячо и попробовал убедить Лёдника. Профессор махнул рукой.
— Ну, всё равно поздно на молоко дуть, коли кипятком ошпарился… Мне дают отпуск на месяц. Чтобы я смог выполнить богоугодный поступок, сопроводить больного в паломничество, за что мне обещано, оказывается, триста дукатов. Если я не еду – мою кафедру закрывают. Совсем. Ещё и студентов, с ними я занимался индивидуально – из бедных – вытурят из Академии.
Прантиш опустил голову. Похоже, что в хитромудрой науке дипломатии он ещё новициант, и заслуживает не дукатов, а головы козла, посланной царём Иваном Грозным старосте Оршанскому Филону Кмите-Чернобыльскому за провал “избирательной компании”, долженствующей возвести московского властителя на трон Речи Посполитой.
— Понятно, Юдицкий к езуитам обратился…
–Не Юдицкий, а те, чью волю выполняет судья, — строго сказал Лёдник. – И теперь у меня выбор – или всё бросить, забирать семью и уезжать – но здесь могут пострадать невинные люди, или… ехать с тобой сопровождать больного пана в святые места.
— Как же, больного… — скептически проворчал Вырвич, пряча неловкость. – Будет такой же маскарад, как когда-то устроила нам панна Богинская. Помнишь, переоделась в мужской костюм и увязалась за компанией?
Лёдник, однако, даже не улыбнулся.
— Не забывай, что я – искушённый лекарь. И если требуются мои услуги, значит есть что лечить – думаешь я не отличу того, кто прикидывается, от действительно недужного? Ректор просил, чтобы я взял в дорогу как можно больше лекарств, особенно от воспалительных процессов.
Прантиш понял, что Лёдник внутренне согласился с тем, что придётся отправляться в путешествие. И – вопреки всему – в душе драгуна, как пузырьки в шампанском, вскипело радостное предчувствие новых приключений.
И уж совсем не удивило, когда тем же вечером подхоружему Вырвичу принесли письмо от поручика Малишевского с разрешением продлить отпуск, дабы сопровождать больного шляхтича Якуба Шредера.
Так, может нет ничего злокозненного в сем поручении? Может, напрасно профессор переживает и пугает Прантиша?
Пани Соломея так и рассуждала, собирая через две недели мужчин в дорогу, шутила, напевала… Но Прантиш видел в её синих глазах тоску и испуг.
Вырвич не поленился сходить к банкиру Мамоничу, проверить, что требуется передать Ганульке. Шкатулку с драгоценностями, украшенную серебряными бляшками с изображением герба Огинец, Прантиш перебирать не стал, но догадывался, что приданое у темноокой скромной паненки Маковецкой теперь не маленькое.
Пивные кружки в последний перед дорогой вечер хорошенькая Ривка наливала Прантишу Вырвичу с верхом и улыбалась обещающе… Звёзды над Вильней были крупными, как золотые яблоки, казалось, их можно стряхнуть с небесного дерева, нужно только найти его свисающие ветви, чтобы ухватиться… И пусть где-то за океаном пани Полонея качает рыжеволосого сыночка, для пана Вырвича найдётся большая любовь и в Беларуси…
Хто бярэцца з намі піці,
Той нясумна будзе жыці.
У забавах гора гіне,
Зноў лье піва гаспадыня.
Захлябнецца гора півам,
Грукнуць келіхі шчасліва.
Будзем піці, жартаваці,
Будзем славіць Вакха, браце.
Першы тост звычайна п’ецца
За ўсіх тых, хто тут збярэцца.
П’ем, другі, каб волю меці,
За жыццё падымем трэці.
Чацьвёрты за Царкву Хрыстову,
Пяты за моц князёву.
Шосты за людзей вольных,
А потым п’е хто здольны.
А утро напоминало стол, накрытый по старинному обычаю, когда мясо обязательно подавалось под четырьмя соусами: жёлтым, с шафраном – так выглядела тонкая полоска облаков, позолоченная солнцем; красным, с вишнями – потому что небо повыше краснело; чёрным, с протёртыми сливами – темнели силуэты острошпилевых виленских строений на фоне рассвета; и серым, из варёного лука. Серого было более всего, так как холодный туман отступал неохотно, будто ночной хищник, не успевший, пока не рассвело, всадить когти в добычу, и теперь вынужденный уходить в логово голодным.
Молчаливый Лёдник, закутанный в чёрный дорожный плащ, от чего был чрезвычайно похож на озябшего ворона, хмуро взирал на мощёную камнями мостовую, о которую неторопливо цокали копыта его коня, такого же хмурого. На мостовой не валялось ничего, кроме разбитых надежд. Вместительная карета с плотно зашторенными окнами, её надлежало сопровождать до Гуты, была совершенно обычной. Без гербов, без особенного украшения. Сколько таких трясётся на дорогах страны, перевозя путников по следам неуловимой Фортуны! Но Прантишу Вырвичу эта карета почему-то напомнила катафалк. Может потому, что в ней было тихо, как в гробу, и она так же хранила страшную тайну. А что, если там и правда покойник? Тот пан Якуб Шредер ни разу не выглянул, голоса не подал. Только его сопровождающий, он же – главный в их путешествии, представился паном Зигмунтом Гроссом, показался было из окна, дабы поприветствовать Балтромея и Прантиша, но Вырвич в сумерках его толком и не рассмотрел. Кучер молчаливый, как мостовая, да и крепок, как камень: вон какие плечи, и два пистолета за поясом…
Но когда отъехали вёрст десять от города, и не было на дороге никого, кроме теней от облаков, а ели подбегали так близко, будто играли с всадниками в салочки, кучер придержал лошадей. Прантиш, от неожиданности сильно дёрнув за узду, едва своего коня на дыбы не поднял. Окошко кареты распахнулось, высунулся пан Зигмунт. Теперь Прантиш мог хорошо его рассмотреть: лет сорока, гладко выбрит, запавшие серые глаза, приплюснутый нос… Плоское невыразительное лицо человека, с которым, однако, не хочется ссориться, такой, не изменившись ни чёрточкой, сунет тебе под рёбра нож.
— Пан Лёдник, нужна ваша помощь.
Голос у пана Гросса был тоже невыразительный, холодно-безразличный. Так говорят люди, не сомневающиеся, что их послушают.
Прантиш ходил по жухлой траве на обочине взад-вперёд, из всех сил стараясь не выказать своего любопытства к тому, что происходит в карете, где доктор осматривал таинственного Якуба Шредера. Драгун подбивал носком красного сапога камешки, насвистывал марши… Очень не хотелось показывать даже самую малую слабость перед сероглазым паном Зигмунтом. Тот стоял у открытой дверки кареты, как будто в карауле. Высокий, как Лёдник, тоже худой, но если доктор был жилистым и стремительным, этот казался вырубленным из камня. На физиономии мелкие шрамы, руки не изнеженные, пистолеты и сабля дорогие, надёжные – кажется, военное дело пану не в новинку. Чем-то похож на знакомого наёмника-убийцу Германа Ватмана. Но не военный, как тот, нет. Стоит неподвижно, а пальцы медленно перебирают чётки. Глаза напоминают две оловянные пуговицы, губы не двигаются, но сомнения нет – молится. Монах? Но почему в таком случае в парике, шляпе, дорогом чёрном камзоле с серебряными галунами?
— Вырвич, подойди! – позвал из кареты Лёдник.
Драгун нырнул в карету.
Пан Якуб Шредер оказался немолодым и щуплым. Короткие седые волосы, морщинистое круглое лицо, скромная белая рубаха без кружев, чёрный камзол… Сиденье кареты разложили, чтобы больному было удобно. А что пан Шредер болен – Прантишу стало ясно с первого взгляда. Хотя тёмные глаза смотрели с пожелтевшего лица так проникновенно и разумно, что в душевную болезнь не верилось. Глаза те показались Прантишу какими-то странными, слишком тёмными, что ли… Ещё Прантиш, присмотревшись, заметил – через всё лицо старика шёл тонкий шрам, заметный только тренированному глазу лекаря. К рёбрам больного Лёдник прикладывал мазь.
— Вырвич, достань из чемодана ещё корпии, вымочи в бальзаме, — отрывисто приказал профессор.
Пан Шредер молчал, бдительно следя за проводимыми с ним манипуляциями, время от времени сдерживая стон. Кажется, у него не так давно были переломаны почти все кости и вывернуты суставы. Хотя шрамов от клинка, пуль или плети, коих немало накопил сам доктор Лёдник, видно не было. Зато у доктора и пациента нашлось кое-что общее. Бутрим осторожно приподнял ладонь старика: точно посередине розовел небольшой сморщенный шрам, как и на второй руке… Такие же шрамы украшали и ладони Балтромеуса: когда-то в маленьком городишке, к которому приближалась чума, ради спасения себя и своих спутников ему пришлось пройти через дикий ритуал. Только приобретение искусственных стигматов там считалось очищением от грехов.
— Не гостил ли пан Шредер в Томашове? Возможно, и с отцом Габриэлюсом знаком? – тихо спросил Балтромей на латыни и поднёс к глазам больного свою ладонь, показывая шрам. Пан Шредер вздрогнул, его тёмные глаза в сетке морщин сверкнули… Но ответить не успел – Зигмунт Гросс тут же заглянул в карету:
— Пан доктор, вас предупреждали – больного нельзя напрягать никакими разговорами!
Запавшие глаза Гросса глянули злобно, как у незамужней тётки, под носом у которой племянница умудрилась встретиться с проворным молодым человеком. Лёдник поджал губы. Кто бы сомневался, что дело нечистое? Пан Шредер закрыл глаза, так что нельзя было понять, что он чувствует и думает на самом деле. Гросс наблюдал за процессом лечения до конца, потом снова сел к старику в карету и даже задёрнул занавески.
— Как ты думаешь, Бутрим, кто этот Шредер? Узник? Быть может, нам стоит помочь ему? – взволнованно прошептал Прантиш, когда они с доктором отстали от кареты на безопасное расстояние, чтобы белобрысый Гросс не подслушал. Лёдник отрицательно покрутил головой.
— Не думаю. Очутимся в положении доброго ребёнка, что тащит рыбку из холодной неуютной мочижины на тёплый сухой песочек. Думаю, ты понял, что пана пытали – и делали это профессионально, растягивая суставы. Что он прячется – и зайцу понятно. Ты, надеюсь, заметил, что его глаза закапаны аконитом, для изменения цвета?
Прантиш неопределённо хмыкнул – честно говоря, ему такое и в голову не пришло. Лёдник понял и укоризненно покрутил головой:
— И для чего я тебя анатомии учил… У него же зрачки так расширены, что радужки не видно. А по его поведению с этим устрашающим Гроссом я бы сказал, что они ягоды с одного куста. И знаешь, могу свой любимый микроскоп поставить на то, что они оба – иезуиты.
— Действительно, — согласился Прантиш. – Я на святых отцов насмотрелся – и в рясах, и в гражданском. И в Томашове пан Шредер точно бывал!
— Где тоже доказывал, что он не богохульник, — проворчал Бутрим, бросая взгляд на собственную пробитую руку. – Надеюсь, что хотя бы к общине отца Габриэлюса наши спутники не имеют отношения. Знаешь, как-то мне не очень хочется снова с той шайкой, повёрнутой на тайных знаниях, связываться.
Ветер был не холодный, но уже и не летний – с первым дыханием осени. Карета катилась не быстро, хотя драгун сейчас припустил бы галопом вон через то поле…
— Чем пан Вырвич так обеспокоен? – тихо спросил Лёдник. – Американское, так сказать, эхо?
Вырвич потряс головой.
— Да нет… Саднит, конечно, и панну Полонею я никогда не забуду, но то, что я её потерял – всё равно, как убедиться, что по облакам нельзя пробежать. Знаешь, может потому и потерял, что до конца никогда не верил, что смогу ожениться с сестрой князя Богинского.
— Тогда что тебя так тревожит? – осторожно спросил доктор. Вырвич какое-то время ехал молча, опустив голову.
— Мне кажется, я… какая-то бездарь. Я не знаю, кто я, для чего существую. Смешно, что нужно было дожить до двадцати трёх лет, чтобы задать себе такие вопросы! – Прантиш горько засмеялся. – Не возражай, я правду говорю. Вот ты пробовал пристроить меня к науке… Да, мне многое было интересно, я неплохим мог бы доктором стать… Но ты сам уже в младенчестве не имел никаких колебаний и готов был день и ночь проводить за опытами, жертвуя забавами. У меня же такой страсти никогда не возникало. Могу в механизме поковыряться, могу в карты сыграть – с одинаковым удовольствием. Вот, думал – военное дело меня захватит… Что же, я – хороший вой! – Вырвич сказал это без тени хвастовства. – Но посвятить жизнь войне… Муштре… Этого уже мало. Заняться хозяйством? Выкупить землю в Подневодье, принадлежавшую когда-то предкам? Основать мануфактуру? Меня через месяц повлечёт в странствия. Ты научил меня фехтованию – но и здесь я не готов, как ты, дни и ночи, пока не получится, отрабатывать какой-нибудь финт. Я даже в любви – не горячий и не холодный, а тёплый – состояние, осуждаемое даже Святым Писанием. Ну не бросился же я драться до смерти с паном Гервасием Агалинским, не рванул за Полонеей в Америку, как кавалер де Гриё за Манон Леско… А если бы панна сейчас приехала ко мне – убежала, скажем, от мужа, или осталась вдовою, с ребёнком на руках – я бы, конечно, принял её с радостью… Но крылья бы у меня не выросли, признаюсь честно. Я, наверное, недостаточно её люблю, чтобы простить всё и принять всякой. Вот, Богинская упрекала меня, что я не обращал внимания на её камеристку Ганульку, влюбившуюся в меня аж до нервной горячки. Мне жаль ту девицу… Но я к ней всё одно безразличен. Ни в чём нет у меня уверенности, прямой линии. Да, я православный, от веры не отрекусь, но мне не нравится, что мою землю завоёвывают мои единоверцы из России. Я литвин, белорус, но соотечественники считают меня предателем, так как держусь своей веры и против, чтобы закрывали мои храмы. Как будто у меня две души, и ни одна не ощущает покоя и полноты бытия. A posteriori, я – бездарь, Балтромей.
— Ты – просто типичный белорус, — Лёдник был очень серьёзен. – Такая судьба народов, живущих на распутье, на соприкосновении культур и цивилизаций. Нас топчут, как подорожник, а мы встаём. Нам навязывают разные названия, а мы остаёмся собою. Поверь, на нас это не окончится. А насчёт твоей бездарности… Послушай, многие за всю свою жизнь не задают себе вопросов, беспокоящих тебя. Это они бездари – а не ты. А если начал думать – значит решение найдётся. Путь сам тебя изберёт. Кстати… — Лёдник с неловкостью хмыкнул, — ты не назвал ещё один свой талант… Литературный.
У Прантиша даже щёки запылали.
— Откуда ты…
— Ну, не всё сгорает до пепла в нашем камине… — отвёл глаза доктор. – Послушай, ты напрасно так стыдишься своих поэтических упражнений, — очень серьёзно сказал Лёдник. – Власть над словом мало кому даётся… Тем более на этой земле, где литвинам всё время пробуют навязать чужой язык, иную веру. А помнишь речь Мелешки? Или дневник Евлашевского? Остроумно же написано, красиво звучит! Древний китайский мыслитель Конфуций однажды сказал: когда слова теряют смысл – люди теряют свободу. Может быть, пан Прантасий, эта земля, где столько преданий, легенд, удивительных приключений, ждёт, чтобы твоими устами заговорить на языке, данном ей Богом? Чтобы поняла и Полонея Богинская, и дочь мельника Саклета, ведунья трав… Нужно только прекратить подражать кому-то, и писать от сердца… Подумай…
Вырвич фыркнул: видал он придворных поэтов, вроде пана Матушевича, певших дифирамбы своим покровителям или сочинявших для их развлечения куртуазные историйки. Конечно, золото им сыпали горстями… Но ведь, если что, могли выпороть как шутов. А писать серьёзные книги, вроде длиннющей поучительной истории о Тристраме Шенди или скандальной “Новой Элоизы”… Куда там драгуну!
Тут же мелькнула предательская мысль: “ А чем плох драгун? Вон Руссо лакеем был… Возможно, Прантиш Вырвич станет белорусским Мольером иль Буало!”
В голове сразу же завертелись новые строчки, как мухи вокруг разлитого варенья…
“Дрожит в твоём сердце златая стрела неприязни.
Прекрасная дама тебя исцелять не берётся.
Ты должен забыть о манящем обличье бесстрастном.
Пускай для Отчизны лишь сердце разбитое бьётся.
А к ближайшей корчме под красноречивым названием “Колбасы” они не свернули. Хотя Вырвич уже без прежнего отвращения вспоминал даже застолье у судьи Юдицкого и “глазастое” угощение китайца. Что значило – давно стоит перекусить. Хотя бы похлебать жур с ветчиной… Или хоть лапши пожевать…
Пан Зигмунт Гросс обещал, что заночуют они со всеми удобствами, в имении с гостеприимными хозяевами. Интересоваться их именами тоже не приходилось – по триста дукатов доктору и драгуну заплатили не за любопытство.
Кучер направил лошадей на лесную дорогу, ели, похожие на тёмные шатры, становились всё выше, казалось, из-за них могли выскочить антикауды с вывернутыми ступнями или высоченные макробии. В сумраке Прантиш рассмотрел, что посреди дороги будто призрачные караульные белеют две фигуры. Это оказались мраморные скульптуры – одна изображала богиню мудрости Минерву, о чём свидетельствовала печальная пучеглазая сова на плече, другая – богиню-девственницу Артемиду, тонкой мраморной рукой сжимавшую лук. Между грозными стражницами чернели кованые ворота. Кто-то основательно загородил своё имение, чья черепичная крыша виднелась над деревьями. Железные прутья ограды шли в лес, будто проросли посеянные зубы дракона.
Кучер остановил лошадей и несколько раз протрубил в рожок. Долго ждать не пришлось – к воротам подбежали двое слуг, и, ничего не спрашивая, отворили их. Значит, ждали…
Когда гости немного проехали к двухэтажному строению с двумя алькежами и полукруглой колоннадой, Вырвич оглянулся. Ворота запирали, и от этого сделалось несколько неуютно, будто они добровольно сдались в плен. Прантиш покосился на Лёдника: высокомерный профиль доктора в сумраке мог напугать – с таким паном не стоит встречаться в ночи. Ничего, вдвоём они даже из Аида выберутся!
Из кареты донёсся тихий стон.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КАК ПРАНТИШ ВЫРВИЧ В ПОДЗЕМЕЛЬЯ МЕНСКА СПУСКАЛСЯ
Дорога к имению вся была усыпана сосновыми шишками.
Древние греки считали шишку символом Вселенной.
Такая вот Вселенная, состоящая из множества чешуек и спрятанных между ними зёрнышек.
А что странного? Для кого-то всё мироустройство – это двор его магната, для кого-то – удобный диван… А кто-то считает венцом всего полную кружку пива, и готов жить в пенной благодати до самых ангельских сурм…
Правда, продолжая аллегорию с шишкой, слишком сомнительная судьба у такой колючей Вселенной – упадёт с ветки, и где очутится? Вдруг вот так, как эта, попадёт в лоб молодому драгуну и покатится под копыта его коня?
Прантиш тихо выругался и потёр ушибленный лоб рукавом. Имение, где они должны были заночевать, нравилось ему всё меньше. Когда-то кёльты высаживали вдоль дорог сосны, чтобы эти светлые деревья обозначали в темноте дорогу…
А здесь даже сосны казались тёмными и мрачными.
Не очень удивило название этого места – Чёрные Сосны.
Хотя само строение было светлым, и колонны на полукруглом крыльце, как уездные паненки — придворных дам, пытались изображать Колизей.
Вдруг откуда-то донёсся женский крик.
Женщина канючила, то просила помощи, то ругалась…
— Не обращайте внимание, ваши мости, — с безразличием промолвил немолодой слуга, по виду которого можно было подумать, что он ни разу в жизни не пробовал ничего крепче воды и не ел ничего жирнее моркови.
Что же, в чужой монастырь своё распятие не несут. Крики повторялись через определённые промежутки времени, будто их порождали пружины заведённого механизма.
Шредера осторожно вынесли из кареты, но в дом он вошёл сам, опираясь на спутников. Всё делалось молча, быстро и аккуратно…
За столом, длинным, как сарматские поминки, Прантиш наконец сумел увидеть хозяина Чёрных Сосен. Он напоминал мрачного князя Геронима Радзивилла: такое же морщинистое, жёлтое лицо, лысая голова, чёрные густые брови, злые тёмные глаза… Разве что пан Лопушинский не заикался и не срывался всё время на крик, только презрительно кривил рот. Ужин был постным, как сиротское счастье, оставалось только вспоминать, что повар при шляхетеском дворе должен уметь приготовить двенадцать кушаний из колбасы, а при магнатском – двадцать четыре. Поскольку никаких расспросов за столом не возникало, да и вообще беседа умерла, не успев родиться, ясно было – пан посвящён, кто гости и куда едут. В отличие от Лёдника с Прантишем.
Снова послышались женские стенания. Лёдник нарочито громко бросил ложку на стол, а когда на него нацелились глаза присутствующих, подчёркнуто вежливо обратился к хозяину:
— Возможно, ваша мость, в имении нужны мои услуги как лекаря? Кажется, здесь кто-то болен…
Пан Лопушинский скривил губы.
— А, васпан об этом вытье? Это жена моего арендатора Мойсея. Деньги одолжил, а не отдаёт. Плачется – прибыли нет, никто в корчму не ходит, мужики обеднели… А жена в атласе и жемчугах красуется! – Лопушинский злобно фыркнул. – Вот я и приказал посадить её в хлев в её жемчугах. Пусть сидит, пока Мойсей деньги не вернёт.
— С этим народом только так и нужно! – одобрительно отозвался Гросс. – До последнего будут жаловаться, что бедные, сенника нету, чтобы подстелить, а под полом золото прячут!
Женщина снова взмолилась.
— И всё-таки, васпан, я хотел бы осмотреть эту женщину, — твёрдо промолвил Бутрим. – Не думаю, что пан Лопушинский заинтересован, чтобы несчастная умерла в его хлеву.
Гросс раздражённо взглянул на доктора.
— Нашли кого жалеть, ваша учёная мость! Они, эти, живучие… Ничего с ней не сделается.
Лёдник опустил глаза, и Вырвич даже толкнул тихонько бывшего слугу под столом, ибо видел, что тот разгневан так, что может сорваться. Однако голос доктора звучал ровно.
— Один еврей, полоцкий аптекарь Лейба, помог мне найти путь в жизни, и когда поддерживал и учил меня, маленького, не чаял для себя корысти. Добрее и мудрее человека я не знал. Негодяи и приличные люди есть во всех народах, ваши милости. И всем одинаково больно, и одинаково не хочется умирать. Думаю, паны ничего не потеряют, если позволят мне выполнить присягу Гиппократу.
Балтромей поднял глаза и встретился взглядом с Якубом Шредером, не вымолвившим до сих пор ни слова.
— Пусть идёт… — тихо промолвил старик, и Гросс с Лопушинским покорно склонили головы. Хозяин даже поднялся из-за стола:
— Пойдёмте, доктор, я вас отведу.
Заточённая женщина, однако, совсем не напоминала похищенную принцессу. Она была толста, как дежа, с выпуклыми глазами и губастым ртом, и шарахнулась от Лёдника, попытавшегося её осмотреть, как если бы доктор был нечистой силой. Проклятия и унизительные просьбы чередовались у сударыни абсолютно нелогично. Насколько можно было понять из её безостановочной речи, где перемешивались слова нескольких языков, корчмарка просила отпустить её к деточкам и любимому мужу, сетовала, что нет денег отдать долг, тут же бранила мужа, не могущего те деньги заработать, и давно выросших деточек, лодырничающих вместо того, чтобы помогать папочке и мамочке в благородном корчмарском ремесле, а также горячо заверяла, что вот-вот умрёт от страданий… Лёдник вынужден был признать, что жизни пленницы пока ничего не угрожало – голодом не морили, ночи тёплые, но предупредил, что у женщины ревматизм и несварение.
Пить лекарства, предложенные худым клювоносым пришельцем, корчмарка отказалась с такими криками, будто её собрались травить. Пан Лопушинский язвительно усмехнулся:
— Ну что, пан доктор, удовлетворили своё любопытство? И стоило тащиться сюда из-за стола? На моей стороне правда, ваши мости. Мойсей принёс половину долга, значит и другую найдёт. Посидит баба. Не развалится.
Пранцысь Вырвич смотрел на женщину, сидящую на сене в бархатном платье цвета спелого каштана и чепце с белоснежными кружевами, ему и жаль было её, и раздражали крики.
— И сколько корчмарь вам ещё должен? – спросил Лёдник хозяина.
— Пятьдесят дукатов, — ответил Лопушинский. – И ни шелега не уступлю. Не потому, что денег жаль – а чтобы проучить мерзавца. Чтобы в другой раз мошенничать побоялся.
Под униженные заверения Мойсеихи насчёт того, что таких денег они с мужем никогда не держали в руках, паны вернулись в дом. Чёрные сосны уныло пели шуршащую колыбельную, под которую не то что засыпать – умирать не хочется.
Ночью Вырвич слышал, как Лёдника звали к пану Шредеру, тому снова стало худо – и куда тащат такого искалеченного? Да и крики запертой корчмарихи будили несколько раз. Баба имела действительно железное горло, так как даже не охрипла от эдакого напряжения. А утром, серым, как выцветшая на придорожном кресте тряпка, прежде, чем сесть в поданную прямо к крыльцу карету, куда уже посадили таинственного калеку, Лёдник протянул хозяину тяжёлый мешочек:
— Пятьдесят дукатов, ваша мость. Я заберу женщину.
Прантиш придержал его руку:
— Я в доле… Пополам.
Доктор немного подумал и кивнул головой.
Пан Лопушинский вытаращил на гостей заспанные глаза:
— Заверяю ваши мости, что от её мужа вы прибыли не получите. Мойсей жадоба, каких поискать. На пару с женой сколько с пьяных лишнего содрали…
Лёдник не отвёл глаз.
— Бог всем судья. Прошу васпана отпустить узницу.
Лопушинский пожал плечами и взял мешочек.
— Только потому, что не хочется обижать вашу мость. Не мог и представить, что Мойсеиха будет иметь рыцарей-защитников. Но чего на свете не бывает… Пане Коханку вон любит толстых, чтобы за стан не обхватить. А другой мой знакомый арапку, умеющую играть на клавикордах, у Богинских выкупил, и уж так влюбился…
Бывший алхимик на подначки не ответил, промолчал и драгун… Мойсеиха выбежала из хлева, смешно переваливаясь, и даже не взглянула на своих спасителей – возможно, перепуганная да наоравшаяся, просто не соображала, что и почему происходит. Когда корчмариха пробежала между мраморными Артемидой и Минервой, дворовый мальчишка заливисто свистнул вослед, и женщина, подобрав подол бархатного платья, к которому прилипло сено, припустила ещё быстрее.
Пан Лопушинский только криво улыбнулся вслед своим гостям: он явно посчитал драгуна и доктора какими-то дураками. Обойдётся цыганская свадьба без марципанов. Когда отъехали от Чёрных Сосен, обогнав корчмариху, ломанувшуюся возможно подальше в придорожные кусты, чтобы пропустить карету, Гросс высунулся из окошка, обмерил глазами чёрную фигуру Лёдника:
— Лучше бы васпан отдал те деньги нищим у церкви. Эта баба даже спасибо вам не сказала.
Доктор и головы не повернул, сидя на коне.
— Такие поступки совершаются не ради благодарности. У меня была возможность оплатить мой личный долг – и я это сделал. А счета будут не здесь…
Гросс хмыкнул и спрятался в карете. Прантиш, не чувствовавший от уменьшения веса своего кошелька радости, тоже не выдержал, чтобы не высказаться:
— И всё-таки, Бутрим, не понимаю тебя. Женщина же не умирала. Не у них заняли и не отдавали – а она с мужем виноваты! А баба какая мерзкая… Почему мы должны были выплачивать долг корчмаря?
Туман стелился в лощинах, будто целая стая зайцев взялась варить пиво. Лёдник грустно смотрел вдаль.
— Конечно, легче спасать людей, приятных нам. Благодарных, красивых… Чтобы нас другие за это похвалили, чтобы всё выглядело разумно. А кому был приятен я, чумазый, дикий, некрасивый мальчишка, привыкший, что если кто-то рядом подымает руку, то чтобы ударить, а не приласкать? Потому и силился успеть сделать гадость сам. Первое, что я учинил, когда попал в дом к дядьке Лейбе, куда меня привёл его друг и мой воспитатель Иван Ренич – постарался незаметно перемешать все дьявольские порошки. Как же, я находился в доме иноверца, врага! А дядька Лейба только посмеялся, искренне так, по-доброму, сказал, что из меня непременно получится хороший алхимик. И показал несколько… эффектных взаимодействий между веществами. С маленькими взрывами.
Лёдник немного помолчал, опустив голову, из нависших серых туч посыпались холодные капли осеннего дождя, мелкие, как инфузории.
— Мне приходилось лечить людей, уверенных, что я приношу им вред. И когда мне, хорошо попотев, удавалось поставить такого на ноги, он всё равно считал, что выздоровел вопреки мне. Но, поверь, если бы я ради спасения такого человека делал меньше усилий, чем ради благодарного, я как доктор ничего бы не стоил… И как человек тоже. Я видел, как во время эпидемии обезумевшая от ужаса толпа разрывает на куски лекарей, рискующих жизнью, чтобы остановить поветрие… Я тогда уцелел – и лечил снова. И теперь – мы могли помочь, и помогли. Об этом никогда не нужно жалеть.
А потом случилось то, ради чего, кажется, доктора с драгуном и нанимали… Карету остановил разъезд россейцев. Солдат десять во главе с офицером – не так много, чтобы всё выглядело безнадёжным, но многовато, чтобы надеяться на лёгкую победу. Офицер пояснил, что, согласно договору императрицы и польского короля, они имеют право отыскивать и возвращать в Россию беглых крепостных и жолнеров.
— Нет ли здесь российских подданных?
Офицер внимательно изучал лица путников, так и целясь заглянуть в карету, и напоминал специальную собаку гетмана Браницкого, обученную искать в здешних пущах чёрные трюфели. Пан Зигмунт Гросс вышел на дорогу. Прямо в грязь, под дождь. Вырвич смотрел и не узнавал властного, сумрачного пана. Заурядный облик его просто сиял радостью, как от встречи с дорогими гостями, фигура уменьшилась, ссутулилась… И голоса не узнать: такой мягкий, немного неуверенный – в голову не могло придти, что такой может врать. Гросс с низким поклоном подал офицеру подорожную:
— Пусть пан не сомневается – мы искренне любим нашего нового короля, пусть ему даст Бог здоровья на долгие годы, так же и её императорскому величеству императрице, мудрое правление каковой является образцом для нас…
Теперь Пранцысь был уверен, что их спутник действительно иезуит, и высокого полёта – так искусно превращается из волколака в овцу… А пан Зигмунт, жалостливо рассказав о страданиях безобидного старого пассажира кареты и необходимости посещения святых мест, ткнул пальцем в профессора:
— Вот, сопровождает нас сам доктор Балтромей Лёдник из Вильни, он православный, наш единоверец, и близкий друг графа Рязанцева. Пан доктор посещает приход разрушенной Виленской Свято-Духовой церкви, содержит госпиталь при ней… А это его ученик, пан Вырвич, тоже защищает дедовскую веру и наши святые церкви, насильно обращённые в позорное униатство.
Вырвич с удивлением понял, что Гросс пытается выдать себя со Шредером за истых православных верующих, даже потерпевших от гонений… И ему это отлично удаётся. А когда офицер всё-таки заглянул в карету, и Прантиш подсмотрел из-за его плеча, удивился ещё раз: пан Шредер сидел, закинув ногу на ногу, и улыбался немного устало, но тоже искренне – аккуратная шляпа, парик, серый камзол с переливами, напудренное лицо, нарумяненные щёки: эдакий дедушка, ему бы у камина сидеть, да внукам сказки рассказывать.
Между тем кто-то из жолнеров узнал виленского доктора, и офицер вежливо обратился к нему:
— Пан Лёдник, рад познакомиться с вами лично. Мы ищем не только беглых мужиков, но и преступников более высокого ранга. Один из них с помощью заговорщиков убежал аж из Шлиссельбургской тюрьмы. Он лет шестидесяти, светлые глаза, невысокий… А главная примета – красный шрам через всю левую щёку. За разоблачение преступника назначена большая награда… Вы же не стали бы скрывать врага государства, доктор?
Офицер бдительно наблюдал за Лёдником. Тот оставался спокойным.
— Вы сами назвали меня доктором. Я не вмешиваюсь в политическую борьбу. Моё дело – лечить.
— Что ж, это заслуживает уважения, — офицер, помедлив, поклонился и махнул рукой жолнерам. – Пусть святой Николай защищает вас в дороге.
Когда российский отряд исчез за поворотом, Лёдник заставил кучера остановить карету и решительно сел в неё – с таким злым лицом, что возражать было неразумно, это осознавал даже Зигмунт Гросс. Пранцысь влез следом, совсем зажав Гросса в угол.
–Ну что, будем объясняться? – устрашающе вежливо промолвил Лёдник. – Меня нельзя обмануть каплями дурмана, хирургическим удалением шрама и православным знаком креста. За кого мы с паном Вырвичем имеем сомнительную честь рисковать жизнью, а, уважаемые адепты Одена Иисуса? Я, знаете, достаточно часто играл со смертью, но каждый раз знал, ради чего.
— И не стоило ли действительно сдать государственного преступника властям – имею основания предполагать, что полученная за него награда будет не меньшей, чем та, что предложил нам пан Юдицкий, — угрожающе прибавил своё Прантиш.
Пан Гросс вопросительно глянул на Шредера, который лежал, откинувшись на бархатную подушку, так что его лицо почти скрывалось в тени. Похоже, Гросс прочитал, что необходимо, по лицу старика.
— Я понимаю ваше беспокойство, панове, — промолвил он. – Вы уже знаете, что пану Шредеру, несмотря на уважаемый возраст, не так давно пришлось испытать немало страданий. Заверяю вас, если он снова попадёт в руки тех, от кого мы пана с огромными усилиями освободили, ему придётся познать страдания ещё худшие. Хотя никакого преступления – Пан Иисус мне свидетель – он не совершал.
— В тюрьму и на дыбу приводят не только преступления, дорогой пан Лёдник, — тихо промолвил Шредер, обращаясь только к доктору, что Вырвича немного обидело. – Губит нас просто владение какими-то знаниями, доверенная нам тайна. Ad notanda (Следует заметить. Лат.), вам это хорошо известно, пан доктор.
Лёдник опустил глаза.
— Да, это мне хорошо известно, пан Шредер. И должен сказать, что не хочу более иметь никакого отношения к тайнам, за кои политики готовы скосить, как траву, тысячи невинных жизней.
Карета снова начала подпрыгивать на корнях, за окнами стемнело – густой лес не пропускал даже скромного света.
— Мы не выбираем наши пути, пан Балтромей, — промолвил старик. – Нам только позволяется думать, что мы вольны в этом выборе. Книгу судеб написали задолго до нас, и чернила с её страниц, как в обычном палимпсесте, не счистишь. Я никогда не спорил, когда мне давали особенно сложное и опасное поручение, ибо надеюсь на Божью волю. Вы правильно догадались, я бывал в Томашове и знал магистра Габриэлюса, вашего бывшего учителя. Правда, особенно сердечной дружбы у нас с ним и его сподвижниками не получилось, — пан Шредер глянул на пробитую ладонь. – Вместо того, чтобы заполучить от магистра определённые бумаги, я был вынужден перед реликварием святого Фомы доказывать, что я не богохульник… Вы, пан Лёдник, как я понимаю, тоже отчитали там покаянный канон, насадив руки на гвозди. Для человека, владеющего способностями к концентрации и к изоляции болевых ощущений, это не так сложно. Зато мне удалось собрать достаточно свидетельств о кощунстве самого пана Габриэлюса, чтобы его через какое-то время лишили званий и выслали из города, а ведьмаков, кормившихся при нём, отправили под надзор святой инквизиции. Это было нелёгкое дело, пан Балтромеус, — усмехнулся старик. – Я рад, что среди тех несчастных не оказалось вас. Жаль было бы допрашивать и вешать такого талантливого человека.
Прантиш и доктор переглянулись, оба осознали, что этот искалеченный старик без колебаний мог сам калечить и убивать тех, кого считал врагом “единственной истины”… И заниматься этим ему, наверное, приходилось.
— Ну, ну, не пугайтесь, — мягко промолвил иезуит. – Вы же не могли не догадываться, когда попали в Академию, основанную нашим орденом, что о вас узнают всё… И я знаю, что вы, доктор, отказались от магии и алхимии. Но ваш путь, аmicus meus (Мой друг. Лат.) – быть в центре политических событий и поиска великих реликвий. Хотите вы того или нет. Поэтому сейчас – просто выполните свою работу, не пытаясь узнать больше, чем нужно, постарайтесь поддержать во мне жизнь и ясный ум, пока я не выполню то, что должен… Даже если вам придётся употребить что-то из арсенала запрещённых умений. Мне такое не дано, а вам – да, не отрекайтесь… Грех я возьму на себя. Проводите эту карету к Гутовскому монастырю… А дальше – вы свободны. Обещаю, что вашу кафедру, пан Балтромей, в Академии трогать не станут, а пан подхорунжий вскоре получит звание поручика.
Это обещание, однако, Вырвича не обрадовало.
— А если бы жолнеры всё-таки нас заподозрили… Что? Безнадёжная драка?
— Не такая уж безнадёжная, — откликнулся Гросс со зловещей улыбкой. – Я отвечаю за безопасность пана Якуба, а мне приходилось бывать и на более горячей сковородке. И вас не просто так нанимали, панове. Мы хорошо знаем, на что вы вдвоём способны. И на что не способны – например, отдать старого человека на пытки. Что косвенно подтверждает ваш поступок с выкупом еврейки.
Дорога из Вильни в Менск была наезженой и густо усаженной корчмами… Зато и шпиками. Карету перехватывали ещё дважды, на этот раз жолнеры королевского войска. Один раз – за Красным, проверили документы, убедились, что у старика в карете на щеке нет шрама, и глаза не светлые… Теперь пан Гросс крестился, как правоверный католик, призывал в свидетели Матерь Божию Ченстоховскую… Потом путников проверяли на въезде в город – здесь уже понадобился авторитет Прантиша Вырвича, так как в карауле был драгун, служивший раньше в его хоругви. Прантиш и молодой офицер с ухарскими усами – Вырвич подобных так и не отрастил – обменялись последними новостями о своих полках, военном начальстве…
И неумолимо накручивалась нить судьбы на клубок, удерживаемый чей-то костлявой рукой, и мрачнел полоцкий алхимик, созерцая серое небо над серым Менском, и бормотал:
— Черты, изображающие радугу, образуются из сочетания красок, а именно киновари и виридоновой, а также виридоновой и фолиума, а также фолиума и охры, а также менеска и охры, а также киновари и фолиума…
И название краски “менеск”, используемой мастером при рисовании радуги, из Книги тайн Теофила, было в этих местах именем древнего мельника, чья мельница свободно передвигалась по берегам Свислочи, и молол Менеск между жерновами камни, и пёк из каменной муки будущее белорусов…
И когда хорошо стемнело, путники поселились в домике за Троицким предместьем, небольшом, но каменном, в два этажа. Прислуга в доме снова не задавала никаких вопросов, гостей ждали комнаты и ужин.
Вырвич смотрел через круглые стёклышки в свинцовых окаёмках застеклённого окна, и вспоминал, как когда-то так же разглядывал Менск – с башни монастыря бернардинок, а рядом была панна Полонея Богинская, заносчивая и весёлая… Тогда виднелся, считай, весь город – а теперь, сквозь тусклую слюду можно рассмотреть разве что серебряную полоску реки вдали, прерывающуюся чёрным силуэтом полуразрушенного Троицкого монастыря.
Город, что не запомнил за волю полегших героев,
Будет вновь разрушаться, и ржой обернется сталь.
Тут на могилах корчмы, базары и судьбы строят.
А летописи напишет оплаченный щедро враль.
Прантиш, торопясь, царапал на помятом листе карандашом неровные строчки – Лёдник приказал пииту всегда иметь при себе карандаш и бумагу.
…Город, что выплывает из дымки былых столетий,
Словно корабль утонувший, без паруса и руля,
Нанял новых матросов, а те, что остались в Лете,
Что стали травой морскою – помнит только волна.
И я иду по брусчатке, как по палубе скользкой,
И знаю, настанет время – и я соскользну с нее.
А город и не заметит, и только пьяный чиновник
В стопку другую положит завещанье мое.
Записанный стих всегда напоминал Вырвичу пойманную рукой бабочку – будто бы то же существо, что порхало над тобой, восхищая сияющей красотой, но ведь – смяты крыльца, стёрта пыльца, и нет жизни… Но полоцкий Фауст строго запретил драгуну уничтожать результаты вдохновения, как у того было в обычае, и исписанный лист после некоторого колебания автора отправился вместе с другими в потайной карман камзола.
Вырвича и его бывшего слугу поселили в разных комнатах – собственно говоря, на втором этаже домика, точнее, мансарде, только и были эти две комнатки. Это можно было расценивать как особенное уважение, а можно – как попытку лишить не до конца надёжных наёмников возможности переговариваться и следить за другими обитателями дома.
За стеной утихла вечерняя молитва, отчитанная Лёдником… Горожане погасили огни. Наверное, молодому драгуну полагалось сладко и крепко уснуть – одно из правил военной науки учило, что на войне нужно любое затишье, минуту безопасности использовать, чтобы поспать, неважно, где ты находишься, в мокром окопе или в захваченном вражеском дворце. Но Прантиш помнил и правило науки шпионской: никогда не ослаблять внимания, даже когда под ангельское пение уложат на мягкие перины. Поэтому и услышал осторожные шаги по деревянной лестнице и тихий стук в дверь Лёдника. Доктор, тоже не пренебрегающий шпионской наукой, двери открыл сразу же.
— Вас ждут у пана Шредера, ваша мость, — прозвучал голос Гросса. – Возмите с собой все лекарства и инструменты.
Понятно, тут же появился в полной экипировке и Прантиш. Лёдник даже не пытался не взять его с собой.
Шредер, немного более бледный, чем обычно, сидел на кровати в гостиной с закрытыми ставнями и большой печью, обложенной голландской плинфой с синими домиками на белом фоне.
— Пан Лёдник, вы должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы в ближайшие несколько часов я чувствовал себя более крепким и избавленным боли – мне придётся делать физические усилия, ходить, нагибаться… Употребляйте всё, что знаете – только чтобы не помутить сознание.
— Это опасно, — предупредил Балтромеус. – У вас слабое сердце, и стимуляторы надорвут его. Потом вам станет ещё хуже.
— Неважно, — с улыбкой промолвил старик. – Мне нужны всего несколько часов.
— Вы понимаете, что просите почти невозможного? – мрачно уточнил доктор. – Я не чудотворец. Никакие лекарства не подействуют мгновенно. Даже для временного первичного эффекта…
— И всё-таки попробуйте. Мы подготовили кое-что, вам возможно понадобится, — Зигмунт Гросс распахнул шкаф из чёрного дерева, похожий на исповедальню, так как его украшали вырезанные на дверце кресты и черепа. На полках красовались стаканы и пузырьки с настоями и порошками, букетики сухих трав и даже огромная банка с пиявками, шевелящимися в мутной жидкости, как грешные души в аду. На столике рядом с кроватью поблескивали все инструменты фармацевта, от самых чувствительных весов до деревянной ступки с серебряным пестом.
— Начинайте, ваша мость.
Лёдник перекрестился, прочитал короткую молитву святому Пантелеймону, снял камзол, подвернул рукава рубахи и скомандовал Вырвичу:
— Подай драконову кровь…
И работа началась. Прантишу даже радостно сделалось – будто возвратились былые времена, когда он студентом Виленской академии помогал Лёднику в лаборатории, терпеливо толок зелье, смешивал вещества, ну и потрошил трупы, хоть последнее занятие приятных воспоминаний не вызвало…
Сколько лекарств влил Лёдник в старика за час – Прантиш устал считать. Обезболивающее, стимулирующее, сердечное, кроветворное… Некоторые лекарства Вырвич узнать не мог – но, судя по фанатичной физиономии Лёдника, тот всерьёз увлёкся “интересным экспериментом” и что-то сочинял на ходу.
Старик терпел издевательства над своим организмом стоически, хотя его бросало то в жар, то в холод. Лицо его порозовело, глаза, теперь изначального серого цвета, заблестели, как в лихорадке. В конце профессор устроил старому иезуиту специальный массаж, втирал в его суставы мази, потом нажимал на особые точки на руках, на шее, на голове… Пан Шредер немного морщился – видимо, было больно… Но терпел. Ибо лучше других понимал по собственным ощущениям – то, что сейчас делает Балтромей Лёдник, во всём мире способны сделать единицы… Если бы птицу каландер из “Бестиария” Леонардо да Винчи поднести сейчас к Шредеру, она бы точно не отвернулась, как делает около смертельно больных.
Наконец бывший алхимик отошёл, пот стекал по его худому лицу. Лёдник смотрел на пациента критично и устало-довольно, как скульптор, закончивший лепить из глины очередное творение. Пан Шредер встал, помахал одной рукой, другой, согнулся, выпрямился…
— Это действительно чудо!
Лёдник скептически покрутил головой.
— Это наука и временный эффект. Когда он закончится, вы, возможно, не сможете встать. Ab posse ad esse consequentia non valet.(Может быть следствием не истинным.– лат.) Мне нужно идти с вами?
Зигмунт Гросс поспешно помог старику надеть тёплый бархатный кафтан на вате.
— Нет, доктор, больше не станем вас беспокоить. Благодарим. Вы же сейчас еле на ногах держитесь. Отдыхайте. Завтра утром мы все отправимся в дорогу.
Лёдник протянул Гроссу бутылочку с красноватой жидкостью.
— Тогда возьмите, ваша мость… Если пану Шредеру станет плохо, дайте ему отпить двадцать капель… Не больше. Если не поможет, но не раньше, чем через десять минут, ещё десять капель. Запомнили?
Гросс взял пузырёк… И Вырвич не выдержал:
— Я могу проследить за правильностью употребления! Если ваши мости возьмут меня с собой…
Доктор сердито сверкнул глазами на шустрого ученика, который всё время искал приключений на свою русую голову, но возразить не успел. Пан Гросс с той же безразличной физиономией вежливо промолвил:
— Ваше предложение – честь для нас, уважаемый пан Вырвич, но мы не можем взять с собой кого-то ещё, искренне просим у вашей милости извинения. Тоже отдохните после дороги, я прикажу принести в вашу комнату кувшин лучшего вина.
Прантиш только губу прикусил от разочарования.
Вино действительно принесли, но пить Прантиш не стал. Мало что подмешали хитрецы. Приключение и тайна были рядом, и влекли, как оборотня полная луна.
Драгун лежал под одеялом не раздеваясь и напряжённо прислушивался: в доме явно появилось много людей – на первом этаже слышались тихие голоса, скрипели двери. А вот шаги и во дворе.
Нет, выдержать невозможно… Отвага или мёд пьёт, или кандалы трёт. Остаётся надеяться, что Лёдник действительно вдрызг истощён – Вырвич видел, чего ему стоил “энергетический массаж”, и спит не так чутко, как обычно. Бывший школяр привычно, как учинял, выбираясь ночами на проделки из конвента иезуитского коллегиума, быстренько смастерил изо всего, что попало под руку, “тело” под одеялом, тихонько протиснулся за двери и скользнул вниз по ступеням. Чтобы ни с кем не столкнуться, пришлось нырнуть под лестницей в чулан, предназначенный для прислуги – там пахло пивом и кто-то сопел, лёжа на сеннике, видя наверное во сне десятый счастливо осушенный кубок. Чья-то фигура приближалась к приоткрытым дверям. Дрожащий свет свечи скользнул в комнату, словно призрачный болотный огонёк. Вырвич прижался к тряпью, которое висело на вбитом в стену гвозде и излучало аромат прелой листвы.
— Нужно прихватить Базиля, — зашептались в коридоре. – Он убогий, но сильный и к тому же немой.
Сейсас же в помещение вошёл человек, закутанный в плащ:
— Базиль, вставай! Есть работа…
Для верности ткнул ножнами сабли в фигуру на сеннике и ушёл. Базиль замычал… Но не проснулся, только перевернулся на другой бок и засопел дальше. Наверное, пиво в Менске варили не хуже, чем в Вильне.
Этим Вырвич не мог не воспользоваться. Быстренько нащупал одежду, висевшую на стене… Свитка была немного великовата в плечах – к сожалению, Прантиш Вырвич не отличался богатырским телосложением, зато имелся капюшон… Его драгун сейчас же натянул на голову. Он видел вчера этого Базиля – перекошенного на бок, с опущенной головой, только один раз показались из-под башлыка запавшие глаза на круглом лице. Ничего, не узнают… Кривобокого немого сыграть не тяжело.
Во дворе собралась дюжина самых подозрительных лиц: в плащах, шляпах, башлыках, надвинутых на глаза, как у Прантиша, или с завязанными до глаз шарфами. А вот, наверное, и пан Шредер – шагает медленно, но сам, недаром Лёдник старался.
Одна из фигур остановилась у фонаря, человек поднял руку, распахнулись полы плаща… Синий жупан с серебряным литым поясом, пуговицы с вензелем Кароля Радзивилла… Альбанец! Один из приближённых Пане Коханку! В бой под штандартом своего пана, где можно погибнуть, альбанцы всегда одевались именно так, значит, и теперь ждёт опасность. Вырвич осмотрелся: вон у того тоже из-под плаща торчит сабля, блестит серебряный пояс… Значит, дело будет для Радзивилла!
— Иди за нами, делай что скажу, тогда завтра позволю на весь вечер пойти в корчёмку, — шепнул Прантишу один из людей, возможно хозяин дома, где они остановились. Лже-Базиль покорно склонил голову, перекосился набок…
Фигура за фигурою исчезали в направлении руин Троицкого монастыря, будто призраки монашек, живших здесь когда-то, собирались на службу. Последний человек вёл коня, запряжённого в повозку, так что возникало сходство и с тайными похоронами. Тьма стояла – как в заброшенной печи, только первый из идущих, кажется Гросс, подсвечивал путь фонарём “летучая мышь”, дающим неширокий луч… Где-то подала голос собака, но не злая, не испуганная, а так, сонливо-деловая: вот видите, я настороже, я при деле… Закричали вороны в поредевших кронах чудом уцелевших после недавнего пожара тополей. Прантиш прошёл вместе со всеми в прогал ворот. Потом по ступеням – вниз, в подземелья, над которыми сохранились только остатки храма. Ноги скользили по мокрым камням. Пана Шредера поддерживали под руки, но двигался он достаточно бодро.
Вырвичу было не по себе, как рождественскому гусю, вдруг сообразившему, что за питание изюмом и орехами нужно расплачиваться. Видно было, что вход в подземелья недавно расчищали: в стороне лежали кучи щебня. А в каменных плитах пола угадывалась дверь. Прантиш вспомнил, что такую же он видел в подземельях монастыря бернардинок, где им с Лёдником приходилось скрываться, и вела она в подземные ходы, обьединяющие все храмы города с ратушей. Этими крысиными владениями они ходили тогда как раз в ратушу…
Но здесь пришлось спускаться намного глубже, чем в базилианском монастыре, крутые каменные ступени всё не заканчивались – хорошо, что сейчас зажгли сразу несколько фонарей, а то шею свернуть было, как клёцку прожевать. Да, без мастерства Лёдника Якуб Шредер и с одной такой ступени не сполз бы… Да ещё влажный камень – вода просто течёт по стенам. Ну, да, поблизости же река… И если ходы ведут в центр города, значит, сейчас придётся идти под речным руслом. От осознания этого Прантиш стал мокрый, как и те стены. Добровольно лезет в ловушку… А при себе ни сабли, ни пистолета… Только кинжальчик сунул за пояс. А у других вон – и оружие из-под плащей выпирает, и всяческие железные инструменты… Нет, Лёдник прав, когда бранит ученика за легкомыслие.
Но когда спустились в проход с высоким сводчатым потолком, достаточно широким, чтобы разойтись двум человекам, даже таким толстым, как покойный король Август Сас, предчувствие приключений и жадное любопытство вытеснили всяческий страх. Прантиш надвинул глубже капюшон и заковылял за компанией.
Какое-то время путь уходил довольно круто вниз. Там, где с потолка не капало, а лилось, видимо, и несла свои воды Свислочь. Потом стало суше, путь повёл наверх. Зато появилось много ответвлений. Вот здесь и распоряжался пан Шредер, шедший вместе с Гроссом. Старик останавливался, подносил фонарь к стенам, выискивая одному ему известные знаки… Временами в темноте бокового хода мерещились чьи-то красные глаза… Никто не разговаривал, ничего не спрашивал. Даже Шредер показывал дорогу только жестами. Поэтому когда он вымолвил: “Здесь!”, слово под влажными сводами прозвучало, как гром.
Но “здесь” означало глухую кирпичную стену, в неё упирался один из боковых ходов. Как говорят, пришёл, замок поцеловал да ушёл.
Тем не менее никто не удивился, вперёд вышли двое и по знаку Гросса, державшего фонарь, начали клевать стену тяжёлыми чеканами.
Вырвич не успел заскучать – кладка была в один кирпич – как вскоре вместо стены зиял пролом, а за ним виднелось продолжение проземелья.
Нарушители покоя крысиного царства один за другим пробирались в новый ход. Потом была ещё одна стена, и её следовало разбить…
И вот…
Пан Якуб Шредер начал читать молитву, слёзы текли по его морщинистому лицу – как у человека, наконец выполнившего давно взятую на себя присягу и теперь свободного…
Вырвич сунулся в пролом… От блеска пришлось прижмуриться. Золотые подсвечники, потиры, реликварии, украшенные драгоценными камнями…
В голове наконец сверкнула догадка.
Золото иезуитов!
Случилось это в 1701 году. Тогда царь Пётр Первый со своим войском занял Менск… И очень подружился с иезуитами – поскольку был склонен ко всему новому, к наукам и искусствам. Его впечатлила система обучения в коллегиуме, подумывал даже что-то перенять… Но между тем царскому союзнику Августу Сильному дали жару, впереди россейцев ждало отступление, и настроение царя переменилось… Российские войска, а там было много калмыцких отрядов, начали грабить дома и храмы. Не различая католических, униатских и православных. Тогда иезуиты и спрятали свои сокровища в подземельях. А потом пришло большое поветрие, смерть забрала последних свидетелей…
Но, очевидно, не всех. Пан Якуб Шредер – или как там его в действительности – хранил тайну сокрытия золота. Навряд ли он сам присутствовал при событиях шестидесятилетней давности – но кто-то ему передал секрет. Теперь было понятно, почему старика пытали, и из-за чего на него охотились и россейцы, и люди короля… Судя по увиденному, здесь хватит золота, чтобы развязать ещё одну войну. И воспользоваться им предназначено Пане Коханку, самому могучему оппоненту Понятовского и россейцев.
Гросс вышел из сокровищницы с небольшой шкатулкой в руках, его плоская физиономия сияла как намасленный блин.
— Есть! Стояла сверху, накрытая ризой.
Шредер опёрся рукою о стену.
— Покажи!
Зигмунт открыл сундучок и достал оттуда завёрнутое в когда-то белое полотно что-то непонятное: потускневшая золотая полоска, скрученная в неровную восьмёрку и потом ещё раз перегнутая пополам, со следами креплений, где, наверное, когда-то были драгоценные камни, со странным орнаментом. Будто дракон пожевал.
Шредер дрожащими пальцами перекрестился, потом вдруг прикоснулся к золотому свёртку губами.
— Спасибо Тебе, Боже!
Гросс целовать найденное не стал, просто спрятал шкатулку за пазуху. Реликвия какая-то, видимо.
Прантиша грубовато толкнули в спину.
— Что стоишь, как болван, иди носи!
Вырвич покорно принял от здоровенного спадара с надвинутым на лицо капюшоном небольшой, казалось бы, ящик… И едва не упал с ним на пол: возможно, немой слуга Базиль и привык таскать такую тяжесть, но шляхтич Вырвич эдак надорвётся! Прантиш потряс свою ношу: кажется, монеты. А представить, сколько идти к выходу!
Но появилось несколько ручных тележек, наверное, заранее приготовленных в подземельях, и дело пошло споро. Вырвич успел два раза отвезти гружёную тачку к выходу – там уже ждали трое, передавая друг другу ценности вдоль лестницы…
Когда Прантиш возвратился последний раз, он заметил, что пан Шредер, так и стоящий у входа в сокровищницу, рядом с фонарём, зажмурил глаза и тихо оседает на пол… Похоже, случилось то, о чём предупреждал Лёдник: закончился временный эффект лекарств, и сейчас больному станет ещё хуже… Почему же Гросс медлит дать микстуру?
Прантиш нагружал свою тележку, делая вид, что целиком поглощён этим процессом, а сам бдительно присматривался. Гросс стоял над стариком, на его лице можно было даже прочитать некоторую растерянность. Рука полезла в карман кафтана, нерешительно достала бутылочку с красной жидкостью, но пузырёк вернулся на место. Между тем последние кладоискатели покидали подземелье. Только Прантиш догружал серебрянные тарелки. Гросс осмотрелся, потом наклонился над паном Шредером, тронул за щёку – голова старика безвольно опустилась на плечо. Видимо, Зигмунт решил, что Шредеру осталось недолго. Выпрямился и торжественно, как над свежей могилой, проговорил:
— Вы выполнили свою миссию, учитель. Золото послужит нашим целям. Благодарю вас. Теперь я не должен вмешиваться в Божью волю. Простите. Все мы – гончие Бога. Аминь.
Повернулся и пошёл, покосившись, правда, на фальшивого немого, нагружающего себе в сокровищнице тележку и будто бы ничего не понимающего в ситуации.
Вот же сброд!
Старик выдержал нечеловеческие страдания, чтобы золото досталось вам ради ваших интриг, и теперь может спокойно умирать! Позор!
Вырвич вывез из сокровищницы гружёную тележку, с прикреплённым фонарём, и припустил за Зигмунтом Гроссом. Коляска гремела, подпрыгивая на камнях, и едва не сбила пана Гросса. Тот обругал неуклюжего слугу, прижавшего его к стене и вывалившего половину добра на пол, и двинулся дальше.
Прантиш, бросив тележку, бегом вернулся назад. Пан Шредер всё так же сидел, закрыв глаза, только слышно было неровное дыхание. Вырвич поднёс фонарь ближе: губы старика посинели… Драгун вынул пробку из пузырька, ловко украденного из кармана мерзавца Гросса, отмерил двадцать капель… Пришлось постараться, чтобы заставить иезуита проглотить лекарство.
Какое-то время ничего не происходило – Вырвич даже думал, что придётся отмерить ещё десять капель. Но талант Лёдника не подвёл. Губы больного вздрогнули, сверкнули серые глаза, он глубоко вздохнул… Только теперь Прантиш сообразил, что находится здесь тайно, в облике немого Базиля… Но позно: старик узнал шустрого драгуна. Снова закрыл глаза и тихо проговорил:
— Божья воля проявляется чрез те инструменты, кои Он избирает. Спасибо, пан Вырвич.
Прантиш откашлялся.
— Что теперь? Возможно, пану лучше не показываться на глаза этому… Гроссу?
Старик вдруг невесело засмеялся.
— Пускай ваша милость за меня не боится. Всё действительно в Божьей воле.
Встал, держась за стену, провёл рукой по взопрелому лбу.
— Ваш старший друг – настоящий гений. Думаю, что смогу дойти до выхода. Правда, второй порции таких чудо-лекарств, пожалуй не переживу.
И пошёл помаленьку, не выказывая никакого возмущения поступком Зигмунта Гросса, назвавшим его ещё и учителем. Ничего себе ученичок!
Прантиш поровнялся со своей перевёрнутой тележкой, быстренько побросал в неё подсвечники и тарелки и вскоре догнал Шредера, шедшего медленно, держась за стену. Впереди послышались голоса. Старик оглянулся на Прантиша и проговорил:
— Не принимайте близко к сердцу, ваша мость, явления, смысла которых не понимаете. Я мог совершить – и совершал – то же, что и Зигмунт, когда цель требовала жертв. Но здесь не должно быть изъянов. А Зигмунт сплоховал. Поспешил, — на лице старика появилась улыбка, но весёлости в ней было не больше, чем у оскаленного черепа. Похоже, у пана Гросса появятся проблемы…
А ещё быстрее они могут появиться у Прантиша Вырвича, если пан Шредер его сейчас выдаст.
Но иезуит промолчал. Только скупо улыбнулся пану Зигмунту Гроссу, выказавшему сдержанную радость от того, что учитель по воле Божьей оправился. А против той воли не попрёшь. В свою очередь пан Шредер будто забыл, что ученик покинул его умирать, будто такой поступок был сам собой разумеющимся. Оставалось надеяться, что убивать своего учителя непосредственно пан Зигмунт не имеет права. Вырвич подсмотрел, какими спокойными улыбками и взглядами обменялись иезуиты, и в очередной раз подумал: ну и гнездо гадючье… Что за люди? Будто обычные человеческие чувства для них не существуют.
Прантиш сдал ценный груз, помог перекладывать его на повозку, потом, когда приехали на двор, должен был нагружать золотом карету, как окорок – начинкой. Всё, конечно, туда не влезло, но теперь их экипаж был добычей, стоящей короля.
В комнату удалось вернуться только под утро, оставив в чулане Базиля вонючие одёжки – немой по-прежнему сладко сопел. Драгун упал на кровать… Так работать ему не приходилось давно. Да что там – может и никогда. Таскал да грузил, аки лондонский докер. Прантиш вспомнил лондонское путешествие и вздохнул: тогда рядом была панна Богинская, и была надежда на её любовь… А сейчас – карета, набитая иезуитским золотом…И перспективы превратиться в государственных преступников. К тому же если и удасться всё исполнить гладко – не учинит ли Гросс с двумя православными наёмниками так же, как с паном Шредером? Во имя высшей цели, без злобы и без сочувствия… Вот же попали – как мыши в дёготь…
Нужно всё рассказать Лёднику… Но сил встать не было. Последнее, что запомнил этой ночью Вырвич – далёкий скулёж собаки, будто предупреждение наивным: какой бы не была длинной цепь – от хозяина не удерёшь.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. КАК ПРАНТИШ ВЫРВИЧ ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЕГИПЕТСКОЙ ПРИНЦЕССОЙ
Ежели тебе в Таро выпала карта Короля Кубков, сие весьма неплохо: встретишь хорошего помощника и советчика, ибо карточный король осушает до дна кубок проблем и несчастий, и своих и чужих. В то время, когда человек практичный стремится свою порцию уксуса и желчи выплеснуть через плечо или тайком подлить ближнему своему.
Нет, пить нужно венгерское, рейнвейн, мальвазию или шампанское вино, вошедшее последнее время в моду в Великом княжестве. А если не хватает у честного шляхтича денег на настоящие напитки – а дерут же за них, холера на тех торгашей, как с овцы на тулуп, — то всегда есть рецепты самодеятельных алхимиков. В каждом литвинском фольварке умеют приготовить из гамбургского вина мальвазию, а из берёзового сока, лимона, сахара и дрожжей – шампанское.
Правда, во дворце, куда подъезжала карета с тайным грузом, шампанское из берёзового сока точно не готовили. У хозяев хватало дукатов на всё самое лучшее. Мраморные Артемиды и Марсы белели в осенних сумерках вдоль аллей призрачным почётным караулом, дворец казался в темноте огромным, как белая гора, а карет перед парадным крыльцом понаехало, будто на элекционный сойм.
Но здесь происходил не сойм и не сеймик, где собирались делить булаву воеводы или место маршалка. Не размахивал никто воинственно саблей, выкрикивая угрозы врагам, не косились друг на друга надутые шляхтичи, собираясь вокруг своего патрона, не звучали пылкие речи… Из карет тихо выскальзывали фигуры дам и кавалеров, закутанных в домино и плащи-капуцины, но лакей не объявлял имён высоких гостей, один за другим приехавшие молча исчезали за дверью…
Когда карета, нашпигованная иезуитским золотом, подкатила ко дворцу, Лёдник тяжёлым взглядом уставился на пана Гросса. Тот вежливо улыбнулся:
— Всего только светское развлечение, пан доктор. Публичный эксперимент, вам будет интересно. Просто посидите вместе с паном Вырвичем, посмотрите представление… Получите наслаждение.
— Надеюсь, не такое, как индюшка на рождественском балу? – язвительно спросил бывший алхимик. Пан Шредер, лежащий на своих подушках, на эти слова криво улыбнулся. Гросс заговорил что-то успокоительно-вежливое…
Но настроение Балтромея не улучшилось. Вообще, с того времени, как Вырвич рассказал ему о своих ночных приключениях, профессор Виленской академии был страшно зол, еле сдерживался. Конечно, сначала доктор запереживал, что подопечный мог погибнуть, потом возмутился, что сам попал в центр чужой интриги. Сгоряча объявил, что нужно немедленно возвращать нанимателям деньги и уезжать, потому что даже в случае, если золото вывезут, вполне возможно, что от свидетелей избавятся самым банальным древним способом, прописав свинцовую диету или кровопускание непосредственно из печени.
Прантиш готов был согласиться… Но рассудили, успокоились. В интриге их всё равно “засветили” как только можно – попробуй потом доказывать, что ничего не знали, провозя через жолнеров своих подозрительных спутников. Сдать Шредера и Гросса властям или российцам – противоречит чести, к тому же появятся такие враги, что не только из Академии – из Вильни и Беларуси придётся от мести удирать. А что будет с пани Соломеей и Алесиком? Со студиозусами, которых Балтромей Лёдник готовил к докторской профессии, беспощадно школил и гонял, но ни за что бы не согласился, чтобы они имели из-за него неприятности?
Очень внимательно Лёдник выслушал и рассказ о золотой согнутой полосе, поцелованной Шредером. Доктор потребовал, чтобы Прантиш точно вспомнил, как выглядела, каким орнаментом была отделана. А когда Вырвич нацарапал карандашом какую-то запомнившуюся загогулину, доктор схватился за голову.
— Это руны, — объявил он. – Такие могут быть только на предмете, принадлежащем королю. И лучше бы я ошибался, но кажется мне, что мы снова имеем дело с реликвией, за которую сильные мира сего могут долго и ожесточённо грызть друг другу горла.
— А что же это такое? – удивился Прантиш.
— Кто знает… — мрачно сказал Лёдник. – Может быть и королевский пояс, и кусок реликвария или ризы от иконы, или даже корона.
— Да ни капельки же не похожа на корону!
— А ты представь, что золотой обруч погнули да помяли… — рассудил Балтромей.
— Так… так это же корона Витовта! – обрадовался Вырвич. Но доктор только поморщился.
– Сейчас ни одной байки о прошлом не услышишь, чтобы не упоминался удивительным образом отысканный кусок той украденной Витовтовой короны, и надоели эти россказни, как сказка о царе Додоне. Нет, васпан. Руны, что ты видел – скандинавские. Эта штука с севера, от саксов или шотландцев… В 1649 году, когда кромвелевцы аглицкому королю голову отрубили, то все короны, найденные в сокровищнице, постановили поломать да искоробить. Тогда любой бродяга мог заиметь королевскую реликвию. Ай, что гадать, как бабка на решете, лучше нам о той вещи ничего не знать.
А ещё Лёдник мрачно заявил, что скорее всего ни в какой Гутовский монастырь иезуиты ехать и не собирались, просто, когда шпики донесли Юдицкому о планах Вырвича, объявленных на все корчёмные просторы, это использовали, чтобы вернее заполучить драгуна и профессора в наёмники. От чего Прантишу стало ещё более погано – кому приятно осознавать, что его обманули как мальчишку.
Вот такой получился расклад Таро – в настоящем времени все карты перевёрнуты, а на той, что предсказывает будущее, нарисован подвешенный за ногу висельник. Даже молитва перед иконой Минской Божьей матери, писаной апостолом Лукой, не принесла облегчения. Потому что здесь же молились иезуиты Гросс и Шредер – с таким благоговением, что вспоминались старогреческие трагедии и актёры в котурнах.
А потом – вот этот визит во дворец под Менском, доставшийся в приданое Веронике Радзивилловне, дочери гетмана – покойного Казимира Рыбоньки.
Все присутствующие были с закрытыми лицами, как на маскараде. Причём и Лёднику с Прантишем Гросс выдал ещё в карете чёрные бархатные маски. Тихо – слышен только взволнованный шёпот. Сходка? Заговор? Тайное общество?
Только в полутёмном зале с небольшой, ярко освещённой факелами сценой, точнее, площадкой, устроившись на стульях в самом углу, Прантиш и Лёдник узнали, куда попали. На площадку вышел человек в белом камзоле, без маски, но по всему видно – не пан, так, полупанок, прислуга.
— От имени ясновельможных хозяев приветствую высокое панство и выражаю благодарность за честь удостоить своим посещением, оказанную вашими мостями этому дому. Но сеанс белой магии, который сейчас продемонстрирует вам всем известный магнетизёр и знаток тайных наук граф Рудольфиус Батиста, пожаловавший в это имение по пути в Варшаву, должен оправдать все надежды ваших мостей и вознаградить за дорожные тяготы.
Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит… Прантиш покосился на Лёдника: конечно, в темноте, да ещё под маской невозможно было рассмотреть докторские эмоции, но Вырвич явственно представлял, как кривится профессор, и слова “ещё один мошенник”, наверное, самые мягкие из тех, какими профессор в мыслях одаривает очередного мага. Но самому Вырвичу было очень интересно подивиться на чудеса – Лёдник, хоть кое-что умел и сам, показывать свои возможности отказывался наотрез.
Слуга низко поклонился – свет факела окрашивал белую парчу его камзола в кровавый цвет – и с некоторой дрожью в голосе объявил:
— Его мость граф Рудольфиус Батиста и его супруга, графиня Серафина Батиста!
Сейчас же по залу пробежал холодный повев ветра, огни факелов и свечей затрепыхались, пригнулись, будто в ужасе… И на сцену вышел человек среднего роста, лет за сорок, в красном камзоле, расшитом чёрными и серебряными змеями, в тюрбане, украшенном сверкающими драгоценными камнями. Черты высокомерного круглого лица были скорее мягкими, чем суровыми, только уголки рта презрительно опущены, да широко расставленные серые глаза смотрели неприятно пронзительно. В принципе, в облике человека не было ничего необычного – такого можно представить на любой ассамблее, светской беседе, напротив за ломберным столиком… Но что-то всё-таки было в чертах, что наводило на мысль о гадюках, скорпионах и невидимых взглядах, чудящихся, когда заходишь на чердак или в тёмный чулан. Человек какое-то время стоял молча, внимательно вглядываясь в зал, как полководец перед началом решительной битвы осматривает с горы войско противника. Прантишу даже померещилось на мгновение, что из глаз мага веером излучаются радужные лучи.
— В этом зале собрались смелые люди, не боящиеся заглянуть за ту завесу, где находится недоступное обычному человеческому глазу, — наконец, когда ожидание стало почти невыносимым, промолвил густым завораживающим голосом граф Батиста. – За последние три тысячи двести сорок один год я могу вспомнить только несколько десятков людей, перенесших такое знакомство безо всякого вреда для нервов. И большинство из них я встретил ещё в то время, когда был жрецом Тота в Мемфисе и меня звали Атхесенпаамон. Если кто-то чувствует, что не выдержит приобщения к тайнам, ему лучше сей же час удалиться.
Граф обвёл глазами публику. Но никто не встал с места, только дамы стали сильнее обмахиваться веерами, так что снова задрожало пламя свечей и факелов. Маг растянул губы в зловещей улыбке:
— Ну что же, я вас предупредил. Тогда сейчас перед вами покажется та, кого вы знаете под именем графини Серафины Батиста, но на самом деле мы с ней познакомились три тысячи лет назад, и была она дочерью фараона, и носила имя Семпенсентра, что значит “Разговаривающая со змеями”.
Во тьме зазвучала тревожная и нежная мелодия, кем-то наигрываемая на флейте. Но графиня не появилась, вместо неё двое слуг осторожно внесли большое зеркало в тяжёлой бронзовой раме с изображениями переплетенных змей, и поставили посреди сцены. Граф подошёл к нему – все хорошо видели его отражение, проговорил что-то на незнакомом языке, сыпнул в зеркало каким-то порошком и сразу же отскочил. Стекло помутнело, будто запотевшее, потом по нему как по воде пошли мелкие волны, а потом поверхность перестала быть ровной… Её, как ткань, натягивало что-то изнутри… Вдруг мутная поверхность лопнула как мыльный пузырь. И под визг женщин из бронзовой рамы на сцену вышла египетская принцесса.
Что это принцесса – понял бы даже деревенский пастух. Тоненькая, но высокая, с королевской статью, закутанная в золотистый шёлк, обливающий точёную фигурку. Голова горделиво откинута, на чёрных блестящих волосах – простая диадема с единственным камнем, сияющим зелёным огнём. И глаза – светло-зелёные, прозрачные, и огромные – наверное от того, что подведены чёрным.Тонкие брови, тоже подкрашенные, взлетали над ними не горделиво, а печально… Кожа не смуглая, а молочно-белая, словно светится. Черты лица тонкие, но носик совсем не такой, как на картинках с изображениями фараонов, самую чуточку вздёрнутый, ему очень бы подошли нежные конопушки, хотя какие конопушки могут быть у принцесс? Яркие великоватые пухлые губы со скромной доверчивой складкой, как у ребёнка. Но главное – что эта красота была не кукольной, а одухотворённой, казалось, что пани без слов рассказывает трагическую историю, не могущую не трогать… И движения – так плавно, так грациозно двигаться невозможно, если человек не учился балету…
И тут Прантиш осознал, кого ему напоминает египетская красавица. Ну да, она чрезвычайно похожа на крепостную актрису Михалишивну из Слуцкого театра, принадлежавшего Герониму Радзивиллу. Только у той волосы были не чёрные, а светло-русые. Прантиш с Лёдником во дворце выдавали себя за немцев, и Вырвич часами сидел на репетициях, заворожённый плавными движениями Михалишивны, и как мог, перемаргивался с ней… Правда, когда надзиратель замечал, что актриса обращает внимание в зал, ей сразу же доставалось палкой по рукам и спине. Такие уж были порядки во дворце Радзивилла Жестокого… В театр насильно забирали детей крестьян и даже мещан, и те детки болели и умирали от суровой муштры… А выжившие могли танцевать так, что восхищались даже знатоки из Европы.
Тогда Прантиш долго не мог смириться с тем, что крепостная девушка выглядит так благородно… Ведь она же затронула его сердце, а дама шляхтича должна быть родовитой!
А теперь он не мог поверить, что графиня Серафина Батиста – и есть та Михалишивна! Но чем больше всматривался, тем догадка крепчала.
Между тем посреди сцены поставили стол, накрытый длинной чёрной бархатной скатертью с вышитыми золотой нитью непонятными знаками. На столе укрепили большой хрустальный шар.
Лёдник, сведущий в подобных фокусах, выразительно хмыкнул. Похожим шаром дурил аглицкого доктора Ди его слуга, показывая духов, в частности какого-то Уриэля, так что доктор наконец потерял авторитет, жену и деньги. Прантиш это тоже отлично знал, так как пришлось побывать в Ангельщине и бороться за наследие таинственного Ди.
А когда египетская принцесса с живой змеёй на шее вместо мониста запела над шаром высоким чистым голосом, и под её руками содержимое сферы начало оживать, закружился туман, возникли непонятные образы, Вырвичу стало весело и страшно, так же, как и всем в зале, и он постарался не обращать внимания на хмыканья профессора. А граф Батиста, или как там его… Атхе… Андхер…, тут же объяснял, что именно сеньора Серафина с подсказки своей прозорливицы-змеи видит через эфиры.
А видела она многое: двор китайского императора, извержение вулкана на острове в Тихом океане, получение одним из присутствующих в зале, загадавшем на своё будущее, Ордена Белого орла – при этих словах все мужчины нетерпеливо зашевелились, но граф не уточнил личность счастливчика. А что вы хотите – это же эфиры, магнетизм, тут земному глазу до мелочей не рассмотреть. А змеи вообще в наградах не понимают, им орден менее интересен, чем дохлая мышь.
Потом шар убрали, заиграла музыка, грустная, как судьба бедного драгуна, и жена мага начала танцевать… В совершенных движениях просматривался древний Египет и царская властность… И, возможно, муштра радзивилловского театра.
Были и другие фокусы. Граф Батиста читал фразы на листах в запечатанных конвертах, на расстоянии исцелял от мигрени и прострелов…
А потом настала самая интересная часть – во всяком случае, это можно было понять по тому, как все возбудились, зашептались – ясно, что ждали момента. На сцене на уложенных железных полосах установили большой неглубокий жестяный ящик – величиной с королевскую кровать. В него аккуратно засыпали разожжённые угли, разровняли железными граблями так, что получился кусочек ада. Красный прямоугольник излучал жар, как в бане, иные зрители даже отодвинулись назад.
Сеньора Серафина уселась в кресло, мальчик-негритёнок из прислуги сейчас же опустился перед ней на колени и снял вышитые жемчугами черевички, надетые на босую ногу.
— Попрошу всех, кто желает, убедиться, что принцесса Семпенсентра не имеет никакой защиты от огня для своих очаровательных ножек, что они не намазаны специальной мазью.
Вырвич похолодел, поняв, что здесь готовится. Но принцесса чуть-чуть приподняла подол своей золотистой юбки, и всё вылетело из головы. Зрители, стремясь пододвинуться поближе к соблазнительному зрелищу, едва не попереворачивали стулья. Кое-кто действительно попёрся потрогать ножки принцессы… Та сидела, будто унизительная процедура происходила не с ней, светло-зелёные глаза смотрели отсутствующе, будто красавица вглядывалась в извержение вулкана на далёком острове.
Вырвича удивило, как это Батиста допускает, чтобы с его женой так вольно обходились, не похоже, чтобы ей это было приятно, но невольно к тоненькой фигуре в кресле неодолимая сила потянула и драгуна… Только рука Лёдника, дёрнувшая за полу, вернула к сознанию.
— Сиди! – голос доктора дрожал от презрения. – Не уподобляйся быдлу.
Это для сына полоцкого мещанина собравшаяся в зале шляхта – быдло? Но Прантиш не успел возмутиться – принцесса поднялась и сбросила золотистую юбку, оставшись в зелёных шёлковых шальварах, которые не доходили до щиколотки. А потом решительно подошла к ящику, наполненому раскалёнными углями, и… ступила на них. Зал дружно выдохнул… Прантиш даже с места вскочил – нужно спасать безумную! Тут тебе никакая магия не поможет! А принцесса затанцевала. Мелко переступая ногами, она будто плыла среди горящих углей, поднимала руки, будто собиралась взлететь, выгибала стройный стан, с лица не сходила лёгкая улыбка. Даже Лёдник приподнялся, чтобы лучше видеть… А уж особо любопытные едва носом в ящик не тыкались, насколько позволял жар…
…А королевна танцует, руки вздымает высоко…
Тонко бряцают браслеты, кружат ее покрывала
Шелка прозрачней метели, с огненным знаком Ваала…
Стан изгибается гибкий, лик неулыбчивый белый…
Флейта выводила грустную тревожную мелодию, и казалось, что это действительно владение фей.
— Она же покалечится! – бормотал Прантиш, но доктор не поддержал желания спасать.
— Угомонись, драгун. Не танцовщица здесь жертва.
Наконец сеньора Серафина сошла со своего адского подиума, опершись на руку мужа, который помог ей снова сесть в кресло и обратился к публике:
— Можете убедиться, что огонь не нанёс принцессе никакого вреда, и на её коже нет даже самых малых ожогов.
Снова, как за дармовыми марципанами, гости повалили к сцене, теперь даже дамы. Не высидел и Прантиш, проигнорировав шипение Лёдника. Драгун не осмелился прикоснуться к белой коже женщины, но рассмотрел внимательно: действительно, сеньора будто ходила не по раскалённым углям, а по пушистому ковру. Сумел увидеть лицо пани поближе. Не классическая, величественная красота, как у Соломеи Лёдник, черты неправильные, но одухотворённые, тонкие, и сейчас кажется, будто в них действительно усталость тысячелетий, а на дне прозрачных русалочьих глаз тоска, давно переставшая осознаваться чем-то излишним, мучительным – так смола постепенно превращается в янтарь, и, смотря на сияющий камешек, невозможно представить, что он когда-то был липкой жидкостью, которой сосна залечивала свои раны.
И всё-таки эта принцесса – Михалишивна!
Сеанс египетской магии закончился, и можно было только гадать, сколько отвалил каждый из присутствующих за право посидеть в этом зале, заглянуть в хрустальный шар, обещающий кому-то орден и показывающий Китай, а главное – чтобы посмотреть танец на огне изысканной красавицы и потрогать её ножки…
Прантиш, конечно, догадывался, что сейчас Лёдник ему подробно объяснит, как именно дурачит головы доверчивой публике шарлатан Рудольфиус Батиста… Но пусть доктор подождёт со своими разоблачениями. Ибо сердцу милее чудо и сказка, даже если знаешь их иллюзорную природу. Вырвич из-за этого не поделился своими догадками о личности покорительницы огня.
Но Лёдник молчал – почему-то не сказал ни слова, пока их не расселили в комнатах, где каждый смог переодеться и вымыться. Опочивальни Лёдника и Прантиша оказались в разных концах коридора. Вырвич стащил обрыдлую бархатную маску, даже ставшую влажной, брякнулся на кровать, застланную медвежьей шкурой, и, глядя в потолок, перечёркнутый чёрными балками, ярко представил, как подхватывает тоненькую золотистую фигурку на руки и несёт подальше от губительного огня, и принцесса – ну почему она не может в действительности ею быть? – смотрит тревожно и ласково…
Прантишевы мечтания перебил стук в двери – вошёл слуга, чтобы проводить на ужин. Маску пришлось надевать снова, хотя во дворце сделалось тихо, и за окнами больше не слышалось грохота копыт и колёс: гости разъехались так же тайно, как появились. Ну теперь уезд будет гудеть от слухов… Такого наконец понапридумывают, не отличишь, что на сеансе магии в действительности было.
Через некоторое время Вырвич очутился в маленькой комнате с затворенными ставнями, где был накрыт стол на шесть персон. Комната освещалась свечами в бронзовых подсвечниках в виде райских деревьев, стоящих на столе, поэтому казалось, что вокруг сжимается кольцо неуютной тьмы. Помещение, целиком пригодное для тайных переговоров. Но блестела радужной глазурью саксонская фарфоровая посуда, лимоны и апельсины в вазах светились, как маленькие солнца… Графин с вином, красным, как египетские кары, тоже прибавлял уюта. Лёдник и оба иезуита, также в масках, были здесь. Драгун уселся около бывшего слуги и начал гадать, кто же сядет с ними ещё. Неужели хозяева имения?
И едва не обомлел, когда напротив на стул с высокой спинкой, имеющей силуэт готического собора, опустилась пани Серафина Батиста. Теперь она была одета по дворцовой моде, глубокий вырез корсета прикрывал белоснежный, как январский иней, кружевной венецианский платочек, на шее и в ушках сияли диаманты, а вот в напудренном парике, напоминая о необычном происхождении дамы, вместо искусственных птиц или цветов вились зелёные блестящие змейки, к счастью, тоже искусственные. Напротив Лёдника оказался пан Батиста, а Гросс и Шредер, как искушённые шпики, оглядывали беседу с торцов стола. Шредер, хотя и сильно ослаб после путешествия в подземелья, следил за всем довольно пристально.
Когда лакеи, разлив напитки по бокалам, вышли из комнаты, пан Гросс лично проверил, не подслушивает ли кто за дверями, запер их на ключ и только тогда снял маску. Открыли лица и остальные. Пан Гросс представил Батистам Вырвича и Лёдника, прочитал короткую молитву, и хрустальные кубки начали пустеть, о фарфор застучали вилки…
А Прантиш таращил глаза на соседку и всё не мог до конца поверить, что перед ним крепостная актриса, в его присутствии избиваемая палкой. А вдруг… ну может же такое быть – у Михалишивны есть двойник, может, египетская принцесса с непроизносимым именем выбрала себе облик обычной земной девушки, чтобы возвратиться из небытия? Да какие только глупые фантазии не лезли в голову драгуна, потому что пани Серафина поглядывала на него так загадочно, столько обещания было в её светло-зелёных глазах… Будто камень, как он там назывался, хризопраз, что ли? Лёдник показывал – прозрачно-зелёный, переливчатый, внутри светлая чёрточка мерцает… Алхимик объяснял – люди верили, что камень этот отгоняет злых духов, отводит сглазы и не подпускает к владельцу недоброжелателей.
Кем бы ни была женщина напротив – драгун, да ещё осушив пару бокалов настоящего венгерского вина, был готов отправиться за ней хоть на край земли… Потому, что именно ему пани сейчас улыбнулась полными губами. И почему там, в зале, показалось, что в её глазах тоска и безнадежность? Пранцысь даже пропустил часть застольной беседы… А она, тихая, отрывистая, велась. Драгун, оторвавшись от куртуазных мечтаний, с удивлением понял, что обсуждаются детали далейшего совместного путешествия. Все поедут в карете графа Батисты. Экипаж большой, раскладывается одно дополнительное сиденье, можно использовать для больного.
Понятно, хотят возможных преследователей сбить с толку. На заставах уже спрашивали об их карете. Похоже, золото перегрузят в экипаж мага. Он же, чтобы показывать свои чудеса, чего только с собой, наверное, не возит… Одно зеркало да ящик для углей целую телегу занимают.
О фокусах тут же и зашла речь. Что египетский жрец и полоцкий алхимик, знатоки наук тайных, сцепятся, как два петуха на одном дворе, можно было предсказать сразу. Сначала оба нарочито друг друга не замечали. Потом поиграли в “гляделки” – после того, как граф Батиста наплёл чего-то о жертвоприношениях Тот-Амону, в коих ему приходилось участвовать туманную пропасть веков тому назад, а Лёдник выдал реплику, что Тот-Амон, в соответствии с расшифрованными глиняными табличками никакой не бог, а жрец, и человеческих жертв не требовал, и граф, видимо, через столько лет что-то подзабыл, тем более и иероглифы на его халате вышиты перевёрнутыми.
И понеслось… Оба мага, раскаянный и нераскаянный, с любезными улыбками минут десять глядели друг другу в глаза, так что, казалось, поставь между их взглядами железный щит – продырявят насквозь, словно копьями. А этот Батиста, хоть и шельма, не слабак, тоже тайными навыками владеет… Прантиш знал, что значит выдержать взгляд разозлённого Лёдника – если тот захочет, с места не стронешься. Правда, Батиста глаза наконец отвёл – притворился, что его внимание отвлёк вопрос пана Гросса. Потом, отвечая на тот вопрос, как бы между прочим повертел в руке ложку, и она в его пальцах сама по себе согнулась, будто восковая. Батиста, не прекращая говорить, положил её на стол, поближе к виленскому профессору… Тот, будто бы тоже между прочим, согнутую чудесным образом ложку взял, поднял вертикально, держа за кончик, и она сама по себе выпрямилась, заставив Батисту скрипнуть зубами.
Вырвичу даже смешно сделалось. Профессор опустился до фокусов! Ей Богу, как школяры. Хоть бы не подрались… Иезуиты, занятые обсуждением политических событий в Европе – а конкретно судьбы сына умершего Августа Саса, лишённого надежды на трон мальчика, едва не на положении узника живущего сейчас в родовом замке, со снисходительной иронией тоже наблюдали за скрытым поединком, происходившим за столом. Вот только египетская принцесса почему-то выглядела всё более встревоженной… Даже перепуганной.
— Я бы посоветовал пану следующий раз лучше установить зеркало в проекторе под магическим шаром, – ядовито-вежливо сказал итальянцу Лёдник. – Рисунок отражается немного косо, зрители могут что-то заподозрить.
Батиста растянул в улыбке губы, его серые глаза были холодны, как ледышки.
— Вижу, что пан профессор не верит ни в магнетизм, ни в возможность выхода во всемирный эфир. Стремится всё истолковать научно. Но – вот огонь, одна из стихий… С хорошо известными и изученными свойствами… Но навряд ли пан сможет научно объяснить, почему этот огонь порою не обжигает нежную женскую кожу?
Батиста поднял ладонь, направив на подсвечник, сделал едва заметное стремительное движение вперёд – и две крайние свечки погасли, мутные капли воска потекли по бронзовому стволу подсвечника, будто предсмертные слёзы по тёмному лицу старого фараона. Лёдник нахмурился – сам он так и не усвоил гашение огня на расстоянии. Так что похвастать в ответ было нечем. Поэтому снова начал драться на словах.
— Пляски на горячих углях – явление довольно распространённое в мире, — голос профессора звучал как на лекции. – Сам я не видел, но слышал от однокурсника-болгарина, что такие пляски есть в его стране – там это практикуют в каждой деревне. Умение передаётся в семье из поколения в поколение. Называется этот обычай нестерианством, считается христианским подвигом, иногда танцуют с иконами в руках. Нередко этим занимаются девушки. Думаю, весь секрет в движениях – если переступать ногами быстро, держа подошву параллельно горячей поверхности, как бы скользить, кожа не успевает нагреваться и ожогов не происходит.
— Значит, и вы, профессор, могли бы сами так же пройтись по огню? – мягко спросил сеньор Батиста. – Знаете, нам всё время приходится встречаться с энтузиастами, готовыми доказать своё мужество и ловкость, заверяющими, что разгадали секрет фокуса. Когда же, несмотря на предупреждения, они бросались на угли, всегда заканчивалось ожогами. Так что, профессор, рискнёте?
Иезуиты с интересом уставились на Лёдника. Навряд ли они будут его удерживать – почему бы не развлечься забавным зрелищем, когда упрямый глупец ищет шишку на голову? Лёдник слегка покраснел. Вырвич понимал, что его наставника аж распирает желание принять вызов, но от азарта спора разум до конца не отняло. Должен же полочанин понимать, что если сейчас полезет на горячие угли – скорее всего опозорится, а вдобавок и искалечится. Прантиш даже ударил изо всей силы сапогом по ноге доктора, так что тот едва не зашипел от боли, но сдержался, и опустив глаза, проговорил:
— После определённой тренировки рискнул бы.
— Вы же разгадали секрет. A fortiori (Тем более. Лат.), нежная женщина танцует, не боится. Докажите, насколько это легко! Мы ещё не убрали оборудование, — продолжал поддразнивать Лёдника итальянец.
— Думаю, панство, не стоит испытывать фортуну перед нелёгкой дорогой, — тихо проговорил Шредер, и это прозвучало, как приказ. Итальянец победно улыбнулся и замолчал. Лёдник злобно поджал губы… Но всё-таки отомстил: когда серьор Батиста, с иронией глядя сопернику в глаза, потянулся взять вилку, не смог оторвать металлический прибор от стола. Прантиш помнил, что бывший алхимик способен на такие фокусы: когда-то пан Агалинский в Томашове так же под взглядом доктора не смог достать из ножен саблю. Батиста сделал вид, что ничего не произошло, прибрал от вилки руку и потянулся за апельсином. Теперь победно сверкнули глаза доктора, и Прантиш ещё раз пнул его под столом ногой. Хватит уже доказывать странствующему факиру, кто сильнее! Учёный называется, академик… Не удивительно, что всю жизнь попадал в приключения. Тем более в глазах синьоры Батисты плескался настоящий ужас, будто сейчас произойдёт убийство. Неужели она так боится своего мужа? На горящих углях танцует, живую змею на шее носит, и такая пугливая… Пани повернулась к магу, тот что-то шептал ей на ухо, взгляд Прантиша сейчас же отправился в декольте, так как кружевной платочек немного соскользул. И драгун заметил густо припудренный синяк.
Теперь Прантиш был уверен, что перед ним актриса из Слуцкого театра. Египетскую принцессу бить не стали бы. В душу аспидом заползло разочарование. Мужичка в парике… А он уже намечтал себе… С другой стороны, она жена графа, значит, настоящая графиня, ибо согласно Статута жена получает титул мужа. А с этим спесивым паном Батистой стоит побороться, куртуазные победы шляхтича украшают.
Ужин закончился прочитанной паном Шредером молитвой, все, кроме Батисты, снова надели маски и отправились по комнатам. Прантиш так и прилип глазами к тоненькой грациозной фигуре египетской принцессы. Неожиданно Прантиша задержал граф:
— Ваша мость, я должен пойти с паном Гроссом решать важный вопрос, будьте любезны, проводите мою жену.
Самозванная египтянка тут же протянула Прантишу тонкую прохладную ручку… Лёдник фыркнул и отправился за слугой, нёсшим перед ним фонарь, в свою комнату. А драгун в опьяняющем предчувствии галантно подставил пани руку и повёл в другую сторону. Тени от свечи, горевшей в фонаре лакея, бежали по стенам коридора, завешанном гобеленами, как призраки влюблённых ушедших столетий, которые, так же наполненные пылкими предчувствиями, отправляясь на ночные свидания, шалили и дурачились, совершали ради своих любимых подвиги и проказы, но всё превратилось в тлен, и в лучшем случае от них остались их холодные парадные портреты…
Напрасно, видимо, драгун решил, что пани Серафима боится своего мужа. Она щедро дарила своему кавалеру взгляды и улыбки, довольно твёрдо опираясь на его руку. И не отняла своей ручки, когда Вырвич осмелился её поцеловать у дверей комнаты. Более того…
— Зайдите на минуту к нам, — промолвила таинственным голосом принцесса. – Мужа не будет ещё долго.
Прантиш на какое-то мгновение промедлил – именно таким ласковым многообещающим голоском обычно заманивают в ловушку, но когда это шляхтич боялся соблазнительного свидания с хорошенькой девушкой! Это же не с княжной Богинской, когда зайди далеко по тропинке Амура – потеряешь голову в самом наипрямом смысле. А с этой паненочкой, пусть она на огне танцует, Прантиш своего не упустит… Возможно, она просто узнала красивого немецкого юношу, с которым когда-то перемигивалась в Слуцком театре?
В комнате, не забыв запереть дверь на ключ, пани Серафина зажгла на секретере из чёрного дерева свечки в бронзовом подсвечнике и повернулась к гостю, который не собирался терять напрасно время и приобнял пани:
— А ты меня, наверное, узнала…
Принцесса самую капельку растерялась, тень испуга мелькнул в светло-зелёных глазах:
— Быть может, пан напомнит, где мы встречались с вашей мостью? В Париже? В Риме на карнавале?
Прантиш притянул красавицу к себе и прошептал ей на ушко:
–В Слуцке… В театре… Лет шесть назад… Шла репетиция… Ты, Михалишивна, была на сцене, с такой выразительностью и мастерством играла царевну Навсикаю, а я сидел в зале, и смотрел на тебя не отрываясь… Я узнал бы тебя в любом убранстве!
Реакция графини Батисты на воркование кавалера просто испугала. Красавица вырвалась из объятий и отскочила, как французский принц Генрих Валуа из литвинской бани, в глазах снова плеснулся ужас.
— Я думала, что ошиблась… Вы показались мне знакомым… Но нам сказали, что ученик немецкого доктора погиб.
Прантиш самодовольно улыбнулся – вот чего она перепугалась, решила, что имеет дело с призраком! А ещё магией занимается, глупышка, с духами разговаривает! Драгун постарался успокоить самозванную принцессу, объяснив, что в замке Радзивилла Жестокого они с Лёдником выполняли тайную миссию, поэтому должны были находится под чужими личинами, и спаслись благодаря собственной смелости и железной черепахе на водяном двигателе, которую Героним Радзивилл заказал изобретателю Якубу Пфальцману, однокурснику Лёдника. В том, что он живой, Прантиш постарался убедить красавицу куртуазным способом, но та уклонилась от поцелуя, её по-прежнему трясло.
— Пан Вырвич… Прошу вас… Молю… Только не говорите никому, что вы меня узнали!
Теперь в Михалишивне не осталось и следа той светской кокетки, что привела его в эту комнату. Глаза лихорадочно горели, пальцы, которыми она вцепилась в ладонь Вырвича, были холодными, как лёд.
–А, вот оно что, граф Батиста не знает, с кем оженился? – немного презрительно спросил Прантиш. Такая запросто могла выдать себя за шляхтянку. Но Михалишивна только горько рассмеялась.
–Ещё как знает… Он же меня купил – после смерти князя Геронима театр пришёл в упадок, артистов разгоняли, кого куда. Меня могли сделать горничной или вообще отправить на мануфактуру, ткать гобелены. А граф видел меня на сцене и решил, что я ему пригожусь. – Сеньора Батиста глубоко вздохнула и, решившись, промолвила дрожащим голосом. – Он мне такой же муж, как и граф. Как говорили в нашей слободе – венец под кустом, а свадьба потом. Кто я? Рабыня, которая играет принцессу. Когда Луиджи… Его на самом деле Луиджи зовут… узнает, что… я не справилась с его поручением… что вы меня опознали, и теперь вся его деятельность под угрозой, ему могут перестать верить, и египетская принцесса утратит свои чары… Худо будет не только мне, но и вам. Пан Вырвич, он страшный человек!
Прантиш хмыкнул:
— Не бойся, я никому ничего не скажу. И нечего пугаться – мой друг, профессор Лёдник, твоего мага как комара размажет.
Девушка перекрестилась по-православному, в прозрачно-зелёных глазах плескался испуг.
— Спаси нас, святой Киприан… И правда, ваш друг ещё страшнее Луиджи. Он так разозлил графа, что не знаю, чем это обернётся для меня. Батиста обманщик, а ваш… Он же настоящий колдун!
Голос девушки превратился в испуганный шёпот. Прантиш хмыкнул.
— Это ты с духами разговариваешь, как ведьмарка. А Лёдник – учёный, доктор, профессор… Правда, кое-что может, но он добрый христианин, и никогда людям не навредит. Ну, пока он без сабли. А… что за поручение тебе Батиста дал?
Михалишивна опустила голову:
— Ничего необычного. Завлечь вас, заставить влюбиться, чтобы потом добывать нужные сведения и руководить вашими действиями.
Вырвича будто холодной водой окатило. Вот тебе и куртуазное приключение, непобедимая красота драгуна… Тот Батиста навряд ли верный адепт ордена. Скорее, выслуживается перед иезуитами от страха, чтобы инквизиция не трогала. А золото менских подземелий – непреодолимая привада, к которой можно добраться через влюблённого драгуна. В душе бурлил гнев на коварную девицу.
— И часто граф даёт тебе такие поручения? Наловчилась?
Михалишивна вдруг горделиво выпрямилась, и Прантишу при взгляде на её измученное и всё-таки трагично-красивое лицо стало за свою грубость немного совестно. Маска, всего только маска актриски! – напомнил себе Прантиш.
— Я могла не признаваться вам. Могла обмануть. Но мне показалось, что вы, пан Вырвич, человек честный и милосердный. Возможно, мне нужно было ещё в Слуцке совершить, как римлянке Лукреции – самоубийство, чтобы не дать себя насиловать. Возможно, нужно было сделать это ещё в детстве, когда меня забирали из дома те, кто убил моих родителей. Но – что же, и пырей под забором для чего-то растёт. Искусство заменило мне всё… In arte libertas! (В искусстве свобода! Лат.). Во всяком случае, ни Еврипида, ни Шекспира, ни Лопе де Вега у меня никто не отберёт… И пан Батиста многому научил меня. Разным языкам, игре на клавесине и флейте. И в науках тайных дал знания, и в постели. И я буду улыбаться вам, ваша мость, и вы можете воспользоваться моими прелестями когда вам будет угодно.
Михалишивна по-шутовски поклонилась и вымолвила фразу, с которой римские артисты обращались к публике:
— Videte et applaudite! (Смотрите и аплодируйте! Лат.)
Теперь было понятным, откуда на нежной коже паненки синяки. Не столько в словах, сколько в тоне речи звучала скрытая дерзость, вызов, что свидетельствовало – перед Прантишем не покорная овца.
— А кто убил твоих родителей? – спросил Вырвич. Красавица опустила глаза.
— Мы из Кричева. Мой отец был оружейник, участвовал в бунте.
Ого, кричевское восстание! Тогда мещане и мужики дрались против войска князя Геронима Радзивилла так, что шляхта до сих пор не любит вспоминать. И расправа над бунтовщиками была жестокой. Прантишев отец, Данила Вырвич, тогда тоже попал помахать саблей против вил и цепов. Насколько помнил Прантиш, ввязался отец в драку случайно… Мало что по дороге из корчёмки в корчёмку с благородным паном может случиться. Но не колебался, чью сторону принять – конечно, шляхтичей! Пусть простолюдины десять раз правы, пусть пан беззаконием своим довёл их до отчаяния. Вот только вспоминать о тех событиях пан Данила Вырвич не любил, ибо не считал достойным для шляхтича драку с мужиками. Но, получается, он мог быть убийцей родственников Михалишивны. Прантиш об этом, естественно, промолчал, не сводя глаз с девушки: а такая и ножом может пырнуть… Вон как глазами сверкает.
Но, с другой стороны, пан Вырвич ей очевидно нравится, да и связана она теперь тем, что Прантиш знает её тайну. А значит, оружие Рудольфиуса Батисты можно использовать против его самого! Поймается рыбачок на собственный крючок! И это будет самой приятной местью!
Вырвич снова улыбнулся и приобнял принцессу за талию.
— Я никогда не использовал женщин, я только дарил им любовь. Поэтому можно меня не бояться. Я даже буду показывать перед Батистой, что ты совсем закружила мне голову. А вот ты мне можешь помочь?
Губы Михалишивны удивлённо вздрогнули…
— Чем я могу помочь васпану?
Вырвич склонился к розовому ушку.
— Ты должна понимать, что мы с доктором Лёдником сейчас в опасности. Просто рассказывай мне, что придумает Батиста и иезуиты. Для начала скажи, куда поедет карета?
Михалишивна опустила глаза и тихонько вздохнула.
— В Лебу.
— Что? – вытаращил глаза Прантиш. – Это где?
— Маленький порт на берегу Балтики. За Лемборком.
Вот оно что, золото переправят морем… И не из большого порта, как Гданьск или Гамбург, где полно доносчиков.
— А что здесь за тайное сборище?
Михалишивна презрительно фыркнула.
— Тайное… Просто Луиджи много раз твердил, чтобы поднять цены на билеты, нужно напустить туману, убедить, што это только для избранных, посвящённых, есть опасность… И людишки соберутся, как крысы на сало.
Прантиш смотрел на актрису, и как наяву вспоминались давнишние события, когда они с Лёдником в Слуцке освобождали Соломею, а им помогал директор оперной труппы…
— А что произошло с сеньором Пуччини и его братом Джованни, когда мы убежали из Слуцка?
От воспоминаний Михалишивну даже передёрнуло.
— Князь тогда так разозлился, что почки прихватило, слёг в постель… Все перепугались, весь город шёпотом разговаривал. А сеньор Пуччини в тот же день вместе с братом исчез.
— Тоже, значит, сбежали? – обрадовался Прантиш. Но актриса грустно покачала головой.
— В Слуцком замке очень просто было исчезнуть, ваша мость. Я однажды слышала, как кто-то в подвалах тюремной башни поёт итальянские арии.
Вырвич понурил голову. Грустная весть… К сожалению, никогда не получается так, чтобы спасти всех достойных, челн Фортуны маленький и шаткий.
— А как ты научилась танцевать на углях?
Вопрос был не самый нужный, но давно мучил Прантиша. Михалишивна провела рукой по плечу, там, где тоже был запудреный синяк.
— Пан Батиста действительно видел такое в Болгарии. Учиться пришлось долго. Получилось не сразу…
Кривая улыбка актрисы подтверждала, что за скромным “не сразу” прячется много страданий. Вырвич посматривал на красавицу, дрожащую в его объятиях, и понимал, что девушка целиком в его власти. И если он только захочет…
Но Прантиш представил, сколько раз девушке приходилось вот так, по приказу, ублажать важных гостей… И брезгливость к ней чувствовалась, и жалость. Крепостная девка – это же не шляхетная паненка, которая хранит девственность ради единственного, стоящего, рыцаря, и даже не дочь стеклодува с улицы Шкельной, чью честь ожесточённо защищает родня, и если что – и на шляхтича подадут в суд за оскорбление родного цветочка. Наверное, ещё во дворце Геронима Радзивилла Михалишивна в обнажённом виде не раз изображала “живую статую”, каковыми магнат любил украшать свои пиры. И кто из гостей хотел – мог и налюбоваться, и воспользоваться. Какая же любовь с такой… Романтики меньше, чем после кварты горелицы с корчмаркой в чулане. Прантиш поцеловал ручку актрисы и отступил.
— Скажи хоть, как тебя на самом деле зовут. Не Серафина же, я думаю.
Глаза ненастоящей графини сияли недоверчивой надеждой:
— Раина… Раина Михалишивна.
— Ну, доброй ночи, Раина Михалишивна.
Вырвич вежливо поклонился и ушёл. Теперь он был уверен, что сердце графини Серафины Батисты, египетской принцессы Семпенсентры и дочери кричевского бунтовщика Раины Михалишивны в одном лице – принадлежит ему так же верно, как гетману – булава. Прантиш чувствовал себя высокомудрым, как те два шляхтича, у которых была одна пара сапог, и они ездили на базар, каждый свесив с телеги одну ногу в сапоге, а вторую спрятав в сене.
И одновременно зрело недовольство. Да, бравого драгуна любят… Но почему-то не княжны и принцессы. Его судьба – камеристка Ганулька, которая, наверное, и сейчас покорно мечтает о недосягаемом пане Вырвиче с русым чубом, да безродная наложница авантюриста, странствующего фокусника. А амурные приключения должны придавать шляхтичу блеска! Вон тот клювоносый хмурый мещанин Лёдник во время поединков в бойцовском клубе в Ангельщине приглянулся и стал любовником леди королевской крови. А до этого прижил дитя с женой своего пана, родовитой и красивой шляхтянкой пани Геленой из Агареничей. Правда, любит доктор только свою Соломею, в девичестве Ренич, дочь полоцкого книгаря. Зато пани Соломея красивей любой принцессы, даже египетской.
Вырвич завистливо вздохнул. Ну чего не хватает бедному драгуну, чтобы покорить сердце какой-нибудь настоящей графини?
Жаль, что Михалишивна таковой не является. Всё-таки экая она… изящная… смелая… несчастная…
ГЛАВА ПЯТАЯ. ИЕЗУИТСКАЯ ДРУЖБА И ГАНУЛЬКА МАКОВЕЦКАЯ.
Снилось Вырвичу, что он гуляет около египетских пирамид, песочек жёлтенький-жёлтенький, как на откосах Днепра, вокруг пальмы, похожие на большие папоротники, и вот идёт торжественная процессия, негры несут паланкин из ярко-красного шёлка… Поравнялся паланкин с Пранцысем, распахнулась ткань, и выглянула оттуда неземная красавица, настоящая египетская принцесса, и говорит: “Будешь моим фараоном, Пранцысь Вырвич!”. А напоминает красавица одновременно Раину Михалишивну, панну Полонею Богинскую и даже почти забытую Ганульку Маковецкую. Будто соединились таинственность одной, высокое происхождение и богатство другой и пылкие чувства к драгуну третьей.
И устремился драгун к принцессе, протянул ей руку… А красная ткань вдруг превратилась в огонь, от паланкина и принцессы пахнуло адским жаром…
Эх, не судьба Вырвичу повладычествовать даже во сне! Прантиш, отгоняя дрёму, потряс головой. Явь была вообще неприветливой. Небо, которое виднелось в окне дорожной кареты, так затянули серые тучи, что не понять – утро, вечер, или мельтешит в глазах после кувшинчика доброй мальвазии. Свою грустную балладу бормочет дождь, сипит в кустах холодный ветер, колёса экипажа будто пьяные проваливаются в колдобины. А напротив – хмурые, как незаправленные щи, лица Гросса и Шредера, да ещё лже-граф Батиста посматривает что сват, везущий жениха к хромой невесте. На Лёдника Прантиш вообще глянуть боялся – тот зажался в угол огромной, как корабль, кареты с Лейпцигским научным журналом в руках, и всем видом демонстрировал, что хотел бы находиться хоть в пинском болоте, лишь бы не здесь. Пану Шредеру отвели особую скамью, где при желании можно прилечь, ему время от времени становится хуже, тогда экипаж останавливается, Лёдник перебирает пузырьки и отмеряет для больного микстуры… Резкий запах болота, камфоры и валерианы перебивает сладкий аромат парфюма египетской принцессы. Потом старик кивает головой, упрямо приподнимается, и карета двигает дальше. Железная воля у пана Якуба Шредера. И странные отношения с паном Зигмунтом Гроссом, который едва не отправил его на тот свет. Улыбаются друг другу – а глаза как у змей. Холодные и неподвижные.
Одно удовольствие – переглядываться с Михалишивной. От таких девичьих взглядов настоящий мужчина чувствует себя воеводой на коне. Актрисе, видимо, хорошо досталось от итальянского мага – платье застегнула до горла, у глаза виден ещё один запудренный синяк. Итальянец совсем мозгов не имеет, коль портит лицо ассистентки, наживку для клиентов.
Зато тем вернее победа доброго пана Вырвича над измученным сердцем Михалишивны, ибо нищему и похлёбка – золото.
Но трястись в карете надоело – лучше бы уж на коне проехать, пусть и под дождём. Сзади тащилась ещё и большая повозка с устройствами фокусника, запакованными в просмоленную рогожу, и замедляла и без того неторопливое путешествие. Золото где-то рядом, и, возможно, Прантиш Вырвич герба Гиппоцентавр сейчас сидит прямо над каким-нибудь золотым реликварием, украшенным изумрудами, или над той погнутой-искоробленной штукой, которую иезуит с такой почтительностью целовал.
Граф Батиста опытный проходимец. У него оказался королевский патент на проезд с рекомендацией от самого Понятовского – король впечатлился продемонстрированными в хрустальном шаре картинами собственного светлого будущего и засвидетельствовал письмом, что маг у него всегда желанный гость. Поэтому встречный разъезд солдат даже в карету заглядывать не стал. Но когда приостановились около корчмы под названием “Перлина” – нужно было поменять утомлённых лошадей – патент не помог. Кучер вернулся из той мутной “Перлины” мокрый и злой. Хозяин лошадей не даёт, хотя они имеются. Ссылается на государственные нужды.
Тьма сгущалась как черничный кисель, лил дождь, у корчмы экипажей как свечей в свадебном каравае, так что понятно – свободных комнат тоже нету. Да и не с руки тайной компании со своим золотым грузом оставаться в людном месте. И так остановились не доезжая, чтобы любопытные не уследили.
Пан Шредер задумчиво промолвил:
— Я бы посоветовал действовать с другой стороны. Насколько я помню, здешний корчмарь – не сторонник короля.
Гросс кивнул головой.
— Да, мы останавливались как-то в этой корчёмке, хозяин отвёл нам хорошую комнату, следил, чтобы нас никто не тревожил и не подслушал. Что же, это упрощает дело. У меня есть кое-какие рекомендации… На всякий случай, пока не добуду лошадей, никто не выходите.
Зигмунт Гросс, надвинув на самый нос шляпу, с всецело разбойничьим видом вышел под ливень.
Осенний дождь лупил по крыше кареты, будто возмущался, что от него скрываются. В сумраке нельзя было рассмотреть лиц, и при желании, так как все молчали, мнилось, что вместе с другими тенями находишься на дороге в Аид. Молчание нарушал только стук бусин Шредеровых чёток, будто падали в копилку Харона призрачные покойницкие монеты.
Гросс задерживался. Батиста начал нервно насвистывать бодрую мелодийку, выбивая ритм пальцами по раме окна… Особенно одиноко и неуютно было от того, что со стороны корчмы доносились весёлая музыка, пьяный шум, лай собак – все признаки весёлого и обычного человеческого бытия, не обременённого проклятым золотом подземелий.
Маг прекратил насвистывать: к карете кто-то приближался… И не один.
— Этот человек приехал с вами?
Вот и Харон появился… Фонарь в руках королевского улана качался, как в шторм на челне, наполненном грешными душами. Гросс с безразличной физиономией, без сабли и с заведёнными за спину руками стоял между двумя здоровенными жолнерами.
Вырвич прикинул, что разбросать нападающих легко. Ясно, в корчме – засада, должны быть ещё солдаты… Повозку с барахлом придётся бросить, с ней от погони не уйти… Эх, давно прадедовская сабля с гербом Гиппоцентавр не пробовала вражеской крови! Но Шредер высунулся из кареты, улыбчивый такой дедушка, добрый.
— Нет, ваша мость, впервые вижу этого пана. На разбойника похож… Не дай Бог встретить такого на дороге.
Прантиш только глаза вытаращил. Ни тени фальши. Вот кому в театре играть. Если бы такой рисовал, то к его картинам, как к полотнам одного древнегреческого художника, клевать нарисованные вишни прилетали бы скворцы.
— Это бунтовщик, ваша мость, — сурово ответил хароноподобный улан, в неясном свете фонаря на его лицо ложились резкие тени, и вместо глаз мнились провалы. – У него письмо от осуждённого на изгнание князя Радзивилла, в коем говорится, что этот пан – его представитель, и ему нужно помогать, как самому князю. Значит, не с вами приехал?
Улан заглянул в карету, держа фонарь так, чтобы хорошо рассмотреть всех. Батиста толкнул Михалишивну локтем в бок, и та улыбнулась жолнеру, взглянула, и тот едва не выронил фонарь.
— Ах, что вы, ваша мость, мы с разбойниками не водимся! Мы с мужем и друзьями едем в Варшаву по приглашению его мости, ясновельможного нашего короля Станислава Августа Понятовского, который одаривает нас своей милостью…
При словах о милостях грубое лицо улана многозначительно изменилось, его губы будто попробовали хорошего винца: Стась Телок не пропускал хорошеньких дам, видимо, в карете тоже его амаратка. Батиста поспешно протянул письмо от Понятовского… Ещё и пожаловался, что хозяин не дал лошадей, а они опаздывают.
Жолнеры опросили на всякий случай обоих кучеров – тот, что на повозке, залопотал по-итальянски, пожимая плечами, тот, что у кареты подтвердил, что арестованного пана не знает.
— Я говорил, что мой экипаж давно уехал. Такой был уговор, — холодно проговорил Гросс. – Этих панов вижу впервые.
И Прантиш понял, что, как и Шредер, Зигмунт Гросс выдержит любые пытки и допросы, но не выдаст никого и ничего. В этих людях не было любви, сочувствия и даже простой справедливости, но твёрдая вера в общую цель и в то, что их дело важнее их самих. Не люди – оружие.
Шредер начал обсуждать с Батистой теорию молодого Месмера о животном магнетизме, демонстрируя полное безразличие к схваченному лазутчику. Правда ли, что Вселенная пронизана флюидами, зависящими от фаз Луны так же, как океан? Гросс смотрел запавшими светлыми глазами в какую-то ему одному видимую точку, где не было ни уланов, ни осени, ни бывших спутников. Вырвич понимал, что вмешиваться – некстати, но на душе было так мерзко, так… Сдавать товарища – даже такого, который сам тебя легко сдаст – позор! Как там Гросс произнёс над умирающим в подземельях Шредером: “Все мы гончие Бога”. Мол, раз уж попался – хлебай сам.
Гросса повели назад, в корчму. Он не оглянулся, не сделал никакой попытки подать знак прощания. А улан пообещал королевским гостям достать лошадей, расчувствовался, видимо, но не от письма короля, а из-за красивых глазок египетской принцессы.
И вскоре они тряслись дальше по дороге, где в один холодный и мокрый неуют соединялись небо, дорога, осень и опасность.
— Мы бы могли отбить пана Зигмунта! – не выдержал Прантиш.
— Вы смелый молодой человек, пан Вырвич, -= отозвался Шредер. – Но это было бы неразумно.
— Жертвы не имеют значения, лишь бы дело ордена было сделано? – язвительно поинтересовался Лёдник.
— Мы все готовы на жертвы, — мягко ответил Шредер. – И Зигмунт также.
Вот и вся эпитафия по утраченному товарищу. С глаз долой и с памяти вон.
А вот Гутовский базилианский монастырь в обрамлении осеннего дня казался не то, чтобы эпитафией, а надгробием – мрачные мощные стены со следами пушечных ядер. Никакого полёта в небеса, только усталость, массивность старого воина, никогда не видавшего сочувствия, отчего и сам разучился сочувствовать. Некогда побелённые стены облезли, кирпичи выглядывали из-под штукатурки, как больная плоть. Густые решётки в окнах напоминали, что тленное тело наше не больше, чем клетка для мучений духа во время земного испытания, да и другие спасительные мысли приходили в голову у мрачного строения… Хотя наверно же реяли над ним и ангелы, и было в этих стенах своё счастье, непонятное грешным приземлённым натурам… Но для Балтромея Лёдника это место было прежде всего тем, где князья Богинские держали в заложниках его жену Соломею. И поэтому оба литвина вошли в ворота с гнетущими предчувствиями…
На колокольню утомлённо села ворона, хрипло выкрикнула своё мнение об этом сером мире и сомнительных шансах спастись в нём. Но ударил колокол, и чёрная вестунья безнадёжности тяжело взмахнула крыльями и улетела – чтобы вернуться. Потому что вокруг каждого святого места крутятся те, кто устал от тьмы, но боится света.
В темную келью глядит только месяца око,
Ни звука, ни сдвига… Однако же нет и бессилья.
Здесь счет не на деньги, а лишь на шаги до высокой
Двери, за которой даются нездешние крылья.
В этих стенах не спрятать любви иль обиды –
Так в водах прозрачных укрыть удается немного.
И стрелы крылатого злобного сына Киприды
Безвредны для сердца, которое отдано Богу.
Переговоры с игуменьей, как старший и представительный, взял на себя Лёдник. Но пани-матушка, похожая на скандинавскую Кунигунду, победившую в вооружённом поединке всех женихов, потому и осталось только пойти в монастырь, к беседам была не склонна. Она сообщила, что и действительно, в монастыре очутилась девушка, которая назвалась сначала княжной Богинской. Поведения нахального, грешница окаянная. К счастью, её забрали родственники, и более судьбой девицы никто в монастыре не интересовался. Что за родственники, где живут, игуменья не знала.
Уходя, оба гостя ощущали, будто сейчас каждому между лопаток воткнётся копьё.
Теперь вороны заняли не только колокольни, но и кресты монастырского храма. С неба, глухого, как оштукатуренная стена, сыпался мелкий дождик. Прантиш остановил понурившегося Лёдника.
— Подожди, кто же расспрашивает начальство о внутренних скандалах! Надо какого-нибудь простого человека найти…
— Так с тобой монашки и будут говорить, — хмыкнул Лёдник. – Да таких, как ты, на пушечный выстрел к добродетельным сёстрам не подпустят.
— Зачем нам монашки, — рассеянно проговорил Вырвич, оглядываясь. – Здесь же не монгольская степь, кто-то же дрова колет, припасы привозит…
И правда, около хозяйственных построек, таких же неприглядных, как и у обычной деревенской усадьбы, словно одинокий ворон шкандыбал старик в свитке и треухе. Только бы не глухой и не немой – именно таким и занимать место прислуги в женском монастыре.
Но дед оказался хоть и не совсем в добром разуме, глаза смотрели в разные стороны, но поговорить было можно. Особенно после нескольких монет, что перекочевали в карман вытертой, как бумажная облигация скряги, свитки.
Ганульку старик помнил. Однажды матушка игуменья объявила, что в их монастыре обнаружился обман, и одна из послушниц является страшной грешницей. Хотя ту послушницу все любили – тихая такая, а вышивала как прекрасно, такими розами украсила покрова на образе Божьей Матери… А тут – принудили беднягу к покаянию, крестом лежала с утра до вечера, в подземелье садили… А она и не жаловалась. Только плакала и говорила, будто выполняла приказ своей пани. Что же там за пани такая, что бросила бедную прислугу на расправу?
Дед перекрестился и продолжил рассказ. Неизвестно, сколько бы выдержала такую жизнь послушница, но в монастырь приехала богатая вдова, живущая неподалёку. Увидела девицу, на каменном полу крестом лежащую и от лихорадки трясущуюся, спросила, кто такая. Ну и выяснилось, что грешница – какая-то далёкая родственница пани. И гостья девушку забрала.
К счастью, старик знал название имения – Лещины, и направление, куда ехать.
Времени было аж до утра. Едва живой, но терпеливый, как нарочанский угорь, Шредер с графом и графиней остановились по соседству, у очередных надёжных людей. Гутовский монастырь им на самом деле был без надобности, так что сказку о паломничестве больного к святыням после исчезновения Гросса перестали даже вспоминать. Утром Лёдник с Вырвичем должны были отправляться с компанией в Лебу. Только когда Шредера вместе с золотом погрузят на корабль, наёмники получат письмо, что миссия выполнена, и можно возвращаться в надежде на спокойную жизнь. Да, ещё несколько дней – и путешествие закончится, золото поплывёт в Италию, где теперь находился Кароль Радзивилл, который грозится, что соберёт могучее войско и вернётся освобождать Отчизну, а пока удивляет местных жителей сарматскими обычаями. Пост у него начинался с того, что гостям предлагали снять крышку с какого-то блюда – и оттуда вылетала стайка воробьёв. А каждый гость, покинувший пир, находил в своём кармане золотую монету.
Скорее бы всё окончилось… То испуганные, то влюблённые, то кокетливые взгляды Раины Михалишивны только тревожили: непонятно, когда притворяется. А ведь ещё нужно изображать пылкую влюблённость под насмешливыми взглядами Лёдника, который знал изнанку дорожного романа. Век бы не видеть и самозванного графа с его фокусами. Достанет колоду карт, и такое давай выделывать – карты между пальцев скользят как живые, и всё намекает, а не сыграть ли в три короля или в вист? Если бы не Лёдник, Прантиш, наверное, согласился бы и давно проиграл пройдохе всё, включая собственную печень.
Слава Богу, маг и бывший маг перестали, как школяры, соперничать, кто сильнее, ложки не сгибали, огонь на расстоянии не гасили, но стоило зацепить какую-нибудь интересную обоим тему, от циркуляции крови до енохианского языка, на коем будто бы разговаривают ангелы, и начинался диспут… К удивлению Прантиша, Михалишивна могла поддержать учёный разговор и иногда ловко меняла тему какой-нибудь цитатой на латыни или древнегреческом, предупреждая особенно жестокие схватки.
Надоели и сетования Балтромея на то, что белорусов всё время вынуждают рисковать жизнью ради чужих интересов, и их судьба – игра в волан, отбиваемый игроками друг к другу. Лупят то с восхода, то с запада, не давая приостановиться и понять, где твои собственные интересы. Китайский мыслитель Конфуций сказал, что благородные люди живут в согласии с другими людьми, но не идут за ними, низкие идут за другими, но не живут с ними в согласии. Вот и получается, что если идёшь за теми, с кем не в согласии, тем себя унижаешь…
Поэтому прогулка в Гутовский монастырь воспринялась облегчением, как для солдата – смена караула.
А теперь обоим было скверно. Когда они с письмом от княжны Полонеи Богинской забрали из монастыря Соломею, даже не подумали поинтересоваться судьбой Ганульки. Конечно, это было не их дело… Идя на зубра, уток не стреляют. Но могли же на всякий случай спросить!
Но Вырвич почему-то был убеждён, что паненка укорять не станет. Ганулька понимала, что её чувства безнадежные, ведь Прантиш ухаживал за её хозяйкой на её глазах. Но первая любовь так просто не тает, и характер не переменишь, как сарматский убор на немецкий костюм. Вот выйдет панна Маковецкая навстречу, скромная такая, бедная, покорная, и обрадуется, что голубоглазый Прантиш Вырвич о ней не забыл.
Драгун нащупал в дорожном саквояже тяжёлый сундучок, набитый драгоценностями Богинских. Да с такими сокровищами, если разумно распорядиться, жизнь пойдёт по иному! Для Ганульки Маковецкой радостная новость! Осталось надеяться, что неожиданно найденная тётка племянницу не мучает.
К Лещинам, разбрызгивая грязь, доехали за какой-то час. А имение не запущенное. Богатое имение. Мужики встречные в аккуратных свитках, не оборванцы, не бросаются в кусты от панской кареты. Над воротами – красивый герб с изображением девы на медведе. Дева была плотной и немолодой, но медведь навряд ли знаком с куртуазными требованиями к приятной внешности: стан в соответствии с этими требованиями у дамы должен быть тонкий, чтобы пальцами можно обхватить, рот маленький и яркий, как вишня, кожа белая, но на щеках румянец, глаза чёрные, но блондинка. Имея деньги на косметику да корсеты, всё можно устроить, но дева на гербе желала оставаться сама собой. И это заслуживало уважения.
Аллея из пожелтевших тополей, тянущих к небу ветви, будто в надежде, что сейчас оттуда опустится для них новая зелёная листва, вела к величественному строению – в два этажа, с башнями, с колоннами. Более того – в конце боковой аллеи были видны руины древнего замка – фальшивые, естественно, делать такие у своего жилья стало очень модно. Хозяйка всего этого, приютив бедную родственницу, не обеднела.
Соваться напрямую к пани было неловко – лучше сначала расспросить о пригретой сироте у кого-нибудь из прислуги.
Перехваченный на крыльце лакей с побитым оспой лицом, будто на нём Хут горох молотил, молча выслушал пришельцев, бормотнул “Подождите, вашамости”, и зашагал в покои. Вырвич и Лёдник, привязав коней, переминались на крыльце между колоннами, коренастыми, надёжно-неуклюжими, которые держали на себе балкон, служивший сейчас защитой от дождя. Где-то в доме заиграли клавикорды – простая грустная мелодия, как раз для осени.
Спустя некоторое время лакей вернулся, потребовал представиться, и снова исчез. На этот раз ожидание было короче: двери распахнулись, и слуга с низким поклоном пригласил многоуважаемых панов Балтромея Лёдника и Прантиша Вырвича к пани Гортензии Гадлевской.
В доме пахло чем-то приторно-сладким и прогорклым… Лёдник принюхался и шепнул Прантишу:
— Узнаёшь, что за лекарства?
Вырвич пожал плечами: лекарская наука давно выпарилась из головы, зачем Лёдник цепляется – иногда и Гомер дремлет, аliquando dormitat Homerus.
— От лёгочных болезней…
Тут же и выявилось, кто болен. Пани Гадлевская из Маковецких, невысокая, кругленькая, с умными тёмными глазами, откинувшись в мягком кресле, накрытым дорогой тюленевой шкурой, потягивала из фарфоровой кружки маленькими глоточками душистый настой. На щеках пани горел нездоровый румянец, хотя лицо было старательно напудрено. В углу, в металлическом устройстве на ножках, напоминающем японскую пагоду из учебника по географии, дымилось зелье.
Но пани никак нельзя было назвать хилой или немощной. Сразу видно – не из тех, кто, заболев, стонет, жалуется и не вылезает из кровати. Одетая в богатое платье из чёрного бархата со вставками из голландских кружев, на голове – чепец, тоже с кружевами и желтоватыми атласными лентами, руки в перстнях, взгляд твёрдый – в обиду не даст ни себя, ни подданых. Хоть сейчас пиши парадный портрет
— Ваши мости спрашивали о Ганне Маковецкой? Зачем она вам нужна?
Прантиш поклонился:
— Должен исполнить поручение, передать панне ценный подарок от её бывшей хозяйки, княжны Полонеи Богинской.
И показал шкатулку.
Пани Гадлевская гневно поджала губы.
— Нам от Богинских ничего не нужно! Откупиться вздумала прохвостка Полонея. Слава Богу, у Ганульки сейчас нет нужды в чужих подачках! Можете оставить это себе, панове, какие бы сокровища там не скрывались, или отдайте в монастырь. Благодарю за заботу, но думаю, на этом миссия ваших мостей завершена.
Пани отвернулась, что нужно было понимать как конец визита. Прантиш растерянно держал сундучок, раздумывая, не показать ли его содержимое – не может быть, чтобы блеск диамантов не впечатлил! Но тут послышался спокойный девичий голосок:
— Не прогоняйте этих людей, тётушка. Это мои старые знакомые.
В комнату вошла Ганна Маковецкая. Но совсем не такая, как ожидал увидеть Прантиш. Одетая как магнатка, на шее и в ушах диаманты не мельче, чем в сундучке Богинской. Гордая осанка, тёмные большие глаза не потуплены… Хотя всё такие же кроткие.
Ганулька подошла к старухе, поцеловала в щёку – пани ласково посмотрела на девушку.
— Я же рассказывала вам о пане Прантише Вырвиче, тётушка, — сказала Ганулька. – А это – доктор Балтромей Лёдник, большой учёный, попросите, чтобы он вас осмотрел. А вдруг поможет…
Пани подозрительно зыркнула на драгуна, не менее подозрительно на лекаря:
— Хорошо, доченька. Если ты за них просишь, пусть остаются, поужинают с нами…
Вперёд выступил Лёдник:
— Извините, пани, но, к сожалению, надолго задерживаться не можем – к ночи должны уехать. Поэтому я хотел бы предложить свои услуги не откладывая. Я – профессор Виленской академии, дипломированный врач, лечил многих известных лиц.
— И также великого гетмана! – вставил Прантиш, понявший, что Лёдник хочет дать молодому другу возможность остаться один на один с паненкой.
Гортензия Гадлевская печально покачала головой.
— Навряд ли мне поможет даже самый лучший доктор. Всё в воле Божьей. У меня один вопрос: почему паны так долго ждали, чтобы найти Ганульку? Бедному дитяти пришлось пройти через страшные испытания, и никому не было до неё дела.
Гости опустили глаза, Прантиш горько вздохнул:
— Поверьте, если бы мы только знали, что паненка Маковецкая в беде, немедленно бросились бы на выручку! К нам только недавно дошло письмо от княжны Богинской с просьбой узнать о судьбе её камеристки и передать ей ценности для приданого…
Прантиш открыл шкатулку, продемонстрировав, как блестят мониста и браслеты, будто роса на лугу солнечным утром. Но Ганулька осталась безразличной, а пани Гадлевская снова рассердилась, даже закашлялась, и лакей сразу же поднёс ей синий пузырёк с нюхательной солью. Пани несколько раз втянула ароматный запах лекарств.
— Ещё раз говорю – Ганульке подачки не нужны! Бог послал мне в моей одинокой старости ангела – я удочерила Ганну, и всё, что вы вокруг видите, и ещё пять деревень, и две мануфактуры, и лес, и многое другое будет принадлежать ей. Не придётся бедному дитяти никогда больше страдать из-за развратных хозяев. Она теперь – одна из самых завидных невест в Короне, и я позабочусь о её будущем и не дам обидеть никому.
— Тётенька, пан Вырвич меня не обидит, — проговорила Маковецкая, покраснев. И Гадлевская, сурово глянув на Прантиша, позволила доктору проводить себя в спальную комнату для консультации.
Прантиш не знал, как вести себя в новых обстоятельствах, но Ганна сама подошла к нему, несмело улыбнулась.
— А я вот всё думала, как произойдёт наша встреча. Я же мало чего знаю… Из разговоров панны Полонеи только и услышала, что вы и пан Балтромей отправляетесь далеко за море, в опасное путешествие, и панна хочет ехать с вами. А куда, зачем – не говорила.
Прантиш, немного осмелев, принял куртуазную позу, грациозно склонившись в сторону дамы.
–Панна Богинская действительно ездила с нами – в самую Ангельщину. И приключений мы пережили много… И она собиралась возвращаться, но случилась с нею большая любовь – и они с паном Гервасием Агалинским, нашим спутником, вопреки воле наияснейшего брата панны Богинской, поженились и уехали в Америку. Теперь воспитывают дитя.
Прантиш еле сдержал вздох. Нелегко вот так непринуждённо рассказывать, как твоя любимая нашла счастье с другим. Особенно тому, кто посвящён в историю твоих ухаживаний. Щёки Ганны немного порозовели, она бросила на драгуна заинтересованный взгляд.
— А как же вы, пан Вырвич? Вы же…
— Я преданно служил панне Богинской, — Вырвич постарался говорить как можно веселее. – И рад, что она счастлива. А я получил диплом Виленской академии, звание доктора наук философских, потом стал подхорунжим конного регимента великой булавы. Там служу и сейчас… Одинок, но свободен, как ветер.
При известии, что Вырвич больше не кавалер кокетки Полонеи, глаза панны радостно сверкнули… И Прантиш понял: пусть панна стала богатой невестой, не ровня посконнику, пусть научилась держаться, как должно родовитой даме, но сердце её всё ещё принадлежит бедному драгуну…
Худое личико Ганульки казалось грустным, глаза тёмные, большие, с длинными чёрными ресницами, маленький яркий рот, белая кожа… “Да она же премиленькая!” – наконец пришло в голову Вырвичу, ибо такова человеческая натура, что в чертах богатой наследницы всегда можно легко рассмотреть красоту, которая была надёжно спрятана в облике скромной прислуги. Прантиш, как озябшего птенца, взял тонкую ручку панны.
— Давайте же, как старые друзья расскажем друг другу, что за эти годы произошло…
Что-что, а красноречиво рассказывать Вырвич умел. И как они с Лёдником жили на проклятой мельнице, и как Прантиш убил настоящего дракона, и как плыли на корабле, едва не потонули… Рассказала немного и Ганулька. Наёмник Богинских Герман Ватман приезжал в монастырь, привёз с собой пани Соломею. А потом захотел увидеть панну Богинскую, вынужденную перед обручением замаливать в монастыре грехи – а увидел её камеристку. Тогда шум ещё не поднимали, Ватман договорился с игуменьей, и Ганульке только запретили выходить из кельи. Но шло время, панна Богинская всё не появлялась, и когда игуменье сообщили, что и не появится, и обещанного щедрого вознаграждения за то, что принимала под её именем другую, не дождаться – начались Ганулькины страдания…
Дым от трав вился в воздухе, будто танцевали змейки, похожие на вплетённые в парик графини Батисты. Лёдник консультировал хозяйку Лещин, наверное, целый час. Видимо, наговорились обо всём – потому что во время ужина пани Гортензия посматривала на молодого гостя более благосклонно, а уж на доктора – как на старого друга.
— Мне бы только успеть выдать замуж мою доченьку! – объявила пани, вынудив Ганульку покраснеть, а Прантиша почувствовать в сердце болезненный укол ревности. – Пожить осталось немного, доктор Лёдник подтвердит… А покидать Ганульку без защиты нельзя. Она же не из тех бесстыдниц, что платья с обнажёнными грудями носят, да всякие белила, чернила, да краснила, да синила употребляют, прости Господи. Я уже и сватала ей хороших людей… С одним едва не сладилось. Пан Ладислав, сын соседа, единственный у родителей, и красив как Аполлон, и поведения самого пристойного, почтительный, тихий, слова резкого не скажет. Но, конечно, выбирать будет Ганулька. Ведь у девушки могут быть свои сердечные склонности…
Пани бросила многозначительный взгляд на Прантиша, так, что тот едва не подавился куском утятины с имбирным соусом. Неужели у него, загонного шляхтича из Подневодья, есть шанс?
Лёдник сразу же вбросил в копилку свои три шелега:
— Сегодня редко встретишь среди молодых людей человека доброго и совестливого. Я вот уже сколько лет знаю пана подхорунжего Вырвича – и не разочаровался в нём. Род у пана знаменитый – Вырвичи из Подневодья герба Гиппоцентавр, от самого Полемона. Честь свою пан защищать умеет. Человек надёжный, верный. Ведь столько соблазнов в этом мире, и только сильный духом, добрый христианин их отвергнет.
Прантиш ушам не верил. Лёдник что, его сватает? Всегда насмешничал над обожествлением родословных и поиском мифических предков, а тут сам о Полемоне завёл. Добродетели Вырвича, которого в студенческие времена сколько раз в карцер за проказы сажал, хвалит.
Ганулька краснела и внимательно рассматривала небогатое содержимое своей тарелки. Пани Гортензия вздохнула.
— Правду говорите, ваша мость, испортился мир. На смену золотому веку пришёл железный. Даже святое право либерум вето ограничивают! Мой покойный муж, пусть ему на том свете счастье, был образцом сарматских добродетелей. Он служил в суде, начал с подсудка, потом стал судьёй, неутомимым трудом и справедливостью заслужил почёт, а усердием умножил богатство. Оженился он в сорок лет, а до этого с белоголовыми и не разговаривал. Даже меня до венца только два раза, коротко, рядом с родителями видел. И такого человека однажды едва в бездну не заманили.
Пани, подтверждая каждое слово, перекрестилась, заведя глаза кверху, будто с потолка на неё глядел покойник-муж.
— Появился в магистрате сослуживец, распущенный молодой человек, ничего святого. И вот попросил он моего будущего мужа и его друга, такого же достойного и добродетельного человека, помочь бедной вдове с двумя дочерями, которые приехали в Городню, чтобы решить сложное дело о наследстве. А когда муж с другом, полные благотворительных намерений, пришли к тем женщинам, оказалось, это женщины непочтительные, опоили гостей какой-то дрянью… Пробудился мой бедный Ничипор утром без кошелька, в пустом доме на краю города, да ещё с чувством позора… Тот мерзавец, что в логовище греха их заманил, их чистоте завидуя, исчез вместе с грешницами, которым – муж непременно бы добился – на рыночной площади отрезали в соответствии со Статутом уши и носы. И вот пришёл Ничипор с другом в магистрат… И такая жалость на них напала, такие страдания, что давай они плакать и молиться коленопреклоненно… А тогда друг и говорит: “Должны мы искупить свой грех. Давай, брат Ничипор, возьми плеть и отмерь мне пятьдесят ударов, не жалея”. Что мой муж и сделал, а потом сам лёг, чтобы то же наказание получить. Тогда легче обоим на душе сделалось. Вот так раньше сарматские обычаи сохраняли!
Пани даже расчувствовалась от рассказа, вытерла носовым платком слёзы. А Прантиш во время её поучительной истории едва сдерживался, чтобы не захохотать. Вот же святоши те юристы! С пригожими паненками в одном помещении побыли, а потом от ужаса обрыдались, да ещё друг друга высекли. А может, покойный Ничипор всё-таки не все подробности жёнушке рассказал, или сильно рассказ приукрасил? Но Вырвич постарался придать себе самое пристойное выражение – особенно под грозным взглядом Лёдника, отлично помнящего сомнительные подвиги Прантиша на куртуазном поле.
Ценности Богинской решено было всё-таки пожертвовать монастырю, только не тому, где страдала камеристка княжны… А пани Гортензия была готова объявлять обручение – Ганулька, по всему видно, не стала бы возражать, а это для приёмной матери всё определяло, пусть жених не богатый. Наверное, не раз рассказывала пани искренная и доверчивая девушка о своей несчастной любви, так почему не завершить всё счастливым браком?
Но Лёдник напомнил, что у них с паном Прантишем Вырвичем очень важное дело, вот решат его – и обязательно вернутся в Лещины, а пока молодые пусть проверят чувства, возрождённые после долгого расставания.
Вырвич был очень рад такому повороту, так как за несколько часов стать обручённым человеком – это как-то слишком. Хотя ручку панне Маковецкой поцеловал со всей страстью драгунской души. И панна шепнула, что будет ждать.
Когда они, покинув гостеприимные Лещины, скакали через вечерние сумерки, сытые, но не очень пьяные – вино на столе стояло, но какой же разумный жених покажет, что он не слабый питок, Лёдник сказал одно:
— Не будь дураком, Вырвич, не упускай такой шанс. Девушка красивая, скромная, любит тебя так, что даже не упрекнула. И богатая настолько, что бросишь ты спокойно военную службу и будешь под боком красивой жёнушки стихи писать и детям о собственных авантюрах рассказывать. Пани Гортензия более двух лет, к сожалению, не протянет. Станешь хозяином. И то, что ты православный, а Ганулька униатка, не преграда, родители девушки православными были, фанатизма ни у тётки, ни у племянницы никакого нет, с Божьей помощью всё наладится. Тебе, пан Вырвич, Фортуна улыбнулась!
Помолчал и добавил:
— И бедной Раине Михалишивне голову не дури. Она, как побитый котёнок, к тебе привяжется, а ты с ней только побаловаться можешь. А ей и так в жизни достаётся. Я знаю, как это, сам был рабом. Когда надевают ошейник на человека, который умеет мыслить и творить, и прикоснулся к мудрости просвещения, и чувствует, что такое достоинство – это иногда хуже смерти. И ещё одно предательство может стать тем камнем, после которого и без того перегруженный челн опустится на дно безнадежности навсегда. И не вздумай о своём жениховстве даже вякнуть. Ты же должен казаться влюблённым в графиню Батисту…
Прантиш понимал, что Лёдник прав. И ничего против Ганульки Маковецкой не имел. Но чего-то не хватало, чтобы опьяняющее счастье ударило в голову, как шампанское, чтобы не тянуло попробовать каких-то иных стёжек-дорожек. На одной из тех дорожек светились прозрачно-зелёные глаза Раины Михалишивны, на другой – голубые шаловливые глаза Полонеи Богинской… Да и корчмарку Ривку из Вильни не хотелось забрасывать насовсем… А придётся. А может, на какой-нибудь из стёжек на Прантиша Вырвича благосклонно глянут глаза ещё не встреченной королевны?
— Романтика из глупой головы не выветрилась, — поставил диагноз Лёдник. – Пойми, в окна паненок шастать, да у корчмарок на дармовщинку пиво выпрашивать всю жизнь не будешь. А поскольку из одного цветка дважды яблоко не поспеет, не допусти, чтобы кто-то другой его сорвал. Ибо пани Гадлевская призналась, что до следующих Покровов собирается Ганульку замуж выдать, и слово у неё на это взяла. Тот сосед, пан Ладислав, не так уж богатой невесте неприятен.
Вырвич снова получил укол в сердце – а это на чувства действует как на красные угли подуть, — и торжественно пообещал, что он не дурак, и счастья не упустит. Вернётся к Ганульке Маковецкой, только вот отправят Шредера за море.
В имении, куда привёз их Шредер, было темно и тихо, как на дне морском – ничего удивительного, ночь на дворе. Загостились драгун с бывшим алхимиком.
Поэтому Прантиш, как только вошёл в отведённую ему комнату – на мансарде, почти что на чердаке, упал на кровать, лёжа стянул кое-как с себя сапоги… Хорошо, что в Лещинах вином не наугощались, а то бы сейчас голова гудела, как сброшенная с дерева борть.
За окном, как профессор на студентов, не подготовленных к практическим занятиям, ворчал дождик. Один раз он ударил в стекло особенно громко. Так, что Прантиш, окутанный первой сладкой дрёмой, с досадой проснулся. Теперь стукнуло так, как не мог бы сделать своей прозрачной лапой дождь. Спросонья Вырвич даже перепугался: кто может стучаться в окно под самой крышей, ночью, в ливень? Птица? Или… призрак? Русалка? Ночница? Кикимора? Домовой?
А за стеклом что-то шевелилось и будто слышался голос… Не птица, нет… Значит, нечистая сила!
Но неужто отважный драгун герба Гиппоцентавр испугается привидения?
Вырвич перекрестился, схватил саблю и на цыпочках подошёл к окну.
— Пан Вырвич, откройте!
Голос Раины Михалишивны? Или её бестелесной субстанции? А может, она – ламия, граф Батиста вполне мог превратить красавицу в ночное чудовище, которое ночами высасывает кровь из доверчивых мужчин… А может, Михалишивна, пока они ездили, умерла, и её неспокойный дух захотел посетить молодого шляхтича?
По стеклу снова забарабанили тонкие пальцы:
— Да впустите же меня, ради Господа нашего Иисуса Христа!
Прантишу стало стыдно за свой страх – он вспомнил, как когда-то его самого принимали за призрака. И однокурсник по Менскому коллегиуму иезуитов Михаська Мицкевич боялся открывать окно конвента, пока Прантиш не назвал имя Господне.
Рамы, к счастью, не были заколочены, но открывалась только нижняя часть, с двумя стёклышками. В такое отверстие только птица и пролезет… Или тоненькая акробатка.
— Не зажигайте огонь!
В комнату проскользнула гибкая фигура. Прантиш схватил привидение за руку: холодная, мокрая – но живая! Графиня Батиста!
А та тихо засмеялась.
— Да не привидение я, пан Вырвич, я на минутку, мне необходимо вас предупредить…
Прантиш обрадовался, что во тьме не видно, как он краснеет. Но похоже, что девушка проскользнула в его комнату одетая только в шёлковую рубашку. Вымокла вся… А как она пробралась в окно? По стене вскарабкалась?
— Так есть узкий карниз, — прошептала Михалишивна, как будто умела читать мысли. – А я ловкая. Батиста меня запер, поэтому и пришлось…
Где-то отрывисто взбрехнула собака, эдакий собачий тиун, подавая знак, что за всем следит, и девушка вздрогнула.
— Решила не откладывать разговор – мало что… Пан Вырвич, когда приедем в Лебу, вас позовут за прощальный стол. Ничего не ешьте и не пейте.
— Почему? – Прантиш приобнял Михалишивну – тоненькая, но крепкая, как лоза, мокрая шёлковая ткань скользила под рукой, будто обнимался с русалкой.
–Вас с доктором хотят опоить и затащить на корабль, увезти в Италию.
Прантиш похолодел. А он поверил, что всё так просто закончится.
— Зачем?
— Не знаю… — Михалишивна судорожно вздохнула. – Возможно, просто боятся, что вы слишком много знаете.
— А откуда у тебя такие сведения?
— В хрустальном шаре увидела, — тихо засмеялась девушка. – Ну, конечно же, подслушала. Будьте осторожны, пан Вырвич. Всё, мне пора.
Раина неожиданно коснулась губами губ Прантиша – легонько, как лепесток цветка – выскользнула из объятий драгуна и снова исчезла в дожде и тьме.
Прантиш высунул голову в окно – почти ничего не было видно, только угадывалось, как двигается вдоль стены светлая тень.
Вырвич затворил окно, его начинало трясти – от гнева и непонятной тоски. Возможно, счастливая семейная жизнь шляхтича Вырвича может не состояться… Теперь нужно стараться избежать отравы, подлитой в кофе или подсыпанной в бигос.
Да ещё хоть бы отчаянная Михалишивна не попалась своему хозяину. Ишь, какая… Ни огня не боится, ни воды, ни высоты. Хотя панна Полонея Богинская тоже была ловкая, как мальчишка. И на коне скакать, и через стену перелезть, и с кинжальчиком управиться…
Вырвич вздохнул. Но воспоминание о голубоглазой княжне уже не так резало сердце, острота утраты затупилась, как карандаш, которым чересчур много писали одно и то же, подсчитывая потери. Прантиш тронул пальцем губы, там, где его поцеловала Михалишивна, потому что всё ещё чувствовал касание – хоть сама вымокла под холодным дождём, а губы тёплые. Наконец, это первый случай, когда в окно к Вырвичу, рискуя, залезла девица – раньше он сам неоднократно совершал такие подвиги. Когда она узнает о его жениховстве – как это её затронет? Вот Ганулька всё бы простила. Все стерпела… Наилучшая литвинская жена для воя. Как в сказке: пришёл муж, поменяв корову на мешок с гнилыми яблоками, а она только радуется.
Хотя, быть может, полезней всё-таки было бы погонять малохольного супруга чапельником.
Заснул драгун, только на всякий случай пододвинул к дверям тяжёлый сундук. Кто озирается, тот не кается. Завтра с самого утра нужно переговорить с Лёдником, “сватом” своим. Кто бы мог подумать, что приобретённый за шелег холоп будет когда-то посажёным отцом на свадьбе своего хозяина!
А никого другого на этом месте Прантиш Вырвич представить не мог и не хотел.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. БЛУЖДАЮЩИЕ ДЮНЫ И ДУЭЛЬ ЛЁДНИКА
Повсюду, куда достигал взгляд, высились горы белого песка, только на севере вместо них пело свою извечную песню море. Серое, в мелких морщинках, кое-где обозначенных белыми мазками. Ветер дул так, что иногда будто от быстрого бега спирало дыхание, и оставлял во рту, в волосах колючие песчинки. На фоне белого песка чёрные мёртвые деревья, склонённые все в одну сторону и будто обгоревшие, смотрелись, как наказанные грешники в аду.
— Здесь ещё не так давно был лес… — промолвил пан Кароль Рысь, встретивший странников в Лебе, обеспечивший жильём, и вот – потащивший смотреть местные достопримечательности. – Они двигаются… Эти дюны… И всё на своём пути уничтожают, будто лава во время извержения вулкана.
Пан Рысь, лет тридцати, высокий, плечистый и красивый, был одним из альбанцев, говорили, что он удалой и сильный не меньше Михала Володковича, расстреляного в Менской ратуше. Чёрные усы пана торчали на одной линии параллельно земле, и на бледном от природы лице казались приклеенными. Даже здесь пан был в любимом мундире Виленского воеводства: тёмно-синий кунтуш, жупан с красными отворотами, белая шапка с каракулем, бурка, желтые сапоги.
— Так что, эти пески и город засыплют? – удивился Прантиш.
— Уже засыпали, — объяснил альбанец. – Город раньше был здесь, дома стояли… Потом люди перебрались дальше. Потому что не могут человеческими усилиями сдержать гнев Божий…
Пан показал на ровные ряды забитых в песок деревянных свай, окованных железом.
— Вот так и нас уничтожают, сминают и превращают в жалкие руины! – с пафосом, как на сойме, промолвил альбанец. – Подумайте только – поляки не захотели поддержать пана Кароля Радзивилла, потому что он больше любит белорусов, литвинов, в Варшаве тоскует по Несвижу. Мол что за король, который одну половину королевства любит больше, чем другую. И мы получили на свою шею Телка! Поэтому скоро со всем государством будет как здесь – посмотрите, столетие назад здесь стоял костёл!
Через песок краснели кирпичные очертания фундамента, будто засохшая кровь. Казалось, этим руинам не менее тысячи лет. Прантиш смотрел вокруг и силился запомнить строчки, сложившиеся в голове – записывать на глазах у всех было неудобно, это Удальрик Радзивилл мог остановиться посреди зала с родовитыми гостями и царапать в раптуляре продиктованное вдохновением, не обращая внимания на насмешки и вопросы. Но на то он и магнат, могущий быть хоть жестоким тираном, хоть чудаком, заказать портрет несуществующей идеальной дамы и сутками распевать картине мадригалы. А Вырвич – бедный шляхтич и никому не известный поэт, к которому просто приходят стихи.
…Дюны идут. Поглощают дома и костелы,
Путь означая надгробьями черных стволов.
Волны морские все жаждут простора и воли,
И наступает все далее царство песков.
Белый песок, а за ним – темно-серые воды.
Царство песка почитает весь берег своим.
Ну и зачем возводили мы храмы свободы,
Если судьба оказаться под дюнами им?
— Отличные декорации! – промолвил граф Батиста. Ветер раздувал его чёрный плащ так, что, казалось, маг сейчас превратится в летучую мышь и взлетит в серое небо. – Ты согласна, миа кара?
Тоскливо закричали чайки. Михалишивна, напоминающая в алом плаще удивительный цветок среди мёртвого сада, с наслаждением вдохнула холодный морской воздух.
— Да, именно в подобных местах должны разыгрываться самые большие трагедии!
— Ну что же, — промолвил Батиста, отворачиваясь от порывов ветра, — подари нам необычное впечатление. Думаю, ария Дидоны, покинутой Энеем, здесь прозвучит кстати… Стань вон там, на откосе, у дерева!
Михалишивна покорно склонила голову и, проваливаясь по щиколотки в песок, взбежала на откос дюны – Прантиш даже не успел предложить ей руку.
— Осторожно, здесь местами можно ввалиться, как в трясину! – предупредил Рысь, но Михалишивна уже застыла на месте.
— Ей будет тяжело петь, пан Батиста! – мрачно промолвил Лёдник. – Сильный ветер, к тому же с песком… Она может повредить связки!
— Серафина сильнее, чем вы думаете, — насмешливо ответил маг. – Она владычествует над стихиями…
–Как только человек решает, что над чем-то владычествует, Господь тут же доказывает ему обратное, — отрезал доктор.
— С такими взглядами васпану лучше было бы в монастыре, — не пряча раздражения, ответил Батиста. А Прантиш и пан Рысь смотрели на актрису: она некоторое время постояла около чёрного наклонённого дерева, положив на него руку и о чём-то думая… А потом, когда вскинула голову, с которой сняла шапку, и чёрные волосы её летели по ветру, и парил красный плащ – драгуна как по сердцу резануло… Это была уже не крепостная актриса и не ассистентка пройдохи-фокусника, а царица Карфагена Дидона. Брови трагично выгибались над глубокими горестными глазами, белые тонкие руки в отчаянии сжимались.
–Когда на город, грешный и развратный,
Боги обрушивают гнев – взрезают землю
Расщелины, в колодцах – желчь и уксус,
И горе тем, хто только что родился…
Моя душа – точь в точь проклятый город…
Из ран надежды льется, льется кровь,
И желчь измены жжет, и очи слепнут
От соли слез… Любовь, проклятье ты!
Слова, возможно, были не самые изящные, но об этом не думалось. Потому, что чувство, вложенное в них, было настоящим. Прантиш вспомнил, как Михалишивна играла в Слуцком театре – и тогда её мастерство очаровывало, а с тех времён оно ещё возрасло. Её голос был глубокий и мощный, без дрожания, которое часто портит самый лучший тон. Батиста поглядывал на Прантиша и пана Рыся с видом князя Радзивилла, демонстрирующего гостям свою, набитую под потолок, сокровищницу, уверенный, что те просто не могут не поразиться, и более всего на свете желают заиметь хоть часть увиденного…
Михалишивна закончила петь, грациозно раскланялась… Её красный плащ парил, как парус.
— Ну как, панове? Чудесное зрелище? – удовлетворённо спросил итальянец, чей парик на фоне серого неба и белого песка казался грязно-серым, будто им вытирали пыль.
Пан Рысь подкрутил усы, от чего их кончики воинственно приподнялись.
— Целую пани ручки и ножки… Вам повезло, пан Батиста, владеть такой красавицей… У меня даже слёзы на глаза навернулись. Хотя моя милая жёнушка у меня слёзы ещё вернее добывает.
Альбанец весело и мечтательно рассмеялся своим воспоминаниям.
— А что, пани Рысь тоже красиво поёт? – пряча раздражение, спросил итальянец, который, наверное, рассчитывал, что египетская принцесса заодно с драгуном очарует и альбанца, раз воздействовать на упрямого Лёдника – это было ясно с самого начала – бесполезно.
Пан Рысь гордо улыбнулся.
— О, моя Магдуля умеет всё! Она, панове, амазонка, Диана, королевна моя! Я же её отбил у одного мамкиного неженки, сметанника… Я на сотне дуэлей дрался, и во всех победил! А тот без тёплого кафтанчика и летом не выходил. А Магда в бекаса на скаку попадает! Мы с нею – подобранная пара… Так вот, понравилось мне одно развлечение – стрелять по каблукам жёниных туфелек… Ну так мило получается… А послушать потом жёнушку и оплеуху получить, и поцелуем извиняться – милота! – лицо пана Рыся расплылось в улыбке. – А она сейчас в тягости, то запретила мне эту игру… А на днях не выдержал я… Были мы в опочивальне, а Магдулины черевички так соблазнительно у дверей стоят… Прицелился… А жёнушка хватает со стойки второй пистолет: “Если васпан мой каблук отстрелит, то я ему таким же образом пояс развяжу!” Выстрелил… А тогда и она… Я боком к ней сидел, а пуля мне пояс и развязала!
Пан счастливо рассмеялся, а Прантиш невольно взглянул пану на живот, будто там хотел увидеть дырку. Батиста криво усмехнулся, осознав, что альбанец искренне влюблён в жену, и порулить им через египетскую принцессу не удастся.
Лёдник подошёл к Михалишивне, улыбка её стала принуждённой. Похоже, доктора актриса боялась не меньше, чем мужа.
— Я бы не советовал пани в ближайшее время петь на холоде. Я замечаю приметы простуды. Передам лекарства, а то воспаление перейдёт глубже, к бронхам. И посидеть бы вам в тепле несколько дней…
— Я сам в состоянии вылечить свою жену, — тут же отозвался Батиста, его серые, широко расставленные глаза были колючие, как сосульки. Чайки закружились над серыми волнами и закричали особенно жалобно, словно люди, вернувшиеся в родное селище и увидавшие одни пепелища. Лёдник не стал спорить с итальянцем, пожал плечами и отошёл. Он отлично знал, что когда заступаешься за невольника перед его владельцем, он сорвёт гнев на том, за кого ты заступался.
А Михалишивна вдруг засмотрелась на чаек, раскинула, как крылья, руки, засмеялась и затанцевала, имитируя порывистые движения крылатых горемык – красно-чёрная птица, сбитая на белый песок… Артистка, что с неё взять! Но была в этом такая юная дерзость и красота, что даже Лёдник улыбнулся. In arte libertas!
Батиста, правда, скривился и злобно сверкнул глазами – наверное, за то, что забыла о достоинстве египетской принцессы. Снова достанется дочери кричевского оружейника. А белые горы медленно продолжали своё движение, и что им было до букашек, которые шевелятся на их спинах, думая, как обмануть друг друга.
Дом, который они занимали, находился у самого моря, на отшибе. Одноэтажный, но длиннющий, как королевские конюшни, с высоким основательным забором, он не казался особенно богатым. Но был странный внутри: будто кто-то вывалил телегу магнатских вещей в хату посконника, чтобы украсить непривычный для себя бедный быт. Деревянная, неряшливо изготовленная скамья – а рядом столик изящной работы из красного дерева. Стена из голых брёвен – а на ней вдруг итальянский пейзаж в золочёной рамке.
Пан Шредер, с которым встретились за ужином, со всегдашней ласковой улыбкой объявил, что корабль опаздывает из-за неблагоприятной погоды, но будем молиться, и дело получит достойное завершение.
Значит, пока можно смело ужинать: отраву подсыпать рано.
Стены зала были завешаны гобеленами с изображениями сцен Хотинской баталии, когда войско коронного гетмана Яна Собеского разбило войско Гусейн-паши – ещё одно проявление неуместной в скромном строении дворцовой роскоши. В бою под Хотином погиб прадед Вырвича, но саблю его, Гиппоцентавра, напоённого вражеской кровью, боевые товарищи передали семье погибшего, и была она сейчас у Прантиша, последнего из рода.
На гобелене гусары Яблоновского неслись в атаку, за их спинами бились и гудели крылья на проволочных каркасах, кони покрыты лемпардовыми шкурами… Эх, славная была битва! Не брат на брата шёл…
Пан Рысь осушил третий фужер вина, стукнул рукою по столу.
— И корона, благословлёная Папой, найдёт, наконец, достойную голову! Qui desiderat pacem, praeparet bellum!(Хочешь мира – готовься к войне. – лат.) Я привёз сюда сто тысяч дукатов – собрал со всех своих имений и с имений моих братьев альбанцев, чтобы передать пану своему Каролю Радзивиллу, и когда нужно будет заложить последний серебряный кубок – заложу. Это же отличная идея – открыть в Риме кадетский корпус! Станислав Лещинский создал же такой во Франции, в Люневиле… Пусть хоть далеко от Родины воспитываются настоящие патриоты!
Строгие взгляды Шредера на пана Рыся влияния не заимели. Он, особенно подогретый мальвазией, считал, что находится в компании единомышленников, и не собирался ничего утаивать.
— А кто более достоин? Князь Михал Богинский, который о той же короне мечтал, с Телком дружит, и говорят, завёл себе любовницу-мужичку, за чьё сердце они сейчас борются с Понятовским. Вот же благородные особы! Александр Сапега принял булаву велкого гетмана – и радуется, как дитя, получившее игрушку. Только пан Кароль – настоящий шляхтич, хранитель сарматских традиций! Помню, как в юности очутились мы с ним за одним столом. Я – сын слуцкого органиста, он – сын князя. И пан Кароль сказал, что мне к лицу не шляхетская шапка, а докторантка, которые носят органисты. А я вызвал его на дуэль, ибо и я шляхтич такой же, как он! Подрались хорошо… И мне уважение от пана Кароля было – за смелость. А после, когда умер его дядька, пан Героним Радзивилл, покровительствовавший мне, пан Кароль взял меня к себе, и принял в альбанскую банду. И милостями своими одаривал…
Три человека за столом почувствовали себя не лучшим образом. Значит, пан Рысь при Герониме Радзивилле бывал в Слуцком замке и мог видеть там Прантиша и Балтромея, которые, освобождая Соломею Ренич, тот замок едва на кусочки не разнесли. И актрису Михалишивну мог узнать… Но если бы такой заметный пан тогда в замке присутствовал, Прантиш обязательно бы его запомнил! Видимо, разминулись они с ним, слава святому Франтасию…
— А вот колдунов пан Героним не любил! – как по заказу, заявил пан Рысь, подымая четвёртый бокал и бросая быстрый взгляд на Батисту. – Колдунов у нас на цепь в подвалы садили. Они брата пана Геронима, князя Мартина, с ума свели!
О колдунах на цепи Прантиш и Лёдник знали превосходно. Оба в слуцких подземельях побывали. К счастью, Батиста, почувствовав выпад в свою сторону, вместо того, чтобы помолчать, слишком разозлился.
— Есть колдовство, а есть высокие духовные практики! – завёл он. – Не каждому просто под силу их осмыслить. Меня приглашали проводить сеансы королевские фамилии Европы! Я показывал то, чему научился у бестелесных субстанций, перед его мостью Августом ІІІ, перед их мостями французским королём и герцогом Бранденбургским, меня приглашает к себе российская императрица, и в домах их мостей Радзивиллов я с успехом выступал, и слышал одобрение и встречал уважение!
Пан Рысь глядел зелёными бешеными глазами – он только что осушил пятый бокал, и Пранцысь понимал, что пан ищет только самое малое основание, чтобы схватиться за саблю.
— В Варшаву приехал ваш земляк, эдакий франт Казанова. Тоже приняли его в лучших домах, даже Телок-Понятовский приголубил… Что меня не удивляет, так как Телки – не самая древняя шляхта, и нюха на благородную кровь не имеют. Из-за какой-то итальянской балерины Казанова поссорился с князем Браницким, подстолием, и вызвал на дуэль… Да не на честных саблях дрались, а на пистолетах! Несчастный князь был коварно ранен в живот – лежит теперь, доктора не знают, оправится ли. Тогда начали выяснять, что за персона может статься причиной смерти подстолия воеводы. И что бы вы думали? – пан Рысь выхлебал ещё один бокал, вытер капли с усов, которые начали устало обвисать. – Выяснилось, что Казанова – даже не шляхтич, а обычный мошенник, пройдоха, в Италии сидел в тюрьме за поругание благородной девушки, из Франции убежал, так как украл деньги… Конечно, все двери после таких сведений перед жуликом закрылись, и он быстренько уехал. А Браницкий ещё и благородно просил, чтобы его возможного убийцу не преследовали. Я бы с тем Казановой сабли не скрещивал! Я бы его на земле разложил, да приказал сто ремней всыпать!
Батиста немного побледнел и прикусил губу. Пан Рысь всмотрелся в него мутными зелёными глазами и разочарованно отвернулся, поняв, что этот саблю не выхватит, хоть ты его вином облей. Теперь под прицел попал Лёдник.
— Не признаю, как и князь Кароль Радзивилл, новой шляхты. Но знаю, что пан Лёдник заработал шляхетство в соответствии со Статутом, на поле боя, спас жизнь великому гетману, светлой памяти его мости Михалу Радзивиллу, отцу пана Кароля. Видел пана Лёдника на поминках гетмана в Вильне… Наверное, пан хорошо владеет саблей? Тогда почему он не пошёл служить своему благодетелю, как шляхтич? В войско? Неужели клистирная трубка достойнее честного оружия?
— Пан Лёдник – знаменитый учёный, — вмешался Вырвич. – Он лечил пана Михала Радзивилла!
— Вот оно что… — угрожающе промолвил Рысь. – Очевидно, доктор вы еще хуже, нежели фехтовальщик.
— Всё в воле Божьей. Я лечу всех одинаково, и нищего, и князя, вкладывая всё своё умение. Видимо, я был не достоин того, чтобы через меня Господь дал исцеление моему благодетелю, из-за чего я искренне печалюсь.
Лёдник смотрел в тарелку и казался каменным памятником, почему-то решившим поужинать. Прантиш знал, что доктор разгневан, но знал, как сын полоцкого кожевника не любит обычая шляхты, подвыпив, цепляться друг к другу, чтобы показать молодцеватость и подраться. Он часто говорил, что от глупой смерти не спасёт даже совершенное умение – ибо и кочерга однажды стреляет.
Рысь какое-то время сидел, уставившись в доктора глазами, которые казались уже не зелёными, а жёлтыми, как у настоящей рыси. Лёдник ковырялся ложкой в гуляше, желанная дуэль снова срывалась. Тогда пан перевёл глаза на Прантиша.
— А откуда родом пан Вырвич? Какими имениями владеет?
Праниш почувствовал, как загорелись щёки, застучала в виски кровь. Сколько насмешек пришлось ему вытерпеть в юности за то, что беден, что вместе с отцом пашет поле! Поэтому подобные обвинения падали на его сознание, как вода на раскалённую сковородку. Лёдник поспешил перевести разговор на последний сойм – тот, где ограничили либерум вето, вызвав недовольство шляхты, но и россейцев с прусаками разозлили, так как это означало, что новый король вопреки договору всё-таки решился на реформы, и страна, которой суждено сгинуть, может укрепиться. Упоминания о сойме обычно сразу же вызывали бурю, но пан Рысь был слишком пьяный, и видел перед собой одну цель: подраться.
— Почему пан Вырвич мне не отвечает? Он стыдится своего рода?
Прантиш отодвинул тарелку, Ян Собесский на гобелене замахнулся саблей на турков.
— Я – Франтасий Вырвич из Подневодья, герба Гиппоцентавр, последний в роду, который идёт от самого Полемона. С нами в родстве князья Слуцкие и Острожские…
— А они об этом знают?
Это было настоящее оскорбление, которого ни один настоящий шляхтич стерпеть не может. Вырвич, сжав зубы, поднялся, чтобы взять саблю, оставленную вместе с оружием других гостей на специальной подставке у двери – по обычаю за стол с оружием не садились, потому что тогда бы в бокалы слишком часто наливалась тёплая кровь.
Наконец вмешался Шредер… Но его слова с пана Кароля Рыся стекали как вода с воска.
— Ты, монах, молитвы свои читай, а в шляхетские дела не лезь.
Вот тут, наверное, Шредер пожалел, что лишился воинственного Зигмунта Гросса.
— А не станцевать ли мне для благородной компании? – вскочила с места Михалишивна. – А пан Рысь будет моим кавалером… Я уверена, что ваша мость умело танцует…
— Египетских плясок не умею, — язвительно ответил Рысь, даже не переведя взгляд на красавицу. – А вот пан Вырвич, похоже, захотел со мной потанцевать…
Вырвич уже схватил свою саблю, но перед Каролем Рысем вырос Балтромей Лёдник.
— Я не только клистирной трубкой владею, ваша мость. Хотя вам не помешало бы хорошо промыть… только не внутренности, а мозги.
— Бутрим, не вмешивайся! – крикнул Прантиш. – Он меня оскорбил!
— Но меня он оскорбил первым. Правда, ваша мость? – спокойно промолвил доктор. Рысь довольно ощерился, один ус у него снова торчал воинственно, второй был опущен.
— Готов сейчас же удовлетворить обиду васпана!
Альбанец был пьяный, но не так, чтобы шататься. Наоборот, предчувствие скорой стычки будто протрезвило пана, глаза его блестели, ноздри раздувались… Сразу было видно, что сейчас он – в родной стихии, как форель в водопаде, и никакие уговоры не подействуют.
— Только у меня одно условие, — твёрдо сказал доктор. – Когда я три раза подряд выбью саблю из руки васпана, он попросит прощения у пана Вырвича.
— Три раза? – пан Кароль захохотал, схватившись за пояс, будто увидел, как заяц нюхает табак. – Ну, если это невероятное осуществится, готов попросить прощения и у пана Вырвича, и у тебя, и больше с вами обоими на дуэлях не драться – потому что только нечистая сила может дать подобное умение, а против нечистого только наш князь Кароль Радзивилл способен выстоять, а не мы, простые шляхтичи.
Пане Коханку, как известно, любил угощать гостей и придворных байками о собственных приключениях, как нарожал с русалкой селёдок или выбрался из битвы на половине коня, а также о своём победном бое с нечистым. Чем сбил с толку когда-то своего друга Володковича, который возжелал совершить подобные же подвиги и пьяный бегал ночью по кладбищу, вызывая соперника с рожками.
Гусары на гобеленах скакали всё так же воинственно и неумолимо, сминая кучку врагов в тюрбанах. Шредер недовольно хмурился, но молчал.
— Пошли во двор! – альбанец взял саблю и двинулся за дверь. Граф Батиста с удовольствием остался бы в комнате со Шредером, но никуда не денешься, когда выдаёшь себя за графа – у благородного лица свои обязанности. Пошла с мужчинами и встревоженная, побледневшая Михалишивна.
Земля размокла от дождя, от травы осталась только рыжая каша. Лёдник стоял в расслабленой позе, опустив саблю, чёрные пряди волос закрывали его мрачное худое лицо. Пан Рысь снисходительно смотрел на соперника, не вызывавшего никакого опасения. И, когда Прантиш подал знак сходиться, альбанец даже не понял, как это его сабля оказалась на земле. Покраснел, как кармазиновый жупан, потряс рукой, схватил своё оружие и бросился на доктора, стоящего напротив со скучающим видом.
Клинок снова воткнулся во влажную землю, эфес закачался, как будто от ветра.
Теперь наблюдать за дуэлью было интересней любого сеанса магии. Виленский доктор двигался стремительно, не уследишь, это действительно напоминало грозный танец. Сабля разъярённого пана Рыси снова вылетела из руки хозяина, тот и сам несколько раз упал, не в силах сдержать врага или хотя бы успеть за ним. Жёлтые сапоги пана теперь были жёлтыми только частично, окрасившись в плебейский цвет почвы.
Наконец запыхавшийся пан, вынужденный вертеться волчком, упал прямо на то место, под которое благородной особе на твёрдую скамью подкладывают бархатную подушечку. Тут же где-то рядом закукарекал петух, ему ответили товарищи по всей Лебе, будто птичье войско проводило перекличку перед решительным боем со всеми поварами мира.
— Три! – победно выкрикнул Прантиш, на всякий случай не убирая руки с эфеса своего Гиппоцентавра. Мало чего сейчас выкинет этот сумашедший!
Но пан Рысь встал, кряхтя отёр рукавом вспотевшее лицо, поднял предательскую саблю, сунул её за пояс и помотал головой, как человек, только что пробудившийся от ночного кошмара и пытающийся быстрее вернуться к яви. Доктор стоял, как ни в чём не бывало, его сабля тоже находилась за поясом, руки скрещены на груди, лицо спокойно-брезгливое.
— Надо же, ни капли крови… Что же это за бой, в котором кровь не пролилась! – немного обиженно промолвил пан Рысь, как малыш, убедившийся, что оловянный солдатик сам не ходит.
— Васпан недоволен? – холодно проговорил Лёдник. Рысь шумно вздохнул.
— Договор есть договор, шляхтич слово сдержит, даже если за это ему в чистилище пятки поджарят.
Повернулся к Прантишу, торжественный, как штандарт.
— Пан Вырвич, приношу своё искреннее извинение. Не сомневаюсь, что ваша мость имеет самых благородных предков.
И снова посмотрел на доктора.
— И перед васпаном извиняюсь. Признаю, что пан умело владеет не только клистиром, но и саблей.
Махнул рукой и даже застонал от отчаяния.
— А я слово дал, что с паном больше драться не стану! А как же я хотел бы ещё испытать ваше мастерство!
Лёдник пожал плечами.
— Для этого не обязательно сходиться в дуэли. Я могу просто пофехтовать с паном ради взаимного тренинга.
Лицо Рыси посветлело, усы воинственно натопырились.
— Воспользуюсь любезным предложением вашей милости!
— Только не сейчас, — поспешно промолвил Лёдник. – Давайте пойдём в дом – а то графиня Батиста совсем замёрзла.
И правда, Михалишивна выбежала из дома в одном платье, и теперь обнимала себя тонкими руками, пробуя согреться. Граф Батиста, поняв, что выглядит не очень галантно, подошёл к жене, накинул на неё свой плащ, обнял за плечи и повёл в дом. А пан Рысь, видимо, проникшийся самыми тёплыми чувствами к своему недавнему противнику, потребовал от того отметить счастливое окончание битвы. Рука пана, из которой выбивали саблю, была всё-таки повреждена, Лёдник поставил диагноз – растяжение связок, наложил плотную повязку, и пан Рысь заверял, что наилучшие соперники на дуэли – это доктора: сам ранит, сам вылечит.
Напоить доктора не удалось, он ограничился полезным для пищеварения свекольным квасом, но зато пан Рысь, измождённый упражнениями, которые показал ему Лёдник, утешал себя как мог, и мальвазией, и медовухой, и можжевеловым ликёром крамбамбулей, и в кровать пана отнесли слуги. А доктор подготовил отвары Шредеру и ещё с помощью Прантиша передал зелье Михалишивне. Батиста будто бы случайно время от времени оставлял молодого драгуна со своей женой, что было приятно – почему бы лишний раз не подержаться за белую ручку, и немного неудобно – как щуке, которая осознала, что соблазнительный кусочек пищи, который сам просится в пасть, неотделим от стального крючка.
Море шумело, будто недовольные своей судьбой водяные и русалки проводили сойм и никак не могли придти к единому решению – как ловчее затопить надоевшую сушу холодными волнами. Белые дюны неумолимо и незаметно приближались к человеческому жилью, подобно сухим травинкам ломая вековые сосны.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. КАК ПРАНТИШ ВЫРВИЧ ВИНА НЕ ПОПРОБОВАЛ
Прантиша разбудил толчок в плечо. Над драгуном в тусклом свете утра, серого, как небеленый лён, стояла Михалишивна, закутаная в красный бархатный халат, расшитый чёрными драконами.
— Пан Прантиш, корабль пришёл!
Девушка шептала еле слышно, но была не напуганная, а напряжённая, как перед битвой. С соседней кровати приподнялся Лёдник.
— Кажется, я на ночь запирал двери…
Михалишивна молча повертела в пальцах шпильку – похоже, она перестала бояться злого доктора. Лёдник улыбнулся.
— Ясно… Замки для нас не преграда. Где Батиста?
— Запер меня и куда-то потащился со Шредером. Старый идти не мог, так двое слуг на носилках понесли.
Вырвич посмотрел в окно, за которым серое небо сливалось с морем и чернели на светлом песке рыбацкие лодки, будто чьи-то одинокие сны. От причала, где стоял корабль, к их дому шли люди… А вот и носилки… Возвращаются голубочки иезуитские.
— Нам нужно послушать их разговор, — сурово сказал Лёдник.
Михалишивна на мгновение задумалась, потом мотнула головой, и её чёрные волосы рассыпались по плечам – а благопристойная паненка обязательно перетянула бы их лентой, невольно пришло в голову Прантиша.
— Пошли в мою комнату, там слышно и видно всё, что делается в зале, а они обычно там и переговариваются. Только тихо…
Прантиш успел на скорую руку смастерить из одежды и мехов чучела и сунуть их под одеяла, Лёдник покрутил головой, но школярские штучки высмеивать не стал. Сколько раз в Вильне, в доме с зелёными ставнями, приходя будить студиозуса Вырвича, чтобы не опоздал на занятия, находил такую вот имитацию. Волк каждый год линяет, но нрава не меняет.
В комнату актрисы слуцкого театра можно было пройти только через зал, где остановился Батиста – фактически, апартаменты Раины были или гардеробной, или чуланом для прислуги. Тесновато, бедновато, из роскоши только маленький серебряный кувшинчик для умывания, который выглядел совершенно нелепо рядом с глиняной щербатой миской, как разбогатевший родственник на крестинах у своей вдрызг обнищавшей родни. Странно выглядели и клетки со змеями. Одна тварь, здоровенная, зелёная, лежала себе, как пьяный мельник, а маленькая чёрная, которую Михалишивна обычно носила на шее, зловеще ползала по своей тюрьме, даже не по себе делалось от её упругих движений.
— Туда станьте! – шепнула Михалишивна, и драгун с доктором послушно вжались справа от двери в завешенную грубым выцветшим сукном нишу для одежды, которая заменяла шкаф. Теперь, даже если бы Батиста внезапно распахнул дверь к своей наложнице, оставалась надежда, что гости останутся незамеченными. Но у Михалишивны был и ещё один секрет: в стене между двумя брёвнами светилась проделанная щель, с той стороны завешанная кружевами. Похоже, как раз под иконой Божьей Матери. Опытная шпионка повсюду найдёт удобное место для слежки.
Наряды, яркие, пёстрые, пропахшие экзотическими травами, были пригодны для выступлений, но стоять, уткнувшись в них носом, не очень удобно. Тем более страшно клонило в сон: хоть бы глоток кофе… Прантиш задавил зевок, втянул носом слащаво-горьковатый запах платья… И почему-то даже голова закружилась, представилось, что под тканью упругое горячее тело. Лёдник толкнул драгуна в бок: послышались голоса. Оба шпика припали к щели, а Раина Михалишивна прислонилась к двери.
Теперь дом был полон народу. Разговаривали по-итальянски, по-польски, по-беларуски. Двое слуг усадили Шредера в мягкое кресло. Батиста подождал, пока останется со стариком один на один.
— Я выполнил ещё одно задание. Помог довезти золото, вот корабль, вот вы в безопасности… Вы обещали мне, что это поручение будет последним, и мне отдадут, наконец, письмо. Но я начал уже сомневаться, есть ли оно у вас… Быть может, вы меня просто пугаете, держите за дурака?
— Это письмо? Мне его сегодня передал посланец из Рима… Очень интересное содержание, кстати.
Шредер показал итальянцу пожелтевший конверт, подписанный мелким почерком. Батиста смотрел, будто сейчас бросится… Шредер улыбнулся и спрятал письмо за пазуху.
— Не советую, сударь Мончини… Прошу прощения, граф Батиста. Слабого старика вы, наверное, осилите, но я же не сам по себе, вы и трёх шагов за порог этой комнаты не ступите. Да и не стоит недооценивать старую гадюку, она всё ещё может ужалить.
Графа трясло от гнева и страха, рот его искривился, будто сейчас разобьёт параличом.
— Что вам ещё нужно от меня, гнусные твари?
Шредер смотрел ласково-ласково, как на неразумного младенца.
— Вам напомнить, сударь Мончини, кто из нас автор гнусных поступков, за которые в любом государстве вас повесят?
Батиста скрипнул зубами. Он был на той стадии злобы, когда загнаная кошка готова броситься в глаза собаке-медиолану и царапать, и кусаться, не обращая внимания, что враг неизбежно её разорвёт.
— Отдайте письмо!
— Только после того, как золото очутится на корабле и мы его пересчитаем. Мало ли что могло исчезнуть на длинном пути… Это быстро, пан Батиста. Ящики перенесут ночью, не привлекая внимания.
Круглое лицо итальянца сделалось алым, непонятно, то ли от злости, то ли от страха.
— Ну и после того, как наши спутники очутятся тоже на корабле – в безопасном для нас состоянии, — прибавил Шредер, сузив глаза и разом утратив всю доброту. – Надеюсь, вы сможете напоить пана Лёдника и пана Вырвича соответствующими порошками? Мальчик, кажется, влюбился в сеньору. А вот доктора берегитесь. Если заподозрит… Я вас не прикрою. А употреблять грубые насильственные методы против стоящих и полезных людей не хочется.
Батиста поклонился. Он постепенно успокаивался, на лице даже появилась язвительная ухмылка.
— Постараюсь всё сделать наилучшим образом.
— Ну и чудненько… Вы же египетский жрец, вам сколько, три тысячи годков? Будущее предсказываете, мысли видите, ложки взглядом сгибаете… Всемогущий вы человек, пан Батиста, простым смертным даже страшно находиться с вами в одном помещении. Что вам какой-то доктор!
Поиздевавшись над самозванным графом, иезуит хлопнул в ладоши, и сразу же в комнату вошёл здоровенный слуга, наверное, более привычный к военному мундиру, чем к лакейской куртке — аbeunt studia in mores, занятия накладывают печать на характер. Слуга обмерил взглядом Батисту, от чего итальянец инстинктивно отступил подальше к стене, потому что таким взглядом прикидывают, куда удобней всадить кинжал, но пришедший просто помог Шредеру подняться.
Итальянец стоял неподвижно, пока не захлопнулась дверь и не утихли в коридоре шаги. Потом выглянул, убедился, что никто не подслушивает, осторожно повернул ключ в замке и бросился к Михалишивне. Та едва успела усесться на стул с книжкой латинских стихов и принять сосредоточенный вид.
— Не прикидывайся, знаю, что всё слышала, пройдоха, — Батиста разговаривал с мнимой женой совсем не так, как на людях. – Сейчас же беги к этому дураку драгуну и заверяй, что потеряла голову от любви к нему, что я тебя за это убью, и нужно немедленно убегать. Можешь разоблачить план иезуитов, что собираются их с доктором отравить. Делай что хочешь – ложись под него, плачь, целуй руки – но чтобы взял два мешка, лежащие под моей буркой – ты знаешь, где, и ехал с ними в корчму около Ганевич. Скажи, что это твоё приданое. Пусть рыцарь ждёт тебя, и вы уедете с ним в счастливое будущее. Соври о родственниках – ты же графиня, принцесса египетская, а может, я украл тебя из дворца… Обещай хоть трон плюс верную любовь. Главное – чтобы твой драгун отсюда неприметно уехал с мешками! А то шкуру сдеру и замкну в сундук не на два дня, а на десять! Ты меня знаешь! Ну, что стоишь как нарисованная?
Батиста грубо толкнул Михалишивну, и та выбежала за дверь, бросив предостерегающий взгляд на нишу за шторой. Вырвич изо всех сил старался не чихнуть, какая-то пушинка так и лезла в нос. Но итальянец не собирался уходить. Он что-то бормотал на родном языке, злорадно посмеивался, и Вырвич понял, что у пана есть ещё в рукаве пара острых стилетов… Батиста высунулся за дверь:
— Джованни!
Лёдник и Прантиш осторожно возвратились к плодотворному занятию подсматривания. Через некоторое время прибежал чернявый, как подгорелый блин, итальянский слуга мага, ехавший с ними кучером телеги с декорациями и прикидывающийся, что ни капли не понимает по-тутошнему. Батиста, злясь и волнуясь, о чём-то с ним заговорил, Джованни залопотал в ответ, кивая головой. Вырвич с удивлением услышал в потоке слов имена князя Николая Репнина и Михайлы Рязанцева, а также пана Рыси и Кароля Радзивилла. А ещё рядом так напрягся Лёдник, что казалось сейчас выскочит из ниши, и Прантиш, предупреждая, сжал его плечо. Сидеть здесь, как двум школярам – конечно, глупость, но выдавать своё присутствие – глупость ещё большая.
Батиста внимательно выслушал слугу, переспрашивая по нескольку раз, лицо его злорадно просветлело. На прощание маг дал Джованни тяжёлый кошелёк, слуга раскланялся и ушёл, сияя, как начищенная бляха солдатского ремня. Итальянец уселся на стул с победным видом, как король Жигимонт Август, объявивший суровой матушке, что вопреки её воле он оженился с литвинкой Басенькой, и та уже заказала себе новый наряд для коронации. Похоже, Шредер с компанией будут ещё иметь от него неприятностей… А Лёдник сидел, сжав кулаки.
Послышались лёгкие шаги, в комнату вбежала Михалишивна. Её красивое лицо было привычно спокойным.
— Он согласился.
Батиста довольно хмыкнул.
— Ещё бы… Ты и не таких желторотиков разводила, как муку на клёцки. Когда он отправится?
— Когда только стемнеет. Сейчас никак не получится – вокруг только песок, дюны, всё видно, люди около коней мельтешат…
Голос Михалишивны звучал так естественно, что нельзя было заподозрить обман, когда ровная зелёная полянка потом оказалась бездонной трясиной. Прантиш взъерепенился – его обидело сравнение с “очередным желторотиком”.
— Мне потом нужно ехать к нему?
— Зачем? – насмешливо сказал Батиста. – Главное, чтобы все увидели, что он уехал и увёз мешки.
— Но ведь мешки нужно забрать? Там ценности? – ровным голосом продолжала спрашивать Михалишивна – Прантиш понял, что она стремится вытянуть как можно больше сведений для скрывающихся в нише. Батиста злобно засмеялся.
— Всё ценное я давно переправил в другое место. Мне нужно, чтобы думали не на меня, а на парня. А как с его покровителем? Парень ему расскажет, или убежит тайно?
— Думаю, они поедут вместе. Я рассказала, что их хотят отравить.
Батиста встал и зашагал по комнате.
— Сначала я думал, что доктора лучше всё-таки усыпить и отправить на корабль… Пусть бы этот гордец повертелся в сетях. Но пусть уезжают оба, пусть за ними погонятся, и бешеный доктор почистит нашим работодателям перья…
Итальянец снова недобро усмехнулся.
— А если вмешается пан Рысь со своими слугами? – как бы мимоходом спросила Раина. – Он такой же бешеный, и неизвестно, чью сторону примет. С доктором подружился…
— Не бойся, уехал тот Рысь, — сообщил Батиста. – Получил из Рима письмо от своего князя и поскакал в Вильню вместе со всей свитой – озвучивать, кому надо. Патриотов собирать.
Маг, как сытый кот, подошёл к египетской принцессе, обнял:
— А мы с тобой, миа кара, поедем в Санкт-Петербург! Теперь нам туда – вольный путь! Пусть только всё окончится, как я планирую – обещаю, ты станцуешь свой огненный танец перед российской императрицей!
Батиста по-хозяйски провёл рукой по телу актрисы, дотронулся губами до её тонкой шеи… Но Михалишивна ведь не могла забыть, что здесь свидетели, и попробовала выскользнуть из объятий мужа. Батиста схватил её за волосы.
— Снова за своё? – зашипел он. – Тебе не нравится моя любовь?
— Я просто сейчас устала, Луиджи… — тихо промолвила девушка, отводя взгляд. Батиста оттолкнул её от себя.
— Скажи спасибо, что сейчас не хочу портить твоё лицо. Тебе нужно быть сегодня красивой. Пошла… Вдохновляй своего драгуна, только осторожно, чтобы не очень с ним вместе засвечиваться.
Раина выбежала за дверь. Маг походил по комнате, насвистывая весёлую песенку, поперебирал скляночки в саквояже, некоторые рассовал по карманам и тоже вышел из комнаты, заперев ее на ключ.
Ничего, когда-то Прантиш научился открывать замки не менее ловко, чем Раина Михалишивна.
Девушку они и нашли в своей комнате. Раина, усевшись на кровать возле фальшивого Прантиша Вырвича, сделанного из тряпья, грустно смотрела в окно. Серое утро за окном было не теплее моря, и так же скрывало в своих недрах чудовищ.
Прантиш злобно пнул ногой ножку стола, будто тот был врагом, но ведь сколько ни пинай мёртвое дерево, живее от этого оно не станет.
— Я же этому Шредеру жизнь спас в Менске!
— Возможно если бы не спас – тебя просто убили бы. – мрачно сказал Лёдник. – Меня другое волнует… Похоже, граф Батиста решил поиграть на две стороны. Пан Рысь уехал в Вильню с письмом князя Радзивилла, в котором тот призывает молодёжь Великого княжества и Польши ехать к нему в Рим, получать военное образование и сражаться с узурпатором Понятовским. Пан Рысь зачитает письмо вдохновлённым юношам, те присягнут, что дружненько отправятся на рождественсих каникулах под штандарты Пане Коханку, а тут их всех и повяжут… С доказательствами преступления. Чтобы искоренить бунт в зародыше.
— Как это? – растерялся Прантиш.
— Батиста об этом со своим Джованни говорил… Он заранее условился с Репниным через Михайлу Рязанцева, что сдаст им отряд заговорщиков, а те взамен обеспечат ему защиту, возможность выступать в Санкт-Петербурге и сделают протекцию перед царицей.
— Правда… — тихо проговорила Михалишивна. – Он мне не всё рассказывает, но я знаю, что с россейцами связывался, и сам встречался, и Джованни посылал, и здесь ждал какого-то посланника. А часть золота он давно украл, ещё в Городне. Вот и боится, что сейчас пересчитают и спохватятся. А главное не золото – а какую-то реликвию присвоил, за которую надеется много выторговать.
— Такая золотая мятая полоса? – оживился Пранцысь.
— Да… Говорил, что это наш пригласительный билет ко всем королевским дворам.
Что же, история свидетельствует, что чем больше украдено, тем меньшая вероятность, что вор будет наказан. Вон королева Бона после ссоры с сыном убежала из королевства со своими “неополитанскими сумами”, и ищи ветра.
Лёдник вскочил и заметался по комнате, кусая губы.
— В любой интриге всегда гибнут лучшие, наивные, молодые, готовые умереть за идеалы. Это необходимо предотвратить… Если бы я только знал, где произойдёт собрание будущих кадетов! Проще всего предупредить Шредера – но это не отменит нашего похищения… А Батиста всё будет отрицать. И обвинять нас. Да ещё и на панну набросится за предательство…
Повернулся к Раине.
— Нам нужно побыть на ужине!
Девушка кивнула головой.
— Хорошо, сейчас я пойду к Батисте и скажу, что вы хотите уехать после прощального застолья. Только я же должна вам подсыпать сонного порошка! Батиста будет недоволен… Не подсыплю – Шредер нас с ним заподозрит. Подсыплю – вы не сможете уехать и отвести от Луиджи подозрения…
— Это наша забота… — задумчиво промолвил доктор, складывая в голове части будущей интриги. – Чем будете нас усыплять? Назовите все составляющие…
— Чистый опий. Без примесей. – Михалишивна твёрдо смотрела на доктора прозрачно-зелёными глазами. – Реакция наступает через двадцать минут. Симптомы – резкое сужение зрачков, замедленное дыхание, похолодание кожи…
— Знаю… — нетерпеливо кивнул доктор. – Но, надеюсь, симулировать не придётся, что-нибудь другое придумаем. А вы делайте, как скажет ваш хозяин. Валите всё на меня, я вас заставил, никого не слушаю, угрожал убить Батисту, а вы меня едва отговорили. Короче, всё, чтобы самой не пострадать. Я носил рабский ошейник, и понимаю кое-что… Да, и обязательно добавьте, что если я замечу на вас самые малые следы побоев, непременно вызову его на дуэль, и гнуть в пальцах ложки и подменять в конвертах письма пану жрецу будет проблематично. Найду за что прицепиться – не отвертится, трус.
— Спасибо… — Михалишивна вдруг приподнялась на цыпочки, быстро поцеловала доктора в щёку и стремительно выбежала за дверь, будто действительно стихийный дух. Прантиш почувствовал себя очень неприятно.
— Что, Бутрим, всё-таки поддался чарам египетской принцессы? – раздражённо проговорил он. Лёдник с непониманием посмотрел на драгуна, потом во взгляде доктора появился гнев.
— Если я отношусь к паненке как к равной, это не обязательно из-за вожделения, благородный пан Вырвич. Если вы посматриваете на бедную девушку, как на более низкое существо, то позвольте мне, как не шляхтичу по рождению, быть иного мнения. А думаю я, что Раина Михалишивна более талантлива, чем все ваши княжны, и одарена большими душевными качествами, и заслуживает защиты и счастья. А вам, ваша мость, напомню ещё, что вы – практически счастливый жених богатой родовитой невесты, и не должны переживать из-за того, что крепостная актриса вдруг обделила вас вниманием.
— Вот хорошо, Бутрим, напоминаешь время от времени, что ты не шляхтич! – воскликнул разгневанный Прантиш. – А то я и с тобой на равных начал… Забыл те времена, когда ты мне ручку целовал?
Не глядя на оледенелое лицо доктора, Прантиш выбежал из комнаты… И вскоре вокруг него были одни дюны. Блуждающие дюны, похоронившие под собою не одного слишком смелого или безрассудного человека.
Ветер навевал в волосы мелкие белые песчинки, будто хотел выветрить из головы злые слова, которыми драгун вознаграждал высокомерного кмета с дипломами. Прантиша разрывал и гнев на сына кожевника, его бывшего слугу, который разыгрывает рыцаря перед крепостной актриской, и стыд за себя… Потому, что было ясно – рассудив и успокоив свой “огненный темперамент”, как ворчал профессор, Вырвич останется со стыдом и раскаянием. Но теперь так приятно было походить между дюн, пожалеть себя… Чем Прантиш виноват, что родился шляхтичем, а Михалишивна – дочерью простого оружейника, к тому же бунтовщика? Это же Господь сотворил так, что он, подхорунжий Вырвич – мужчина, жених хоть куда, а она – девица, которая давно потеряла девственность.
Но теперь при мысли, сколько похотливых мужских рук касались египетской принцессы, Вырвич почувствовал не отвращение, а боль. И будто какая-то мысль повторялась: не вернёшь… Ничего не вернёшь… А что драгун хотел вернуть? Увидеть трагическую красоту Раины нетронутой, в скромной девичьей комнате шляхетской усадьбы, под охраной благородных родителей и слуг? Чтобы просить руки, и считать приданое, и мериться родословными, и чтобы до свадьбы – только скромный поцелуй, похищенный при прощании в сенях, пока не видят родители, и марципаны на обручении? Всё, что он может иметь с Ганулькой Маковецкой – но без пьянящей радости, без дрожи, как дрожит клинок дамасской стали, воткнувшись в столешницу пировального стола, предсказывая, что сейчас прольётся кровь.
Но ведь рассказывали – Пане Коханку в молодости так понравилась одна красавица-шляхтянка, дочь войского, что не посмотрел, что девица родовитая, что у неё жених – наехал на имение, увёз… Потом, конечно, каялся, оправдывался, что пьян был, что Володкович подбил… Деньги огромные обиженной семье предлагал, но было поздно. Девушка от стыда в монастырь ушла. А со второй, дочерью униатского священника, простой девушкой, очень хотел ожениться – но мать не позволила. Нет, нету спасения от чужого вожделения ни в хатах, ни во дворцах.
— Пан Вырвич, что случилось?
По белому песку мчался к нему тонкий силуэт в красном плаще, чёрные длинные волосы запутывал ветер – вечный безуспешный ухажёр.
И остался драгуну только стыд, вынудивший опустить глаза и промолвить:
— Пусть панна Раина простит меня, что не я за неё заступился.
Море бросало волны на берег так неистово, как проигравшийся до рубахи игрок швыряет на корчёмный стол кости: а вдруг Фортуна! А удачи всё нет и нет…
Но в прозрачно-зелёных русалочьих глазах сияли такие искренние удивление, благодарность, и что-то ещё, что Прантишу стало ещё более стыдно, потому что не стоит он таких чувств… Вспомнились и суровые слова Лёдника, чтобы не игрался с Михалишивной… Но ведь ещё один поцелуй ничего не значит, правда? Ну, только что голова кружится, как от аглицкого потера, да от горячих губ не оторваться…
А ў полi вярба
Нахiлёная,
Маладая дзяўчынонька
Заручоная.
Заручоная
I запiтая…
І пакуль яшчэ нікім
Не пабітая…
Перед боем ассирийцы всегда устраивали пир. Мочили свои завитые под баранчиков бороды в чашах вина. Бросали виноградинки за пазуху красивым прислужницам. Швыряли кости в павлинов, вышагивающих на худых ногах между пировальными столами и не спешащих расправлять хвосты, ибо пьяные ассирийцы – не птичьи самки, ради привлечения которых и приходится таскать на не самой удобной части тела такой вот невероятный пёстрый веер.
Наверное, привычку застолья перед боем переняли многие. Действительно, если знаешь, что вскоре не сможешь наслаждаться ни доброй еды, ни питьём, ни женскими ласковыми взглядами – нужно всё упомянутое накопить, пусть и не унесёшь на тот свет. Зато будет веселее к Абраму на призрачное пиво отправляться…
Но этот прощальный стол тяжело было назвать пиром. Видимо, повар здесь был белорусский, потому что на стол попала ботва, из-за которой ляхи дразнили литвинов ботвинниками, блинчики-налистники, панцак… Как на крестьянском столе. А что сделаешь – постный день. Зато вино было… Правда, пока не разлитое в хрустальные фужеры, краснело себе в графине с пробкой в виде кисти винограда, возможно, уже отравленное. Пан Шредер со светлой улыбкой протянул Лёднику и Вырвичу по сложенному листу бумаги:
— Здесь засвидетельствовано, что ваши мости выполнили взятые на себя обязанности и могут возвращаться и получать всё обещанное. Счастливой научной работы на кафедре, доктор Лёдник! Счастливой военной службы в новом чине, пан хорунжий Вырвич!
Наёмники с надлежащим почтением приняли письма, которые на самом деле стоили не больше, чем прошлогодняя листва. Шредер кивнул Михалишивне:
— Сейчас можно и отметить завершение нашего пути. Пусть именно волшебные руки графини Батисты разольют это вино, придав ему больше вкуса – думаю, такое послабление поста не будет грехом, ибо очень важное основание.
Михалишивна сразу же встала и разлила вино по хрустальным бокалам. Посторонний человек увидел бы перед собой только важную светскую даму, богатую и уверенную в себе, возможно, жестокую кокетку. Граф Батиста сидел с самой кривой физиономией, и силился не смотреть на Лёдника – итальянец уже выявил себя не самым смелым и тренированным в военном деле человеком, и пана тревожила переданная угроза доктора о дуэли. Батиста, видимо, считал минуты до побега доктора и драгуна.
Вырвич гадал, что же придумает Лёдник, чтобы не пить вино. А тот повертел в длинных пальцах бокал, посмотрел через него на огонь камина и непринуждённо спросил Шредера:
— Прежде чем распрощаться, дорогой пан Якуб, хотелось бы услышать о святой вещи, о которой не приличит трепать пьяными языками. Мой друг, его мость Франтасий Вырвич рассказал мне, как выглядит реликвия, добытая в менских подземельях, и у меня появились кое-какие суждения… Особенно когда мой молодой друг по моей просьбе нарисовал орнамент, украшающий ту вещь. Это работа друидов… Англия, девятое столетие. Не так ли?
Шредер ничем не выявил неудовольствия, что доктор не спешит хлебать вино.
— Вы сведущий человек, доктор. Значит, догадались, что имеем дело с короной святого Альфреда.
— Той, которой короновался Эдуард Исповедник? – уточнил доктор нудным голосом. – И, простите, каким же чудом попала такая реликвия в Менск?
Батиста, сидящий как на раскалённых углях, зло ощерился.
— А чудо не нуждается в объяснениях, васпан.
Шредер улыбнулся.
— Ну почему нет? Промысел Божий существует, однако инструменты выбирает иногда самые удивительные. Через тридцать лет после революции Кромвеля в Ангельщину приехал стольник жемайтский Теодор Билевич, тот, что помог коронации Яна Собесского и по его поручению раскатывал по всей Европе, разыскивая союзников для противостояния шведам. Возможно, вы даже читали его “Дневник, писаный в Англии о том, как там странствовалось и жилось”.
— Дневника я не читал, — промолвил Балтромей, — а вот труд “Тройная философия, рациональная, натуральная и моральная”, писаный этим паном в нашей же Виленской академии, читал. И пан Вырвич должен был изучать его на занятиях…
Лёдник бросил строгий взгляд на Прантиша. Но тот сделал вид, что заметил что-то интересное на потолке, хотя кроме сучков да копоти от свечей на нём ничего не было, так же, как в голове студиозуса Вырвича не задержался труд уважаемого стольника жемайтского…
Шредер снисходительно кивнул и продолжал рассказ.
— В Лондоне пан Билевич особенное внимание уделял посещению королевских сокровищниц – понравились ему изумруд с голубиное яйцо, украшавший королевскую корону, скипетр с аметистом величиною в грецкий орех, купель из чистого золота… А ещё ходил в королевский зверинец, смотрел слона, который хоботом выделывал штуки с мушкетом, барана с красной шерстью, морского кота, курившего табак. Но было то, что уважаемый Билевич в дневник не записывал. А именно свои путешествия по игорным клубам, к чему пан также имел большую склонность. Вот там однажды ваш земляк и выиграл у какого-то разбойника странный кусок золота. Как уверял его проходимец – из королевской сокровищницы. Пан Теодор особого внимания приобретению не придал, бросил себе в сундук… И провалялся бы тот предмет в сундуке, пока кто-нибудь из наследников не пустил бы его на переплавку, если бы не один друг пана Теодора по академии, посвятивший себя служению Богу и вошедший в Орден Иисуса. Тот и узнал орнамент ни золотой полосе, ибо такой был нанесён на корону святого Альфреда из хроники Роберта Глочестерского. Реликвия примечательная! Последний раз её надевала Анна Болейн, одна из жён короля Генриха Восьмого…
— Которой отрубили голову за измену… — уточнил занудливый профессор. – А в скрученную полосу, лишённую камней, её превратили солдаты Кромвеля, да?
— Точно так, — согласился Шредер. – К счастью, кто-то из них оказался достаточно жадным, чтобы присвоить святую вещь, из которой должны были, как из других корон, что-то отлить.
— И теперь святая корона достанется его мости князю Радзивиллу, который должен стать нашим следующим королём? – подытожил Прантиш.
— Всё в воле Божьей! – набожно вымолвил Шредер и потянулся за фужером, чтобы наконец поднять тост. Но Лёдник с постной физиономией заявил:
— Не хочу пока осквернять вином уста, ибо мечтаю, чтобы они прикоснулись к короне святого Альфреда и Эдуарда Исповедника, первых христиан Британии, коих должны почитать верующие всех христианских конфессий.
— И я хочу такой же чести, пан Шредер! Как не воспользоваться возможностью прикоснуться к святыне! – елейным голосом поддержал Балтромея прыткий драгун, который понял его игру. Сейчас должна выявиться пропажа короны, а столкнуть лбами врагов – самый лучший шанс спастись самим…
Батиста едва не раскрошил зубы. Шредер постарался скрыть недовольство и повернулся к дверям, у которых ожидал здоровенный слуга с бледным безразличным лицом…
Но будто с горячих углей, вскочил маг:
— Я сам перепрятывал святыню, поэтому найду её быстрее.
И двинулся к дверям… И, проходя за спиной пана Шредера, сделал резкое, такое быстрое, что едва уследить глазу, движение рукой, как тогда, когда тушил на расстоянии свечу.
Изо всех присутствующих в зале фокус Батисты заметил только Прантиш, так как сидел на углу стола, справа от Шредера… Удар на расстоянии, который не только гасит огонь, но повреждает внутренние органы.
Не успел граф выйти за двери, как старик схватился за сердце и начал оседать на пол. Его подхватил слуга. Тот, конечно, даже не заподозрил, что к болезни пана мог быть причастен граф, который прошел мимо больного не останавливаясь, дальше, чем достанет рука, даже вооружённая кинжалом. А вот Шредер наверняка что-то понял, ибо бросил на Батисту, который с заботливым видом склонился над ним, ненавидящий взгляд. Однако говорить уже особенно не мог, только хрипел.
Лёдник, тоже что-то заподозривший, расстегнул камзол старика, осмотрел грудь, спину – никаких следов…
— Принесите мой чемоданчик с лекарствами! И соберите все бутылочки со стола в моей комнате… — крикнул он, и слуга побежал в другое крыло строения… К приступам больного все привыкли, и шуму поднимать никто не собирался. А Батиста быстренько вытащил из-за пазухи старика конверт и бросил в печь.
Граф стоял, обеими руками опершись о тёплые зеленоватые изразцы, будто глядел сквозь кирпичи, как во внутренностях печи огонь скручивает в красных пальцах бумагу, и та рассыпается пеплом, и в осанке мага ощущалась такое облегчение, будто сбросил тяжесть, которую вынужден был тащить на себе многие мили. А Прантиш между тем почувствовал, что Шредер вкладывает в его руку какую-то смятую бумажку. Пальцы старика были холодные и влажные… Почти неживые. Но глаза умные, больной требовательно смотрел на Вырвича, и когда тот забрал и спрятал в карман вложенную в его руку бумагу, одобрительно прижмурился.
Михалишивна держала голову умирающего на коленях… Ей и пришлось закрыть ему глаза. Батиста стоял, как скорбящий святой… И Лёдник, убедившись, что его мастерство уже бесполезно, рванулся к магу, схватил того за грудки и зажал в угол за печкой.
— А ну говори, мерзавец, где пан Рысь будет зачитывать письмо Радзивилла! А то сейчас скажу всем, что ты убил старика и украл корону!
Маг попробовал вырваться, но взгляд Лёдника будто пригвоздил его к стене.
— Вам никто не поверит, доктор! Скорее мне удастся всё свалить на вас. Потому, что у людей, приплывших на корабле, приказ – убить вас! Это Шредер уговорил усыпить вас с молодым паном и забрать с собой. А сейчас – вы покойники! Даже если погубите меня – вам не спастись!
По коридору кто-то бежал, видимо, возвращался слуга с чемоданом. Лёдник сжал горло мага сильнее:
— Говори, где будет собрание, и мы с Вырвичем сейчас же уедем!
Батиста был трус, но не глупец. Он криво усмехнулся и прохрипел:
— В Виленской академии, конечно. В воскресенье, после торжественной службы.
Прантиш даже застонал. Можно было и самим догадаться! Где более удобное место? Молодёжь изо всей Речи Посполитой, вся патриотично воспитанная…
— Мы ещё увидимся, пан Батиста! – угрожающе сказал Лёдник. – И избави вас Боже срывать злобу на ни в чём не повинной женщине.
Мерзкая ухмылка искривила губы итальянца.
— Надо же, сразу двоих охмурила!
Тут уже не выдержал Прантиш, но успел только, уходя, встряхнуть графа так, что посыпалась пудра с парика.
Около тела Шредера уже суетились озабоченные слуги…
Темнело, будто в воздухе разлили бутылку чернил. К конюшне, где доктор и Вырвич поспешно седлали коней, подошли шестеро, огонь факела выхватил из темноты их безразличные, посечённые шрамами лица. К сожалению, здесь не было альбанцев, которым можно было что-то объяснить, только моряки со шхуны, наёмники, просто за деньги выполняющие приказы, не вдаваясь в их правоту.
— Куда собрались, панове?
— Пан Шредер дал нам срочное поручение. Мы должны ехать к пану Рыси, предупредить, что в Виленской академии его ждёт ловушка! – отрывисто промолвил Лёдник.
— Да я просто так спросил. Нас всё равно, куда пан собрался и зачем. Потому, что это последний причал для корабля вашей мости, — моряк наставил на Лёдника шпагу.
— Да не устраивать ли ту ловушку собрались сами паны схизматики, — добавил один из компании, закутанный в плащ с капюшоном, наверное посланец иезуитов, более посвящённый в дело.
А у них пистолеты, это плохо…
— А может, сначала паны спросят у графа Батисты, где корона святого Альфреда, и зачем к нему приезжал посланец от Михайлы Рязанцева? – невинным голосом промолвил Прантиш.
Человек в плаще немного растерялся и оглянулся, будто желая действительно найти Батисту, к которому доверия было не больше, чем к схизматикам. И тут послышался стук копыт и громыхание колёс – от дома рванула карета, два фонаря на ней казались болотными гибельными огоньками, которые заводят в трясину. Повозка с ящиком, в котором на углях танцевала египетская принцесса, остался в доме на дюнах, видимо, навсегда, и кто-нибудь из будущих хозяев долго будет ломать голову над назначением железных щитов. А карета, запряжённая шестёркой сытых коней – Батиста явно подготовился к бегству – мчалась в вечернем мраке так, что догнать было невозможно, огоньки фонарей всё отдалялись. Пока люди советовались, что делать, а им ведь нужно прежде всего грузить и вывозить золото, Лёдник оголил саблю, а Прантиш взял коней за узды.
— Слово чести, мы едем спасать будущих кадетов! – прокричал драгун.
Но слово чести здесь значило не много. Главное, что отъезд Батисты, который справедливо решил, что бывшие спутники его тайны скрывать не станут, запутал людей Шредера, часть погналась за каретой… А Вырвичу и Лёднику пришлось прорубать путь оружием. Засвистели пули… И Вырвичу, когда уже вскочил на коня, обожгло плечо.
Толком перевязать рану удалось только через час, в лесу, наощупь, ночь была тёмной, как совесть египетского жреца.
И только наутро, когда уже падал от усталости, боли и бессонной ночи, Прантиш смог при свете, скупо просеивающемся сквозь тучи, прочитать письмо, оставленное ему Шредером. И даже вскрикнул от потрясения. Лёдник, сразу же забрав бумагу, только и смог вымолвить: “Вот подлюга…”
Потому что в том письме пан Батиста отчитывался перед князем Геронимом Радзивиллом о своём выступлении перед Августом Третьим. Оказывается, во время своего сеанса магии Батиста по заказу князя должен был отравить короля. Хитро, с отсроченным действием. Выпарился бы ядовитый газ из отверстия в магическом шаре, в который заглядывает король… Началась бы лёгочная болезнь с расстройством желудка… И через какой-то месяц – карачун.
Лысый заика, князь Героним искренне считал себя красивейшим мужчиной страны и самым достойным короны рыцарем. Ради осуществления своей мечты не брезговал обращаться к мистическим вещам, хоть ведьмаков наказывал действительно безжалостно. Но убийство не удалось, король после визита мага только покашлял да подольше посидел в уборной… И снова взялся вырезать бумажных человечков, к чему был большой охотник. Батиста оправдывался тем, что король побоялся смотреть своё будущее слишком близко, и в помещении был сквозняк… Хотя сеанс магии, возможно, и приблизил смерть монарха, потому что в последние годы Август был совсем немощный
И хотя видеть короля в золотом гробу желали многие, но разоблачённое покушение на королевскую персону должно быть наказано! Это действительно смертный приговор – в любой стране, в любой среде. Как говорят литвины, измену принимаем, а изменника вешаем. Мёртвый Героним Радзивилл защитой своему наёмнику быть не мог, и честь Радзивиллов от его поступка, в случае разоблачения, не пострадала бы, так как Героним слыл безумцем, и род от него давно отрёкся. Так что иезуиты держали Батисту крепко!
А теперь, получается, он зависим от ненавистного драгуна и ещё более ненавидимого виленского доктора! Сжёг в печи всего только пустой конверт, и сейчас напрасно радуется. Шредер, ясное дело, предусматривал, что пройдоха-маг может попробовать выкрасть письмо, и на всякий случай держал бумажку в каком-то потаённом кармане отдельно от конверта.
И, может быть, теперь удастся улучшить судьбу Михалишивны… Спасибо Шредеру хотя бы за это наследство.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КАК БАЛТРОМЕЙ ЛЁДНИК В АКАДЕМИИ СНОВА ДОКЛАД ДЕЛАЛ.
Чего только не вспомнит бывший студиозус о временах своего научания! И неприятное может показаться через годы смешным, например, как однажды за неуспеваемость по латыни водили улицами в соломенной “ослиной короне”, а наказанный с самой жалобной физиономией умудрился по дороге стянуть у ротозеев-уличных торгашей, которые проталкивались поближе, чтобы порадоваться унижению проказливого студиозуса, пряник, горсть изюма и миндальную конфету. А как пришлось в иезуитском коллегиуме играть князя Святополка в мистерии о благоверных князьях Борисе и Глебе, и подвязанная на верёвочке борода из окрашенной чёрным пеньки всё время сползала набок, а из ложи почётных гостей посматривала сестра князя Михала Богинского в платье, похожем на торт со взбитыми сливками или на клумбу, и мило посмеивалась… А как на первом курсе Виленской академии взялись переплывать Вилию в бочках, а потом дрались с подмастерьями цеха злотников на палках-пальцатах!
Нет, через годы студенческая жизнь кажется куда более романтической, а вот некоторые собственные взбрыкивания да обиды – глупыми.
Балтромей Лёдник, выпускник Полоцкого коллегиума, а также факультета вольных наук Пражского университета и медицинского факультета Лейпцигского университета о своих проказах в студенческие времена рассказывал скупо. Конечно, к науке сын полоцкого кожевника стремился с детства, как пропойца к рюмке, и даже в юности больше ходил по тайным научно-эзотерическим обществам, да демонстрациям рискованных экспериментов, чем по корчёмкам, но что проказы были – Вырвич не сомневался. Научился же Лёдник в Лейпциге фехтовать, чтобы быть первым в обязательных буршевских дуэлях. А встреченный однажды однокурсник из Лейпцига, изобретатель Пфальцман сразу напомнил Балтромею, сколько пива они попили в корчёмке “Под карасём”.
Нет, даже такого упрямого человека, как Балтромей Лёдник, не могли обойти радости студенческой жизни… Но выспросить у него что-то было не легче, чем достать из сетей живого испуганного угря.
Но пока Бутрим возился с пулей, засевшей в Прантишевом плече, рассказывал, видимо, вместо обезболивающего, как в Праге его однокурсник, болгарин родом, положил глаз на одну паненку из Градчан, дочку профессора. И чтобы впечатлить красивую даму, упросил Балтромея, который умудрялся постигать одновременно и курс вольных наук, и естественных, изладить под окном красотки фейерверк, чтобы ракета вырисовывала в воздухе силуэт Купидончика, это будет признанием в любви… А взамен пообещал выписать с родины один зело редкий ингридиент для опытов, а именно живую смолу, коя возникает на камне, и лечит ото всех болезней. После двух бутылок неплохого винца – тоже болгарского – полочанин согласился. И всё было бы чудесно… Если бы не маленькая ошибка будущего доктора, который был отлично сведущим как в логике, так и в механике, но с рисованием имел проблемы.
Амурчик в тучах дыма и в сопровождении милых взрывов нарисовался на фоне бархатно-чёрного неба очень эффектно, но имел почему-то искривлённую физиономию, а на голове вместо кудряшек отчётливо виднелись рожки… Красотка, увидев просто перед своим окном огненный силуэт нечистого, перепугалась так, что от её визга пробудились все петухи, собаки и корчомные пропойцы от Градчанов до Золотого города, где жили уважаемые алхимики и ювелиры, а родня паненки подняла гвалт, будто их дом взялась штурмовать вся Османская империя. И вместо того, чтобы праздновать победу союза Миневры и Амура над девичьим сердцем, удрали студиозусы тёмными переулками, аки зайцы.
Напрасно Бутрим оправдывался, что рожки у воздушного Амурчика выросли случайно. Пришлось обмениваться с разозлённым приятелем тумаками, пока у обоих зубы во рту не зашатались, как у стариканов, а потом запивать афронт сливовицей. А назавтра пытаться сохранить побитые физиономии серьёзными, выслушивая невероятную новость о появлении под Прагой диавольского знака, непременно предвестника… Предвестника чего – всяк рассказывал по мере своей фантазии, и только два студиозуса знали точно, что сие предвещает конец одной сердечной привязанности, а если не повезёт, и всё разоблачится – знакомство со святой инквизицией и прощание с надеждой получить диплом.
Самое интересное в этой истории, что влюблённый студиозус смог досадное происшествие обратить в свою пользу, передав перепуганной красотке особо святые сакраменты: кусочек плаща благоверного болгарского царя Бориса и слёзы святой Параскевы в хрустальной склянке, кои отгоняют любой сглаз и влияние нечистой силы, а также смог убедить профессоровну, что появление призрака под её окном было вызвано ни чем иным, как завистью ведьмарской кодлы к добродетелям красотки, а потому для этих добродетелей срочно нужен надёжный защитник.
Так что для болгарина всё окончилось счастливым браком, тем более был он богатым княжеским наследником, и отец его и он сам прославились в борьбе с бусурманами-турками. А вот Балтромей так и не получил каменной смолы.
Прантиш искренне повеселился, насколько это было возможно для пациента, в свежей ране которого ковыряются хирургическими инструментами. Ганулька Маковецкая стояла рядом с миской горячей воды, и вода плескалась миниатюрным штормом, покуда доктор не приказал девушке поставить миску на стол, а самой – хорошо выплакаться за дверью. Хозяйка Лещин появлению гостей, запыханых, забрызганных грязью, один из которых был ранен, особенно даже и не удивилась – в стране, которую всё время разрывали войны, для шляхтича обычное дело. Хотя видно было, что всё-таки больше одобрила бы пани Гортензия жизнь тихомирную и нрав не воинственный.
Лёдник надеялся оставить Прантиша здесь, под надёжным присмотром – но, когда нужно, Вырвич умел быть упрямым не меньше доктора. В конце концов это в фехтовании Лёдник – мастер, а вот с лошадьми драгун Вырвич управлялся намного лучше. Поэтому, позволив себе самый необходимый – чтобы не свалиться с коня – отдых, драгун и доктор отправились в путь. Ганулька смотрела вослед заплаканными глазами, и Прантиш чувствовал себя последним негодяем. Ласкова жена будет, заботлива…
В Вильню они должны были успеть до воскресенья. Коней в Лещинах взяли, а вот Фортуна отвернулась. К корчмам, ежели видели рядом солдат, подъезжать боялись… Очень вероятно, что Батиста предупредил своих нынешних покровителей насчёт двух лазутчиков от князя Радзивилла, пробирающихся в Вильню. Но коней нужно было поменять снова, да и Вырвич хоть и держался, всё-таки ослаб, и стоило бы посидеть в тепле хоть пару часов… Во всяком случае, так считал Лёдник. Поэтому к следующей корчме под названием “Париж”, где не было видно ни жолнеров, ни жолнерских коней, всё-таки подъехали. Дождь равнодушно поливал скромное строение корчмы под крышей из гонта, сосны, на чьих стволах воинственные гости не раз испытывали остроту своих палашей и стилетов, и двух путников, которые и без того вымокли, будто возвратились от водяного. Вырвич тяжело слез с коня.
— Подожди здесь, загляну в корчму, безопасно ли, — пряча тревогу, промолвил Лёдник. – А то попадёмся, как бедняга Гросс.
У драгуна не было сил возразить. Он жевал какую-то очень лекарственную и страшно горькую траву, которую ему сунул Лёдник для предупреждения воспаления, и злился на себя – рана лёгкая, пулю достали, сам таких ран сколько на других залечил, а вот же – ослаб как паненка. И то не такая, как Раина Михалишивна, способная любого драгуна в выносливости да ловкости превзойти.
В корчме приветливо светились окна, гудела басетля — контрабас. Никак не хотелось верить, что и здесь — аnguis in herba, как говорили латиняне о скрытой опасности, змея в траве. Трусцой вернулся Лёдник.
— Сидят, заразы, как горох в стручке. Жолнеры и выведники. Уходить нужно, пан Вырвич. Ну почему ты не остался в Лещинах…
Вдруг из тьмы вынырнули чьи-то силуэты.
— Пан доктор, сюда! Не бойтесь! Быстрее, быстрей! Сейчас за вами уланы придут!
Во мраке и дожде можно было только и рассмотреть, что прибежали двое, девочка и мальчик.
— Пане, родителями клянусь, что хочу вам помочь! Там дальше, на дороге, засада, и из корчмы вас увидали. Ицка ваших коней сейчас спрячет, и вас нужно…
В девичьем голосе слышалось настоящее отчаяние, а далеко в темноте переговаривались мужские грубые голоса, и вот щелчок, будто кто-то взводил курок пистолета.
— Пошли… — шепнул Лёдник Прантишу.
Их потянули к корчме, но не к дверям, а в обход, по кустам. Пришлось протискиваться через какой-то лаз, устроенный под навесом, ползти по узкому ходу, укреплённому брёвнами, и вот оба очутились в выгородке, находящейся, как можно было понять по звукам, под полом зала корчмы. Отроковица, полноватая, в аккуратном чепчике, повесила на специальный крюк фонарь:
— Посидите здесь, ваши мости, пока уланы не уйдут. Там матушка с ними разбирается. А я вам пока есть-пить принесу…
И исчезла.
Гости осмотрелись, пока не было понятно, то ли это ловушка, то ли спасение. Выгородка была заваленна свёртками тканей, пачками чая и кофе, лежал даже персидский ковёр, завёрнутый в полотно: Вырвич от любопытства прорвал упаковку.
— Ну что, похоже, мы в тайнике хозяев, — шепнул Лёдник. – Если сюда пустили – есть надежда, что не сдадут.
Наверху слышался пьяный шум, стучали по столешницам бокалы и кости, певец под волынку и контрабас выводил:
–А былі ж людзі ды няверныя,
А паверылі пагану цмоку.
Ой, таму цмоку на дзень па чалавеку,
А ў пятніцу рана яму двух мала.
Прышла радавая да самаго цара,
А ў таго цара ні чалядачкі,
Ні чалядачкі, ні дзіцятачкі,
Толькі ў таго цара прамудра царэўна.
Прамудра царэўна, адзявайся,
Надзявай шаты, шаты дарагія,
Абувай боты да ўсё залатыя,
Да ідзі ў поле пад сіне мора.
Вдруг кто-то из игроков взревел, что его партнёр такой же мошенник, как Рыгор Остик, фальшивомонетчик, шпион российского царя, которому в Вильне голову отрубили. В ответ послышалась брань, потом крик боли… Потом хлопнула дверь, и крики утихли. А певец всё выводил:
–А сіняе мора ўскалыхнулася,
Прамудра царэўна ўлякнулася.
Выплываець з мора паганы цмок,
У яго з роту агонь валіць…
Як зачуў Госпад да ўсю праўду,
–А святы Юры, адзявайся,
Надзявай шаты, шаты дарагія,
Надзявай боты да ўсё залатыя,
Да ідзі ў стайню, выбірай каня.
Да едзь у поле пад сіне мора
Прамудру царэўну да й бараніць.
–Ой, Госпадзі ж Божа, сам я баюся,
Ад паганага цмока не адбаранюся.
–А святы Юрай, чаго баяцца?
Сячы канём, войстрым кап’ём,
Закідай ланцуг, ланцуг на рогі,
Ой, вядзі цмока па ўсяму свету.
Певец, судя по голосу, был совсем молод, но голос уже надтреснутый, с нотками вечной жалобы и тоски, которые появляются в голосе нищих и которых не должно быть у талантливых артистов – но слышатся, к сожалению, на этой земле…
Вдруг песня оборвалась, потому что зазвучавший голос женщины нельзя было не перепеть, ни перекричать:
— Ой! Ой мне, горе моё, чтоб подо мной земля треснула – не было здесь никаких бандюков! И не видела, и не слышала! Чтоб мне деточек моих не вырастить! И не пущу никого такого! Да у нас самая достойная корчма, у нас пан Лопушинский бывает, не брезгует рюмку выпить! Самые уважаемые гости ночуют, а вы подозреваете неизвестно в чём, чтоб из вас чёрная юшка полилась, ах головонька моя горемычная, чтобы вас распринзило, чтоб вы животом ездили, а сквозь уши ветер дул… Поели всё, попили, по миру нас пустили, не заплатив, да ещё винят, что преступников прячем!
Этот голос не узнать было невозможно. Корчмариха Мойсеиха из Чёрных Сосен, которую они выкупили у пана Лопушинского! Значит, заехали они с Лёдником как раз в её корчму, которая, оказывается носит гордое название “Париж”…
— Паночки мои, а милостивые мои, простите жёнушке, хворая она… — дрожащий тонкий голос принадлежал, конечно же, хозяину корчмы.
— Чтоб вам на Кревский замок пришлось камни таскать! – тут же отозвался могучий “глас” корчмарихи.
Эдакое столпотворение длилось ещё минут десять, потом, видимо, жолнеры не выдержали дикой смеси причитаний с проклятиями и ушли. В тайном ходе послышалось шуршание, показалась дочь корчмаря, нагруженная, как на базар. Поставила на пол кувшин пива, горшок, пахнущий чем-то вкусным, бросила два тулупа с прелым запахом, но как одеяла они могли послужить, а главное – сухую одежду.
— Пусть ваши мости здесь переночуют, там два жолнера ещё остались, мать их сейчас хорошенько напоит. Всю корчму перевернули, булдыги, окрестности обыскали, чтоб их кишки на заборе сохли… — а корчмарёвна, похоже, вырастет в достойную преемницу матери. – Хорошо, что мать вас, пан доктор, углядела, когда вы в корчму заглянули. У матушки моей глаз, как у сторожа ворот небесных, — с гордостью сообщила Мойсеевна, её тёмные глаза смотрели не по-девичьи смело, а осанка была гордой, как у царицы амазонок. – А утром там, где мы с Ицкой вас перехватили, два коня стоять будут.
— Благодарю, панна… Как, кстати, вас зовут? – спросил Лёдник.
— Я Рахель, ваша мость. Но это мы должны вас вовек благодарить. Если бы не вы – пришлось бы нам корчму продавать, чтобы матушку из плена выкупить, и пошли бы мы, горемычные, бродить по миру…
Причитать да сетовать панна Рахель могла, как и мать, не менее талантливо, чем проклинать.
— Я попросил бы ещё панну принести хлеба с плесенью и немного спиритусу – пан Вырвич ранен…
Корчмарёвна с достоинством кивнула головой – настоящая хозяйка, владелица безумного корчёмного королевства:
— У нас аптечка хорошая… Принесу, что есть – пусть пан доктор выбирает. Травы там какие, настои…
А у Вырвича уже слипались глаза, ломило, будто по нему кто потоптался, всё тело, и болезненно пульсировала рана. Драгун осторожно повернулся на тулупе, удобней пристраивая раненое плечо. Корчма наверху затихала, последние пьяные бормотания таяли в шуме дождя. Как же хорошо после опасности, холода и усталости попасть под защиту тепла! Вспомнились слова Лёдника – никогда не нужно жалеть о том, что удалось кому-то помочь…
А наутро их ждали кони – да не два, а четыре, с мешками, набитыми необходимыми в дороге припасами. Хотя дороги было, если быстро ехать, всего сутки…
Но те сутки запомнились. Трижды приходилось сворачивать в чащу и пережидать, пока проедут подозрительные отряды. К придорожным корчмам подъезжать боялись. Лёдник тревожно посматривал на драгуна, поил микстурами, которые смог добыть в корчме, даже сделал из дощечек и бинтов такую повязку, чтобы раненая рука поменьше двигалась, и всё уговаривал раненого где-нибудь остаться, а Прантиш бранился и скалился, показывая, что драгуну такая рана – как укус комара.
В Вильню влетели, будто ночницы за ними гнались, под воскресный праздничный перезвон. К счастью, то ли никто не осмелился задержать знаменитого доктора, который водится с демонами, и его приятеля, молодцеватого подхорунжего, или сюда ещё не успели сообщить, что их следует задержать. Копыта звонко цокали по мокрой брусчатке, посполитый люд раздражённо шарахался в стороны – несёт же панов в святое воскресенье куда-то… Лёдник весь испереживался от тревоги – вовремя ли? А Вырвич думал только о том, как не свалиться с коня – ему становилось дурно…
В Академию доктор влетел как чёрный вихрь, и сразу же бросился в кабинет ректора. Прантиш, обливаясь потом, бежал следом, перед глазами мельтешили золотые пчёлки.
А в коридорах и аудиториях пусто, как в кладовой после рождественского карнавала… Может, Батиста наврал?
Ректора на месте не было, отыскался только заместитель, полноватый улыбчивый пан, знаток риторики. Проректор, выслушав заляпанного и взвинченного профессора, побледнел, как варёное яйцо.
— Они там… В зале, где вы делали доклад… Пан Рысь, ксёндз Марек… И около сотни студентов, но все проверенные, рекомендованные! Что делать? Если их здесь схватят – Академию могут закрыть!
За стеклянными дверцами шкафа стояли книги по юриспруденции – не так давно эту светскую науку впустили в стены академии.
— Вы лучше думайте о судьбе молодых людей! – рявкнул Балтромей. – Их же перестреляют, как цыплят! А кто выживет, посадят – и кто был, и кто не был. Ключи от моей лаборатории у кого?
Проректор немного помедлил, потом молча полез в ящик стола, погремел там железом и достал связку разных ключей, размером с хорошую виноградную кисть.
— Ваш – вот этот, с самой длинной бородкой… А от подземелий – с шишечкой…
Поскольку у начальства оказались все ключи, было понятно, каким образом в своё время из тайной лаборатории Лёдника исчезали некоторые ценные вещи, а именно кукла-автомат по имери Пандора, и каким образом делались регулярные обыски у крамольного профессора.
— Спасибо, коллега, не сомневался, что от вас никаких тайн в академии не спрячешь, — не преминул съязвить Бутрим. – Попробуем вывести молодых этим путём.
— Думаю, мне лучше оставаться здесь… — отвел взгляд проректор. – Вы же понимаете, пан Лёдник, что в интересах Академии нужно, чтобы руководство не было замешано… А вот если бы вы, коллега, взяли на себя переговоры!
Знаток риторики вкрадчиво усмехнулся.
— Вы же человек авторитетный, ваша мость, с Репниным и Рязанцевым дружите! Перехватите тех, кто придёт арестовывать студентов, объясните, что юноши всего лишь играли в карты, что заговора не было… Вам поверят!
— Все мне оказывают доверие, — гневно ответил Лёдник, — Только потом почему-то в благодарность хотят убить!
И швырнул на стол письмо от Шредера.
— Надеюсь, хотя бы мои ученики не пострадают от такого доверия!
Ясно, что помощи здесь не дождаться, и академики дружненько заверят власти, что ничего не знали, студиозусы сами по себе шалили…
Когда Лёдник, в дорожной одежде, заросший чёрной щетиной, как сорвавшийся с виселицы, влетел в зал учёной рады, а рядом Прантиш с рукой на перевязи, студенты в ужасе расступились, пан Рысь подавился торжественной речью, а кое-кто и схватился за сабли.
Тот самый зал, куда подхорунжий Вырвич явился, дабы послушать кощунственный доклад профессора Лёдника о кровообращении в организме человека. Тяжёлые скамьи, высокие сводчатые окна… Вон там сидела пани Соломея с малышом Алесиком… Там – выкрикивал свои реплики граф Михайло Рязанцев… А за кафедрой стоял высокомерный профессор.
За кафедру он стал снова, прогнав ошеломлённого пана Рыся. Обрисовывая ситуацию, Лёдник был по-профессорски лаконичен. Лица студентов выражали гнев, разочарование, а иногда и страх – юноше можно чувствовать страх, ибо только в его преодолении вызревает настоящий воин. Конечно, пробовали кричать, что сейчас начнут драться – разум не кулеш, в череп не вольёшь, но профессор был как опытный полководец, и несколькими словами утихомирил бунт. Присоединился и ксёндз Марек, жизнерадостный толстяк, который отлично умел вдохновлять молодёжь на патриотические действа, но разбирался и в политических компромиссах. Победные бои – впереди. А пока – разумный маневр ради сохранения военного потенциала и родной альма матер. Кто же будет учиться в академии Пане Коханку, если, не став кадетами, все полягут здесь? А за тайной лабораторией Лёдника начинался путь в подземелья, ведущие за пределы академии, до самых королевских конюшен.
Ксёндз отпер дверцу напротив главного входа в зал, справа от кафедры:
— Тихо! Выходим молча! Бог нас хранит!
И тут в двери зала загрохотали. Послышался властный голос:
— Откройте именем короля!
— Не успеем… — похолодел Прантиш. Лёдник устало передал ксендзу Мареку ключи.
— Успеете… Давай, Прантиш, иди! Ты знаешь все ходы-выходы…
Студенты друг за другом исчезали в узком тоннеле. Пан Рысь подскочил к Лёднику:
— Давай гостей порубим как капусту!
Профессор грустно покачал головою.
— Поверьте, здесь будет достаточно войск, чтобы перебить всех. И Академию закроют… Даже если просто увидят здесь вас, пан Рысь – сразу выявится связь с князем Радзивиллом. Заговор, антигосударственный мятеж… Российцам только этого и надо! Основания вмешаться. Может начаться настоящая война! Сколько народу безвинно и напрасно погибнет… А так – собрались студенты в карты поиграть, а я их разогнал. И кроме прочего – может, ещё получите свою драку, если на юношей нападут по дороге. Ну же, быстрее уходите!
В главные двери начали колотить чем-то тяжёлым, вроде бревна.
— Бутрим, я тебя не оставлю! – выкрикнул Прантиш. – Что за глупости – ты что, один собираешься сдержать целое войско?
— Да не боись, там мой друг, граф Михайло Рязанцев, я узнал его голос, как нибудь договорюсь, время потяну, — нудно проговорил Лёдник, подошёл близко к пану Каролю Рысю и что-то зашептал ему на ухо. Тот почтительно поклонился, вдруг решительно схватил Прантиша за раненую руку и вывернул её… Вырвич вскрикнул от боли, в глазах замельтешило… Осознал, что его позорным образом несут, как мешок, только когда над головой оказался не каменный потолок, а серое литвинское небо.
Пан Рысь осторожно поставил драгуна на напоённую дождями и испуганную близкими заморозками землю, поддержал за плечи:
— Идти сами сможете, ваша мость? А то ваша рана открылась, извините… Но пан Балтромей попросил так сделать, сказал, что единственное, что он просит – вывести вас.
Вокруг были деревья – сосны, скосившиеся на одну сторону, поскольку их корни подмывала речушка, голые прутья лещины. Недалеко серело строение городской бани. Самая окраина Вильни, дальше жались хаты бедноты предместья.
Вырвич почувствовал, что по щекам катятся жгучие слёзы, но ему совсем не было за это стыдно. Стыдно было за другое… И пану Рыси, похоже, также, ибо и он плакал, отворотив лицо с чёрными, как приклеенными, усами.
— Как вы могли бросить его одного! Я вас убью! И иезуитов этих подлючих – тоже! Они его отравить хотели, а он жизнь положил из-за их интриг!
Вырвич не мог кричать – горло перехватило от горя и гнева… Пан Рысь сокрушённо вздохнул:
— Даю слово, если отважный пан Лёдник погибнет, позволю Вашей мости покарать смертью и меня. Но сначала даю слово – если он выживет, а я в этом убеждён, так как даже если начнётся бой, его обязательно захотят взять живым, чтобы допросить – мы его спасём! Слово чести! Ничего не пожалею…
Пан Рысь помолчал, посмотрел на изнемождённого Прантиша:
— А студентов всех удалось вывести… Ни один жолнер не отправился за нами из зала, пока последний из нас не прошёл подземелья и мы не подали условного знака. Как пану Лёднику удалось их задержать? Может, действительно договорились мирно, как обещал доктор?
Вырвич горячо захотел, чтобы именно так и произошло. Доктор ведь умён, он же собирался заговорить нападающим зубы, предотвратить стычку…
Дождь сыпнул холодные слёзы, но кого он оплакивал – навряд ли знал сам.
Что происходило в то зловещее воскресенье в зале учёной рады, позже было не раз описано во всех подробностях. Так что в своё время узнал и Прантиш Вырвич.
Когда сломали двери, и впереди солдат вбежал граф Михайло Рязанцев, перед ним открылось неожиданное зрелище: пустое, как треснувший кувшин, помещение, а на краю ближней от дверей скамьи, в проходе, сидел профессор Балтромей Лёдник, устало опёршись двумя руками о эфес оголённой сабли, упёртой в пол. На худом клювоносом лице профессора отражалась вселенская тоска с примесью лёгкой брезгливости. Одежда грязная, сапоги захляпанные, неряшливо свисают пряди чёрных длинных волос… Облик, мало похожий на профессорский.
— Варфоломей! Что ты здесь делаешь? А где… все? – растерянно спросил Рязанцев, давая своему войску знак задержаться.
Лёдник не шевельнулся.
— Я выполняю свой долг, Михайло. Дисциплину поддерживаю. Собрались здесь студиозусы в карты играть, пришлось их погонять.
— В карты? – в голосе Рязанцева появились саркастические нотки. – Или в иные опасные игры? Где заговорщики?
— Ваша мость граф, они через те маленькие двери выбежали! Слышите, топочут! – закричал кто-то из солдат, но когда Рязанцев ступил шаг вперёд, Бутрим поднял голову и твёрдо вымолвил:
— Извини, друг, но я не могу позволить вам туда пройти.
— А ты зачем в это влез, Варфоломей? – с горечью спросил Рязанцев. – Зачем тебе сговоры магнатов, иезуитов, католиков? Ты же православный, учёный! Шутки окончены… Отойди!
Учёные мужи посматривали с портретов так отстранённо, будто в их жизни никогда не было ни боли, ни ненависти, ни предательства… Ни мучительного выбора: отойти в сторону и получить спокойную и счастливую жизнь, или рисковать за такое вздорное понятие, как честь, чтобы не иметь даже благодарности. Лёдник встал и направил саблю навстречу бывшему однокурснику.
— Извини, не могу…
— Хватит! – разгневался пан Михайло. – Хочешь, чтобы тебя сейчас на кусочки порубили? За бунтовщиков, разбойников, которые тебя же человеком не считают?
— Это всего только юноши, — твёрдо сказал Лёдник. – Талантливые, искренние, пылкие, соль, эссенция любой нации… Я не могу позволить их уничтожить. И я не хочу убивать ни тебя, ни твоих солдат. Давай закончим миром – не было здесь никакого сговора, я разогнал игроков в карты…
Жолнеры за дверью раздражённо гудели, не понимая причины задержки.
— Ваша мость, хватит болтать с эти бунтовщиком! Убегут, заразы! – белобрысый офицер королевской гвардии рванулся вперёд, но тут же был остановлен саблей Лёдника, которая срезала его ус.
— Что ты творишь! – Разгневанный Рязанцев выхватил саблю, но она отлетела к стене, со звоном завалившись за скамью. Граф, побагровев от злости, отступил:
— Ну, ты сам захотел… Догнать заговорщиков! В доктора не стрелять, взять живым! Он важный свидетель!
И начался балаган… Потому что только в балагане иногда можно увидеть такие фокусы. Доктор умело пользовался тем, что проход между скамьями узкий, скамьи тяжёлые, длинные, с высокими резными спинками – с места не сдвинешь, а солдаты не могли так ловко прыгать по скамьям, как профессор. А главное, дверь зала ограничивала возможности нападающих, больше, чем нескольким человекам, профессор зайти не давал, и тех же вынуждал возвращаться. Проклятый доктор, казалось, был повсюду, орудуя сразу двумя саблями, одной – своею, и другой – добытой у врага. Клинки его оружия казались размытыми, как крылышки стрекозы в полёте. Кто-то из стоящих в коридоре и наблюдающих за боем через выломанные двери, от злобы прицелился в фехтовальщика, но граф Рязанцев выбил пистолет.
— Я же сказал – брать живым!
Доктор прыгал по спинках скамеек и обрушивался сверху, как вихрь, а когда его почти окружили и зажали в угол – в это было невозможно поверить – прыгнул просто на стену, оттолкнулся от неё и очутился за спинами врагов.
— Это дьявол! – заверещали люди.
Но доктор был всего только человек. Пот тёк по его лицу, дыхание стало хриплым, на плече и боку кровили царапины…
— Варфоломей, остановись! – кричал Рязанцев. – Тебя сейчас убьют!
Но Бутрим только встряхнул волосами и, сжав зубы, крутнулся, две сабли со свистом очертили вокруг смертельное колесо, в которое никому не хотелось попасть – хотя пока никто не погиб, и не был серьёзно ранен. Но было ясно, что силы единственного защитника на исходе, и если бы не запрет убивать его, он бы, прострелённый-порубленый, уже умирал.
Где-то далеко за окном послышался выстрел из пистолета и сразу же – второй… Лёдник прислушался, лицо его просветлело – ясно, ожидаемый знак. Те несколько минут, которые он выиграл, стали спасением многих. Но чудеса окончились, изнемогшего фехтовальщика наконец оттеснили, в зал ворвались жолнеры. Обе сабли Лёдника упали на каменный пол. Он, шатаясь, выпрямился, скрестил на груди руки. Лицо было спокойным, как у человека, который наконец закончил сложное, неприятное, но необходимое дело.
Какое-то время к нему ещё боялись подойти… Но этот бой для профессора был окончен.
Ожидал новый, намного более тяжёлый.
Все узилища, наверное, похожи друг на друга… Не столько видом, сколько накопленными там чувствами – болью, страхом, отчаянием, которые, если бы их можно было видеть, серой влажной плесенью покрывают стены, потолок, заползают в каждый уголок и щель… Похожи и роли, там раздаваемые – палач, жертва… И тот, кто задаёт вопросы, не пачкая сам руки в кровавой работе.
— Ты должен назвать фамилии всех студентов, которые сбежали, — холодно промолвил Рязанцев, но глаза его были опущены, как от гнева, будто и видеть не хотел того, к кому обращался. Профессор пока что спокойно сидел на табурете, положив руки на колени, будто находился не в каменном мешке, где с потолка свисали цепи, громоздились деревянные приспособления, о назначении коих страшно было даже догадываться, и повсюду лежали инструменты, изобретённые человеком, чтобы делать больно другому человеку. Писарь с плоским, как у жабы, лицом, сидящий за столиком у окна, навострил уши и подготовился записывать показания.
— Извини, Михайло… Ты же понимаешь – не назову. Каждый из нас делает то, что должен… Я – своё, а ты делай своё.
Рязанцев повернулся к ещё одному присутствующему в этой комнате, огромному, как медведь, в кожаной куртке, с бритой головой – она была почему-то в царапинах и шрамах.
— Руки не калечить, кости не ломать. Это знаменитый доктор, его лекарское умение ещё может пригодиться.
Повернулся к бывшему однокурснику и промолвил, на этот раз с горечью:
— Извини, Варфоломей, более ничего не могу для тебя сделать.
И вышел, хлопнув железной дверью, будто она должна была отсечь кусок памяти.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. КАК ПРАНТИШ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЕГИПЕТСКОГО СЛУГУ
Когда волшебная птица Алканост, чьё пение делает всех счастливыми, откладывает на берегу моря яйца, и потом на восемь дней опускает их в волны, то восемь дней море спокойное, как зеркало.
Естественно, не то зеркало, откуда, как чирей на лбу, во время магического сеанса появляется египетская принцесса.
Должны же быть такие неожиданно спокойные дни в самой бурной жизни, в самом адском круговороте, и должны встречаться люди, как “абыдзённікі”– рушники, вытканные за один день вдовами и чистыми девушками деревни, они забирают на себя всё недоброе, заслоняют от зла…
Перед глазами драгуна витал светлый облик, прохладные руки меняли влажную ткань на лбу… Было так спокойно, так хорошо покачиваться на волнах этих мгновений на границе бреда и яви…
Но вот черты склонённого лица начали приобретать достоверность… Большие синие глаза с тёмными кругами усталости, безупречно очерченные губы, твердо сжатые, тёмные, гладко зачёсанные волосы… Пани Соломея!
Сразу же вспомнилось и иное – Балтромей Лёдник!
Прантиш рванулся, дабы приподняться, но в глазах поплыли круги, как на воде…
— Лежите, пан Вырвич… — на лоб снова легла холодная мокрая ткань. – У вас сильное воспаление от раны. И как только Бутрим додумался потащить вас в тяжёлую дорогу? Доктор называется…
— Это я сам… Сам напросился… — язык еле двигался, но мгла в глазах понемногу рассеивалась. Прантиш смог всё-таки оторваться от подушки, опёрся на локоть здоровой руки. – Где… он? Где Бутрим?
Соломея отвела взгляд.
— В тюрьме.
Значит, дела совсем плохи. Навряд ли после мирных переговоров доктор бы там очутился.
— Сколько уже?
— Три недели.
Не может быть! Неужели Прантиш столько провалялся в кровати, пока…
Вырвич сжал зубы и, несмотря на протесты пани Соломеи, сел, свет, конечно, поплыл вокруг каруселью, но не время для слабости! Когда дыхание выровнялось, и в висках перестали грохотать своими болезненными молотками маленькие кузнецы, драгун наконец осмотрелся. Незнакомое помещение с новенькими синими в золотые цветочки обоями, которые начали изготавливать на поставских мануфактурах. Дамы и кавалеры, гордо глядящие с портретов, были также не виданные раньше. Прантиш присмотрелся к гербу, нарисованному на парсунах: “Порай”… Белый цветок с пятью лепестками на красном фоне… Таким гербом пользуются многие.
— У нас в доме вам было бы опасно… — виновато промолвила Соломея. – Ко мне же приходили судейские, допрашивали… И о вас также. А это дом друга Кароля Рыси, он сейчас в Италии. Здесь никто вас не найдёт. Дом пустой, для ухода за вами наняли двух хороших женщин, и я прихожу. А ещё спадар Чунь Ли наведывался – это благодаря ему вы, наверное, и очнулись: он вчера делал вам точечный массаж…
Вот оно что… Дом заговорщика… И раз сюда не появляются с обыском, значит, из этого следует, что от Лёдника никаких сведений следователи не добились, и возможных участников заговора не трогают.
— Как Бутрим? – горло снова перехватило от горя. Соломея судорожно вздохнула и тихо промолвила:
— Скверно…
Помолчала, собирая силы, её изящный профиль, казалось, ещё более истончился от переживаний, и тихо пояснила:
— Он же в Академии дрался, жолнеров задержал. Никого не зарубил, так, поцарапал, сабли из рук повыбивал… Сам знаешь, он долго отрабатывал методику – как обезоруживать врагов, в какие точки на руке наносить удары, под каким углом выкручивать… Специально, чтобы не убивать. Но представляешь, в каком все бешенстве! Его там, когда наконец сдался, жолнеры из-за своего унижения едва на части не разорвали. К счастью, Бутрим в городе многим помог как доктор, и повсюду находятся благодарные ему люди. И в тюрьме также. Он когда-то спас сына одного из надзирателей, у того гнойное воспаление было. Тот человек мне и рассказывает всё… Носит Балтромею хорошую пищу, одеяло добыл, чтобы на соломе не лежал, одежду тёплую. Недавно я снова передала через него древесное масло… Целый кувшин. Тюремщик предупредил, что ещё понадобится. Много лекарств передала… Для остановки крови, от воспаления, обезболивающее… Сударь Ли какой-то бальзам специальный приготовил.
Соломея отвернулась, чтобы скрыть слёзы. Вырвич угнетённо молчал. Древесным маслом смазывали раны, которые медленно заживали… Если, например, ударами кнута сорвана кожа. Но доктор сам учил – пока человек живой, всё можно изменить, библейский Иов вон сидел на куче навоза и язвы свои черепком расчёсывал, а потом Господь снова его возвысил во властители земные…
–Придумали, как Бутрима выручить?
Пани Лёдник пожала плечами.
— Пан Рысь уже столько прожектов выдал… От подкопа до потопа. Но он сейчас дома, в имении – жена должна родить. Студенты, которые тогда на собрании были, хотят просто напасть на узилище, глупость, конечно. Ходила к Михайле Рязанцеву – глаза прячет, сам едва не плачет, но он – российский патриот, преданный царице, для него государственное преступление – непростительный грех, и помогать не станет. Его в Санкт-Петербург вызвали, возможно, по этому самому делу. Судья Юдицкий тоже уехал – на целебные воды. Письма написала королю, в Трибунал, ректору Академии… Правда, от иезуитов одного боюсь дождаться – из самых лучших побуждений возьмут да Бутрима отравят, чтобы не страдал, бедняга, ну, и, естественно, их не выдал. А король, возможно, откликнется – он учёных людей уважает, а никаких прямых доказательств, что мой муж участвовал в заговоре против него, нет – только доносы. Правда, не только вашего мага Батисты, но и кого-то из Академии…
Вырвич при упоминании о Батисте едва не подскочил – боль помешала.
— А где камзол, который на мне был? Вы из него ничего не доставали?
Соломея, мудрая женщина, не стала ничего переспрашивать, а быстренько принесла Прантишеву одежду.
— Не стала мыть, чтобы чего-нибудь не испортить, мало что ты мог припрятать…
Вырвич, как мог поспешно, ощупал карманы: вот оно, письмо, переданное Шередером! Возможно, помощь египетского жреца, предателя, из-за которого Бутрим и попал в тюрьму, понадобится, чтобы доктора же и вытащить. И вспоминание о Михалишивне заставило вздрогнуть сердце… Что сотворил с ней маг за это время?
— А не слышно ничего о негодяе Батисте? – спросил Прантиш сквозь зубы.
Соломея горько усмехнулась.
— Ещё как слышно! Вся Варшава только о них и говорит, даже сюда слухи дошли: о великом предсказателе и чародее графе Рудольфиусе Батисте и его красавице-жене, которая танцует на горящих углях и бесстыдно показывает ноги. Пан Рысь собирался было поехать и мага на дуэль вызвать, но его отговорили: Батиста в фаворитах у Понятовского, король даже за его женой волочится, и, говорят, был одарен её ласками…
При этих словах Вырвичу стало так больно, что, кажется, остановится сердце… Пани Соломея даже испугалась:
— Тебе плохо? Приляг…
Вырвич откинулся на подушку, стиснув зубы. А чего он ожидал, что египетская принцесса ни с поля ветер будет сохранять ему верность? Что же, она достаточно красива, талантлива, умна и… и необычна, чтобы очаровать даже короля, тем более молодого и падкого на женщин. А Батиста ещё, видать, и вынуждает невольницу к выгодному флирту с монархом. А может, Михалишивна в Телка влюбилась – а почему нет, пригожий, сильный, деликатный, играет на флейте, переводит Шекспира… А она для него в опочивальне Офелию или Виолу изображает… А что же, всемогущая мадам Помпадур, фаворитка французского короля, тоже из бедноты, из грязи вылезла, а всем государством руководит, королева ей кланяется… Позолоти вороне перья – вот тебе и пава.
— Говорят, Батисту российская царица к себе приглашает на Рождество… А в России его совсем не достанешь, – сокрушённо проговорила Соломея.
— Ничего, я его отовсюду достану… — ненавидяще проговорил Вырвич. — У меня есть чем его в блин раскатать. А ты не слышала, не передавал ли он Понятовскому одну очень редкую реликвию?
— Нет, не рассказывали такого…
Для кого же итальянский проходимец приберегает корону святого Альфреда, которую везли для Пана Коханку? Ведь держать такую вещь при себе – всё равно, что возить бомбу с зажжённым фитилём. Неужели для императрицы? Эх, с Лёдником бы посоветоваться…
Воспоминание о докторе снова вогнало в тоску.
Соломея была лекаркой искушённой, ловко перевязала драгуну рану, пообещала, что через пару дней можно будет попробовать встать.
Несколько дней! Да для Бутрима каждый день в тюрьме – мучительное столетие… Драгун не собирается отлёживаться, если уж очнулся. Да он сейчас всю Вильню на ноги поставит, чтобы доктора освободить! И Батисту найдёт, и Рязанцева…
— Приветствую его мость Вырвича и пани Лёдник.
Граф Михайло Рязанцев зашёл в комнату, будто к себе домой. В дорожном плаще и шляпе, с которого ещё не отряхнул первый, влажный, снег, рука его нервно мяла дорогие шагреневые перчатки.
— Рад видеть, что пан Вырвич очнулся.
По голосу графа, однако, это не было слышно. Холодный был голос, со сдержанным гневом и горечью, будто говорил с друзьями, которые его сильно разочаровали.
Соломея вскочила, в её руке очутился кинжал. Вырвич мучительно оглядывался в поисках сабли.
— Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает. Если будете вести себя разумно. Хотел бы я, пана Вырвича давно бы арестовали.
А граф изменился. Похудел, на лице усталость, глаза покрасневшие, морщины углубились… Кажется, годы, а не месяцы прошли от Бутримовой лекции, после которой его друг Михайло Рязанцев, защищая докладчика, рассказывал о российской кунсткамере…
— Надеюсь, вы заинтересованы в том, чтобы доктор Лёдник был жив и здоров?
Соломея и Прантиш переглянулись, женщина настороженно спросила:
— Что от нас для этого требуется?
Граф даже не улыбнулся.
— Ничего, что было бы для вас бесчестным.
Помолчал, походил по комнате, будто решаясь быть искренним, невесёлая улыбка искривила его лицо.
— Колесо Фортуны вертится независимо от наших желаний… Я сегодня вернулся из Санкт-Перербурга. Вызывали меня по делу о заговоре, который я по поручению канцлера Панина должен был разоблачить. Дело должно было стать громким, с привлечением многих известных фамилий… Все мы знаем, что благодаря моему другу Балтромею Лёднику и его своеобразному чувству долга громкое дело превратилось в фарс.
Рязанцев с силой хлестнул перчатками о край стола, будто стол был во всём виноват.
— Моему рапорту никто не поверил! У меня, как и у каждого более-менее заметного человека, много врагов, которые не против занять моё место или навредить моим покровителям. Двести вооружённых солдат против одного профессора! Ну, хорошо, в бою в зале могли принять участие не более трёх десятков… Но – он был один! Никто не убит. Не ранен… Да надо мной просто посмеялись!
Граф ходил взад-вперёд, как зверь по клетке.
— Её величеству доложили, что я сговорился с моим другом Варфоломеем Лёдником, что я позволил заговорщикам уйти, имитировав бой… И что его мость князь Репнин, мой покровитель, получил за это большие деньги от князя Радзивилла. А вы же знаете, что канцлер Панин – дядя его мости Николая Репнина, поэтому подозрение падает и на него, чему многие в Санкт-Петербурге очень рады, поскольку до сих пор никак не могли очернить ясновельможного канцлера в глазах её величества. Вот видите, что наделал наш общий знакомый, учёный доктор?
Пан Михайло был почти в отчаянии, так что Прантишу даже стало его немного жаль. Но Лёдника было жаль гораздо больше. И Вырвич насмешливо спросил:
— Выходит, вы сейчас также государственный преступник, ваша мость?
Рязанцев зло блеснул серыми глазами:
— В нашем роду никогда не было предателей! И не будет! Есть одно средство доказать, что рапорт был честный… Князь Репнин подтвердил и его мости канцлеру Панину, и её величеству Екатерине, что профессор Лёдник действительно является выдающимся мастером фехтования и способен на подобные подвиги. Но её величество не может поверить в такое чудо, не увидев своими глазами.
— И это значит… — начал догадываться Прантиш.
— И это значит, что у меня приказ привезти государственного преступника в Санкт-Петербург, где он должен подтвердить правдивость моих слов. Или опровергнуть… Её величество милостиво дала согласие выяснить всё во время рождественских карнавалов, когда у неё появится свободное время. Но…
Рязанцев опустил глаза и кусал губы, будто ему стало страшно неловко.
— Но… Варфоломей в плохом состоянии.
— Что вы с ним сделали, негодяи? – Соломея бросилась на графа.
— А что вы хотели, чтобы государственного преступника угощали пряниками? – выкрикнул взвинченный граф, отрывая от себя разгневанную женщину. – Он сам определил свою судьбу – своим поступком и своим упрямством во время следствия! Я и так приказал его не калечить, не ломать кости… Просто, пока меня не было, он вёл себя слишком дерзко, ну и те, кто допрашивал, перестарались…
— Я должна его увидеть!
Глаза Соломеи горели синим огнём, так, что Рязанцеву было явно не по себе.
— Я и хотел предложить… Я знаю, что вы, пани Соломея, тоже отличная лекарка… Доктор, думаю, желал бы, чтобы именно вы его и лечили, от рук любимой всё ведь заживает быстрее, правда? Мы переведём Варфоломея в хорошие условия… Все лекарства, что нужно, дадим… Сможете привезти к нему сына… Пану Вырвичу, даже когда поправится, лучше не показываться – он тоже под подозрением, но письмо можете ему написать.
— Короче, готовы на всё, только бы Бутрим выздоровел и согласился вас обелить перед царицей, — саркастично проговорил Прантиш. – Вы же теперь все от его слов и его самочувствия зависите, не так ли?
— Так… — Рязанцев твёрдо глянул в глаза Вырвичу. – Могу лечь под тот же кнут. И я пойму, если сейчас Варфоломей не захочет за меня заступаться. Но это шанс спастись и для него. И, поверьте, я не сделаю заложниками его семью. Вам в любом случае ничего не угрожает, даю слово.
— Везите меня к нему сейчас же! – пани Соломея хватала бутылочки с лекарствами и ссыпала в чёрный чемоданчик, которым пользовался Лёдник, когда ходил к пациентам. Повернулась к Рязанцеву, и у неё было такое лицо, с каким царица Ипполита боролась за свой пояс с наглым афинянином Тесеем.
— Но если с моим мужем случится что-то непоправимое, я вызову вас на дуэль и убью!
У обоих присутствующих мужчин не возникло и тени сомнения, что именно так и будет.
То, что Рязанцев доверил лечить узника Соломее, ни её саму, ни Прантиша не удивило: во-первых, пани Лёдник действительно была хорошей лекаркой, ученицей гениального мужа, а во-вторых, у доктора создалась такая репутация, что, если злому профессору оставался шанс оправиться и высказать всё, что думает о способностях коллеги, ни один виленский медик не решился бы без его согласия взяться за лечение. Да и связываться с бунтовщиком и богохульником мало кто захотел бы.
…За окном сгущался чёрно-белый сумрак – снег ещё только нащупывал свои новые владения, и первые снежинки, посланные на разведку, создавали сине-белые лоскуты на нищенском тряпье литвинской почвы, сразу же стряхивающей со своего рванья красивые, но холодные заплатки. Но те литвины, кто весной, на святого Мартина, гадал на грудине мартинового запечёного гуся, знали точно, что зима ожидается снежной и морозной.
–Кавалю Марціну,
Падкуй ты мне свінню,
Бо зіма падходзіць,
Свіння боса ходзіць, — напевал Прантиш детскую песенку и нетерпеливо посматривал через тусклые стёкла – вернётся ли сегодня пани Соломея? А пока пытался вернуть телу былую ловкость, что после трёх недель бреда и горячки не так просто. Понемногу двигался, держась за стены и мебель, делал дыхательные упражнения, которым научил Лёдник.
Пришла женщина, немолодая, молчаливая, в белом платке. Не удивилась, что больной в сознании, отвечала на все вопросы: “А Бог его знает, мой пане…” Зато приготовила вкусную похлёбку и овсяную кашу, которая показалась драгуну деликатесом. А если кушать снова хочется, значит будем жить, и дрожите, враги, и ждите нас, прекрасные дамы… Ганулька Маковецкая, наверное, сидит в Лещинах и тоскует, и льёт слёзы по бравому драгуну. Вот бы она сейчас вокруг него носилась с лекарствами и питьем, тонкие ручки дрожали бы, тёмные глаза наполнялись слезами – то от жалости, то от счастья. А Прантиш снисходительно бы командовал: чай подогрей! Книгу подай! Трубку почисть! О, нужно ещё выучиться курить – Лёдник очень не одобрял эту общую моду, и Вырвич подпал под занудное влияние доктора. А это ж так мужественно выглядит – откинулся в кресле, нога на ногу, и пускаешь дым из длинной трубки…
Вот Михалишивна, наверное, только посмеялась бы над тем, как важно драгун пыхтит дымом – ровно дракон… И ухаживала бы за ним, как пани Соломея – не плакала, а ловко делала перевязки, вынуждала сохранять диету, шутками и приличествующими историями не давала бы больному слишком себя жалеть… “Вот ваш святой Франтасий смог даже без головы дойти до храма, попрощаться со своим епископом. А у вас, пан Франтасий, и голова, и руки-ноги на месте… Есть люди, которым намного хуже, чем вам!” Вырвич будто наяву услышал ироничный голос Михалишивны. Которую сейчас, возможно, обнимает король и целует прозрачно-зелёные русалочьи глаза…
Вырвич даже замычал от гнева и боли и постарался отогнать неприятное зрелище… Правда, ещё больнее было представлять, как сейчас валяется в каменном мешке бесчувственный доктор Лёдник…
Больная рука начинала понемногу оживать, боль в плече уже не рвала на части. Вырвич обыскал камзол: вот письмо для полковника Мосальского, в котором покойный Шредер заверял, что подхорунжий Вырвич наилучшим образом выполнил поручение по сопровождении больного шляхтича в паломничество по святым местам. Знать бы, чем обернётся – сразу бы послал судью Юдицкого с его соблазнительным предложением к Хуту! Вот исписанные бумаги и карандаш – а стихов набралось порядочно, хотя что это за стихи – неуклюжие, как бабочки с оборванными крылышками, хоть сейчас их отправляй в огненную могилу… Только обещание Лёднику не давало так сделать.
…Отражается в лезвии тёмный взор Алконоста,
Что напевает о мире, не строящемся на крови.
Сдаться и отойти, смириться – это так просто.
Но саблей одной отгорожена смерть от моей любви.
Соломею привезли назад в карете Рязанцева, когда было уже совсем темно, и тени от пламени свечей шевелились на стенах, оклеенных тёмно-синими обоями в золотые цветочки, как ночницы. Женщина зашла в комнату, чемодан выпал из её руки на пол. Жена доктора обессиленно опустилась на стул, закрыла лицо руками, и вдруг плечи её затряслись – Вырвич ещё ни разу не видел, чтобы она так отчаянно плакала, хотя пережить пришлось вместе немало. Он с самыми ужасными предчувствиями подковылял к пани и тронул рукой за плечо. Она подняла лицо, величественная красота которого вынудила бы не одного рыцыря сейчас же броситься защищать – пусть даже и от кровожадного дракона.
— Извини, нервы не выдержали…
Утёрла тонкой рукой слёзы, теперь в её чертах сквозь отчаяние проглядывала та внутренняя сила, которая делает красоту чем-то большим, чем объект для приятного созерцания.
— Его так избили, что живого места нет, — голос Соломеи был суров, только едва заметно дрожал. – Спина – сплошная рана, так что пришлось целое полотно бальзамом намочить и приложить… Очнулся только на минуту… Чтобы проворчать, что я в бальзам не добавила достаточно ладана.
Улыбка тронула уголок рта Соломеи. Доктор, наверное, и на том свете начнёт учить праотца Абрама правильной рецептуре пива, а херувимов – гигиене перьевого покрова крыльев.
— Перенесли Бутрима в самое лучшее помещение, кажется, коменданта выселили, — продолжала женщина. – Решила сразу заехать к тебе, чтобы Алесика слезами не пугать – чувствовала, что не выдержу, а при… этих тоже плакать не хотела.
Женщина задушила всхлип, встряхнула головой, её низковатый голос снова зазвучал твёрдо.
— Сейчас заеду домой, утешу сыночка, наберу ещё лекарств – и назад… К Бутриму… Алесик с Хвелькой перебудет. Извини, и к тебе в ближайшие дни навряд ли выберусь, останешься с Агапой, она молчаливая, но старательная. Нужно ещё Чунь Ли обязательно к мужу привезти. С его нетрадиционными методами дело веселее пойдёт…
— Как ты думаешь, доктор выздоровеет? – в страшной тревоге спросил Прантиш.
— Не знаю… Всё в воле Божьей… — тихо проговорила Соломея, голос её дрожал. – Но Бутрим сильный. Будем молиться и надеяться…
Помолчали…
— А эти же хотят, чтобы я поставила его на ноги за месяц, — с горечью проговорила жена доктора. – На Рождество он должен быть в Санкт-Петербурге… Рязанцев аж манжеты сгрыз от нетерпения – Бутрим же без сознания всё время, так пан Михайло до сих пор не смог с ним договориться и что-то объяснить. Ничего, потерпит, – Соломея недобро усмехнулась. – Насколько я знаю Балтромея, он, когда сознание вернётся, дружка нашего ещё хорошо языком припечёт.
И потянулись дни унылые и тревожные, как время между поздней осенью и ранней зимой, когда деревья уже все голые, страшные, аки наказанные грешники, а небо все не сбрасывает на них белый девственный покров снега.
Хотя снег, устойчивый, сыпучий, наконец выпал… Под копытами коня пана Кароля Рыся он разлетался искристыми фонтанами, и плевать было альбанцу, следят или не следят, арестуют, убьют: шляхтич конный – с королём ровный! Лицо пана светилось от счастья:
— Сын! У меня родился сын, пан Вырвич! Я назвал его Станислав Балтромей!
Прантиш едва не поперхнулся от новости. Родовитый шляхтич назвал наследника в честь сына полоцкого кожевника! А первое имя, Станислав – это одно из имён Пане Коханку, князя и магната. Ну что же, каждый сам кузнец своей судьбы, можно родиться князем, а о тебе заговорят только тогда, когда придётся делить наследство.
Идеи из пана Рыся по освобождению Лёдника били гданьским фонтаном, чёрные усы топорщились, как две готовые к бою шпаги, но Прантишу вскоре наскучило выслушивать эти “А тогда мы как бросимся…”, и он поставил перед альбанцем конкретную, как бутыль горилки, задачу: любым способом разведать, когда и каким путём маг Батиста отправится в Санкт-Петербург, на каких станциях будет останавливаться, кто с ним поедет. В Вильне, где вокруг полуживого Лёдника охраны и шпиков было, как мошкары над лужей, рассчитывать на удачное нападение не приходилось.
Более всего, конечно, ждал визитов пани Соломеи. Та приходила измученная, но всё более радостная: вот Бутрим перестал терять сознание… Сделал одолжение нормально покушать… Начал властно руководить процессом своего лечения… Произошла и нелёгкая беседа с Михайлом Рязанцевым. К чести последнего, тот узника ни о чём не просил и не уговаривал. Просто сообщил о сложившихся обстоятельствах, и дал понять, что теперь целиком зависит от слов бывшего однокурсника, но вынуждать говорить то или это не собирается.
— Имеешь возможность отомстить мне, — только и сказал, опустив глаза. На что Балтромей, всё ещё не способный перевернуться на спину, проворчал “Каждый должен выполнить свой долг, и сохранить честь”.
Как это понимать, Рязанцев мог только гадать. Следствие по делу профессора Виленской академии Балтромея Лёдника временно приостановилось.А если бы не его молчание, могло бы раскрутиться ощутимо и для его близких. Ибо всплыло, оказывается, и путешествие профессора с драгуном Вырвичем в качестве сопровождающих подозрительного больного: из Менска доложили, что они проезжали через заставу. К счастью, Батиста не стал в доносе расписывать вывоз иезуитского золота, ведь и сам был измазан в “золотом” деле, как кошка в сметане. Как-то на допрос приводили для опознания ещё одного узника: Зигмунт Гросс безучастно осмотрел окровавленного профессора и заверил, что такового не знает. Лёдник, в свою очередь, решительно отказался от всякого знакомства с подозрительным паном. И ясно было, что хоть избивай каждого до смерти или приведи других свидетелей, показаний не изменят. Действительно, каждый должен выполнять свой долг, каким бы образом он его не понимал, как сказал однажды над умирающим Шредером Гросс.
Пришёл проведать Прантиша и китаец. Сунулся в дом, ступая беззвучно, как дух – Хатник, низенький, в синем халате, подбитым ватой, с вечной улыбкой на морщинистом лице, со смешной козлиной бородкой. Так и казалось, что сейчас вымолвит какое-нибудь угрожающее “Фух-фух, чур меня, дай-дай, хозяин, яичницы без соли, а то получишь по спине”.
Но сударь Ли говорил вежливо и тихо, смешно коверкая слова. Он осмотрел Прантиша, больно нажимая на отдельные точки тела, поводил рукой над раной, которая уже затянулась, глянул в глаза, да так, что голова закружилась – хотя узкие глаза китайца с желтоватыми белками совсем не казались страшными в сравнении с тёмными пронзительными глазами Лёдника.
— Скоро выздоровеешь, молодой человек! – похлопал Чунь Ли Вырвича по спине. – Будешь жить долго, женишься, красивые слова напишешь!
Вырвичу даже не по себе стало: почему китаец про слова сказал, а не про славные драки? Неужто, как и Лёдник, хочет из него стихоплёта воспитать?
На расспросы о здоровье Бутрима Чунь Ли сказал, что доктор “Крепкий, очень крепкий. Но горячий. Страсть мешает, ибо только холодный ум должен управлять благородным мужем во время опасности, к успеху приводит сдержанность” И добавил, что Конфуций учил, не с тем нужно быть в бою, кто может броситься на тигра с голыми руками или кинуться в реку, не дожидаясь лодки.
— Но Чунь Ли сам человек горячий… — сокрушённо завздыхал дедушка и признался, что ему пришлось убегать с родины после того, как его хозяин, очень важный чиновник, попал в немилость к императору, и пришли солдаты с приказом убить всё семейство чиновника. Чунь Ли, любимый ученик и телохранитель, не смог вместе с хозяином и другими слугами добровольно принять смерть, а наоборот, начал биться с пришельцами… А когда всех перебил – спасённый хозяин с раздражением на слишком старательного слугу зарезал себя, ибо волю императора нарушать нельзя. Вот и блуждает теперь Чунь Ли по чужбине, как бездомный пёс…
Прантиш немного не понимал такую философию, а когда спросил, как помочь доктору Лёднику, снова столкнулся со странностью.
— Конфуций учил, если тебе скажут, что благородный муж, известный своей человечностью, попал в колодец, бросаться ему на помощь не нужно. Потому, что благородный муж может идти на смерть, но не может погибать безрассудно.
Как с такой философией сочеталось выдающееся боевое умение, неизвестно. Видимо, для употребления всяческих хитромудрых ударов у китайца были свои учёные обоснования – философ всегда способен обосновать самый дикий свой поступок таким высоким и мудрым слогом, что не то, чтобы упрекнуть мудреца – простаки ещё и аплодисментами его наградят. Но ясно, что рассчитывать на спадара Ли при освобождении доктора не приходится. Хорошо, полечит его да поможет восстановиться… Нетрадиционными, хотя и жёсткими методами. К поездке в Петербург, Лёдник должен быть в возможно лучшем состоянии.
Дедушка оказался весёлый, шутник… Теперь было понятно, почему передавал Лёдникам кушанья, в которых плавали глаза и другие страсти. Рассказывал Прантишу и об обычаях китайских поэтов – как только такой поэт достигал вершины славы, тут же всё бросал, переселялся в другое место, где его никто не знал, менял своё имя и начинал всё сначала… Чудаки, одно слово.
Рассказывал и о своих странствиях по Сибири. Как встречался с тунгусами, они все были с лицами, раскрашенными в разные цвета, так, что нельзя было отличить женщин от мужчин. Тунгусы кочуют от реки до реки, ловят рыбу, из убитого зверя сосут тёплую кровь, умерших своих не хоронят, а оставляют на деревьях, чрезвычайно метко стреляют из луков. Чунь Ли целый год был в плену в одном их племени, пока не продали его русскому посланнику за десять ножей.
Алесика доктор позволил привести к себе, только когда сумел более-менее приподниматься, и чтобы не напугать малыша, побрил бороду, которая уже солидно отросла. А Прантишу передал, чтобы не делал глупостей и не удумал осуществлять фантастические планы по его спасению. Балтромей Лёдник сам о себе позаботится.
Прантиш только фыркнул. Знаем, как этот благородный муж умеет о себе заботится.
Через пару недель доктор сам начал ходить. Ещё через неделю – заниматься с Чунь Ли гимнастикой. Поскольку Лёдник, как истинный белорус и полочанин, владел всеми качествами подорожника – способностью снова и снова вставать, когда переехало чужим колесом, притоптало копытом, и лечить других, и держаться за неласковую родную землю, Вырвич понял, что время действовать и ему. Потому, что пан Рысь о пути Батисты разведал точно…
На маленькой придорожной станции пришлось ждать два дня. Если бы была при себе птица кобчик, по чьему полёту ворожили, то запустили бы в синее небо… Потому, что теперь днём небо синело, и всё казалось красивым, как на немецкой фарфоровой тарелке. Дом, из серых брёвен, с гонтовой крышей, запорошённой снегом, напоминал дворец Зюзи, славянского божества холода. Подслеповатые окошки будто самыми дорогими занавесками затянуло инеем. Сосёнки у калитки, летом, наверное, изуродованные прохожими, сейчас прибрались в бархат и диаманты, как сиротки, взятые под покровительство магнатом, обеспеченные приданым и вывезенные на бал подбирать стоящих женихов. Внутри корчма была как корчма – воняла бараньим жиром и квашеной капустой. Гости пили ещё больше, чтобы согреться, пели ещё громче, чтобы отогнать тоску длинных и тёмных зимних вечеров… Прантиш, пан Рысь и ещё два шустрых парня из спасённых Лёдником студентов, с кличками Рак и Сак, пили и пели, как и остальные. И чтобы не привлекать внимания, и просто потому, что как ещё молодым воям перед боем проводить время?
…Дзяўчо маё маладое, маеш вока цудаўное,
Я з-за тварыка твайго страціў коніка свайго.
З-за тваіх белых ручок страціў залаты лучок,
З-за тваіх харошых вочак чатырох не выспаў ночак…
А пан Рысь, пряча в чёрные усы улыбку, учил студиозусов, как вынудить влюбиться в себя девушку. А всего только и надо зацепить её крючком летучей мыши. Делается он просто: нужно словить летучую мышь, посадить в горшок, завязать тряпочкой с дыркой, пойти в лес и закопать в муравейник. А после бежать бегом, чтобы не услышать из горшка крика летучей мыши, заедаемого муравьями, ибо если услышишь – умрёшь. Через семь дней в горшке остаются одни только белые косточки, из которых нужно выбрать крючок и вилку. Ежели взять их в рот – можно стать невидимым, а крючком девчат привораживать. А когда девица надоест – оттолкни её мышиной вилкой, и отцепится. Вот только если ты схватишь ту летучую мышь, в которую после смерти превратился колдун – капец тебе. Самого ночью муравьи заедят… И останется утром в постели от тебя только кожа, из которой какая-нибудь ведьмарка сумеет барабан изготовить, чтобы твоя душа после смерти ей служила…
Прантиш беззвучно хохотал, поглядывая на перепуганных молодых людей, кои храбрились и обещали, что никаких летучих мышей не боятся, и цепляют девиц без волшебных крючков, а сам украдкой щупал плечо, покручивал рукой: сможет ли, как раньше владеть саблей? Лёдник в своё время натренировал его драться обеими руками, но левой всё-таки Прантиш владел хуже.
А Прантишев отец, Данила Вырвич, рассказывал ещё, что корчмары завлекают посетителей, прибивая летучих мышей к стене корчмы. Наверное, и здесь где-то висел убитый зверёк– так как в посетителях недостатка не было. Монахи, купцы, шляхтичи, судейские… Но когда вечером подкатила карета Батисты, не заметить её не смог бы даже глухой Пилип, что к печи прилип. Большой пан приехал. Карета сияла позолотой, как новый сундук. На ней красовался герб с изображением орла и змеи, такого Прантиш раньше и в глаза не видел, а значит, был он фальшивый, как начеканенные в Пруссии польские талеры. Сзади, будто грехи за бродягой, тащился воз с декорациями, плотно укутанными просмоленной тканью. Даже лакеи одеты в сает и красные сапоги. А уж когда вышли граф с графиней, корчмарь едва на колени не повалился. Надутая физиономия Батисты являла такое презрение к этому жалкому миру, что накопиться оно могло действительно только за три тысячелетия бытия египетского жреца. Зато графиня, закутанная в белый сказочный мех, была такая возвышенно красивая, что даже забулдыги, не могущие оторвать головы от стола, загляделись, разинув рты.
Для важных гостей отвели отдельное помещение, вытурив из него кого-то менее важного и страшно возмущённого несправедливостью. А чего же, бедняга, хотел – в этом мире кому булава, кому мотовило. Люди чесали языки да таращились на приезжих. Только молодые шляхтичи, которые вот уже два дня сидели в корчомке, играли в карты, громко разговаривали и нахально рассматривали всех, не показывались, и никто не знал, что за докука у них приключилась.
Но граф Батиста с красавицей женой узнали.
Когда в их покоях вдруг нарисовалась чужая фигура, будто прямо из стены вышел дух ещё одного египетского жреца.
Батиста ненавидяще-насмешливо смотрел на молодого драгуна:
— Вы серьёзно надеетесь, пан Вырвич, что можете безнаказанно напасть на гостя польского короля и российской царицы? Да вас сейчас…
Вырвич развёл руками, показывая, что не держит оружия.
— Ну что вы, пан Батиста, какое нападение… Всего только беседа старых знакомых. Об очень привлекательном и полезном предложении…
— Вы уверены, что вам есть что мне предложить? – Батиста нащупывал рукой пистолет. Михалишивна, которая при появлении Пранцыся не смогла сдержать удивлённо-радостного вскрика, напряглась, подобралась ближе к графу, и драгун, силясь не смотреть на неё, понимал, что девушка прикидывает, как не допустить боя.
— Так получилось, что у меня есть одно очень интересное и хорошо знакомое вам письмо… — Прантиш улыбался, словно корчмарь, вместо дорогого венгерского вина споивший гостям бочку берёзового сока, приправленного спиритусом. Батиста самую чуточку забеспокоился.
— Какое письмо?
— Понимаете… — Прантиш преувеличенно сокрушённо вздохнул, — иногда по невнимательности можно сжечь в печи пустой конверт…
Теперь Батиста заволновался уже заметно.
— О каком конверте пан говорит?
— О том, где было письмо следующего содержания…
Вырвич не спеша достал из кармана лист, расправил:
— “Ясновельможный пан Героним Радзивилл, простите, что промедлил с ответом на письмо Вашей княжеской мости, униженно целует вам ручки и ножки презренный ваш слуга Рудольфиус Батиста…” Ой, какой плебейский стиль… Вас учили риторике?
Маг рванулся и выхватил из рук Прантиша лист… Это была копия, снятая с оригинала, засвидетельсвованная подписями двух свидетелей.
Облик мага сделался одного цвета с напудренным париком.
— Что вам нужно? А, догадываюсь… Наша очаровательная дама!
Батиста бросил взгляд на Михалишивну, будто оценивал, насколько сможет без неё обойтись. И Прантиш с неловкостью осознал, что Михалишивна вдруг вся задрожала, и её глаза загорелись надеждой – поверила, что драгун вернулся за ней… Неужели покровительства короля ей оказалось мало?
Вырвич с трудом отвёл взгляд от актрисы, не желая видеть её разочарования, и заставил себя снова жестоко улыбнуться.
— Не попали, пан Батиста.
Маг удивлённо приподнял брови.
— А вы поумнели, молодой человек… Значит, соблазнились короной святого Альфреда, или заодно и иезуитским сокровищем? Но у меня осталось не так много…
Прантиш отрицательно повертел головой.
— Мы вернём вам то письмо, которое сейчас хранится в надёжном месте и в случае вашего предательства будет отправлено в Трибунал, и дадим слово никогда не рассказывать о вашем преступлении, если вы поможете попасть инкогнито мне и ещё трём литвинам в Санкт-Петербург и побывать там, где нам понадобится.
— За доктором Лёдником собрались? – насмешливо, но с примесью ненависти проговорил Батиста. – Должен предупредить, что все прожекты по его освобождению не осуществятся. Слишком серьёзное дело.
— А что случилось с паном Лёдником? – Раина Михалишивна искренне встревожилась, и Прантиш невольно засмотрелся на её зелёные глаза, хотя давал себе слово не выявлять внимания к новой королевской фаворитке. Вырвич коротко описал ситуацию. Батиста зло рассмеялся и высказал своё мнение.
— Я не сомневался, что доктор плохо окончит. Он у вас просто герой гишпанского романа Дон Кихот, который с тазиком на голове и ржавым копьём бросается на ветряные мельницы. И чего потом удивляться, если получает по голове? И это вместо того, чтобы спокойно пользоваться данными небом талантами, за которые многие заложили бы душу. Что же, обещаю, вы будете рядом со своим доктором, но освобождать его я не собираюсь. И палец о палец не ударю. Какая мне разница, за что быть повешеным, за старое дело или за новое?
Вырвич нахмурился.
— Вы должны обеспечить нам возможность быть рядом с доктором и следить за его судьбой.
— Ну это я могу… — Батиста улыбнулся. – А теперь подумаем, что с вами делать. Позовите сюда ваших трёх литвинов…
Когда пан Рысь и два студиозуса вошли в комнату, под дверью которой ждали, Батиста, снова уверенный и злорадно-ироничный, обошёл небольшой отряд, критически осматривая каждого.
— Ну что, отважная банда Дон Кихота, будем подбирать каждому соответствующую роль!
Пан Рысь попробовал было возмутиться и показать наглому шуту его место, потому что более всего на свете он хотел зарубить предателя, но пан Батиста сузил серые глаза, оскалился, и хотя до Лёдника, который взглядом прибивал к месту, ему было далеко, спорить почему-то всем расхотелось. Нет, трусом назвать мага всё-таки нельзя.
Итальянец обмерил глазами благородную осанку пана Рыси, задержавшись на чёрных воинственных усах.
— Ну, вас, ваша милость, могу сделать форейтором… Будете управляться с лошадьми. Вам при вашей фигуре нужно обязательно иметь мундир! И оружие в этом случае можете при себе оставить.
Покуда пан Кароль бурчал что-то неодобрительное, маг остановился около белобрысого Рака и чернявого Сака.
— А этих куда, миа кара? – оглянулся на Михалишивну. – В ассистенты не подходят, слишком неуклюжие. С ролью лакеев тоже не справятся – уронят прилюдно пару раз поднос или грелку, и что тогда, порку им задать, чтобы легенду не разрушить?
Пауки разбежались по углам комнаты, почувствовав, что сейчас люди могут начать швырять друг в друга не только словами и порвут паутину, столько труда канет… Разве люди способны так кропотливо прясть и переплетать тоненькие нити! Нет, им бы рубануть, приказать и получить свою муху сразу, под анисовым соусом на саксонском фарфоре…
Раина осмотрела возмущённых студиозусов.
— А пусть паны едут в карете на двадцать четыре окна… Ну, на возу при декорациях, будто носильщики! Будут помогать сцену обустраивать, вещи грузить, парни, кажется сильные.
— И правда… — согласился Батиста. – Поступите в распоряжение моего Джованни. Он даст вам одежду. А что делать с вами, пан Вырвич?
Прантишу сделалось неуютно, слишком ироничен был взгляд мага.
— Пан Вырвич, вероятно, под подозрением, — напомнила Михалишивна. Батиста задумался.
— Ещё как… Они же с доктором – как нитка с иголкой, всем глаза искололи. Здесь простого переодевания мало…
Маг недобро так прижмурился, как цензор из коллегиума, точно знающий, что у этого школяра в кармане спрятаны карты, и сейчас появится причина отхлестать игрока берёзовыми розгами.
— Вот что! Вы, пан Вырвич, будете моим личным египетским слугой! Считайте себя хоть потомком фараона… Волосы покрасим, кожу намажем, костюмчик подберём… Зато сможете повсюду за нами соваться, опахалом графиню обмахивать, в фокусах мне помогать – вы же человек в различных проказах натренированный, это я сразу увидел. Поспособствуешь ему перевоплотиться, миа кара?
Михалишивна весело рассмеялась.
— Басмы хватает. Крем для кожи изготовлю. Тюрбанчик накручу…
— Ну вот и ладушки! А на рассвете отъедем, чтобы никто не увидел, что были ваши мости – уважаемые шляхтичи, а стали прислугой египетского жреца Атхесенпаамона, приятно познакомиться.
Вот и открылся секрет черноволосости Раины… А что сделаешь, если у египетской принцессы русых белорусских кос быть не может. Ночью артистка с весёлыми шуточками покрасила Прантишу волосы и брови лучшей индийской басмой, которой пользовалась сама. Прантиш невольно млел от прикосновений нежных, но сильных ручек, и даже не огорчался из-за перемены облика, любопытство в вырвичской авантюрной натуре всегда побеждало все разумные и практические суждения. Жирный коричневый крем и соответствующий костюм довершили преображение. Из зеркала в круглой железной раме на Прантиша смотрел наглый смуглый юноша, из-под тюрбана блестящей жёлтой материи выбивался смоляной чуб, глаза под насурьмленными бровями блестели озорным огнём, подпоясанный жёлтым поясом красный халат удобно обтягивал драгунскую фигуру.
Михалишивна подошла со спины, положила юноше руки на плечи:
— А вам личит, пан Вырвич. Так и хочется поучить вас танцевать на углях – эффектно бы смотрелись.
Вырвич резко обернулся и обнял красотку.
— Мы и так танцуем на углях, дорогая панна.
И сам слетел с уст нелепый вопрос, который, как ни отгонял его, пёк и докучал, будто слепень в жару.
— Ты… была с королём?
Из прозрачно-зелёных глаз исчезло искреннее веселье, великоватые розовые губы поджались.
— Его королевской мости очень понравились мои танцы и пение, и мой драматический талант оценил…
Вывернулась из обьятий, снова улыбнулась, дерзко, по-шутовски:
— А личная жизнь короля – государственная тайна, пан Вырвич! Вы не должны этого знать, пан… Ахмед, давайте я вас буду звать Ахмедом!
И затанцевала на цыпочках восточный танец, закачала бёдрами, поднимая кверху стебли рук… Артистка!
Утром Батиста с кривой ухмылкой сообщил, что желание пана Вырвича быть рядом с его другом Лёдником выполняется неукоснительно. Экипаж египетского мага на одной из станций встретится с каретой, которая в сопровождении целого отряда гвардейцев везёт в Санкт-Петербург государственного преступника. Оказывается, у Батисты и Рязанцева запланирована встреча… Батиста, правда, специально предупредил, чтобы наёмники сидели тихо, так как в отряде будет не менее сотни солдат, не шуточки.
Полозья поскрипывали по сыпучему снегу, покидая в нём глубокие шрамы. Карета с зарешечёнными окнами остановилась около придорожной корчмы, где уже два дня находился маг и его спутники. Рязанцев, закутанный в медвежью шкуру, вышел на утоптанный снег, подозрительно оглянулся и отправился в строение. А жолнеры занялись тем, чем искони занимаются те, кто останавливается у корчомки. Конечно, особо элитных сортов вина здесь не было, но пиво наливали неплохое. А вскоре ещё из окон послышалось дивное женское пение на итальянском языке… Даже кучер слез с облучка и, как зачарованный, потащился поближе к дому. Жолнеры, дежурившие у кареты, тоже отошли, задрали головы к окну, за которым звучали рулады райской птицы.
В зарешечённое окно экипажа с противоположной от корчмы стороны сразу же заглянул, выскользнув неизвестно откуда, египетский парень:
— Бутрим!
Государственный преступник, который дремал, откинувшись на мягком сиденьи, открыл тёмные глаза, обведённые кругами, отпер изнутри застеклённое окно:
— Прантиш! Ну и вид у тебя… Откуда?
— Тихо! Сейчас попробуем тебя отбить… Мы вместе с Батистой приехали. Там пан Рысь, ещё несколько человек насобирали из соседних имений… Жолнеров у кареты тихо прикончат, и бежим. Иной возможности не будет. Держи пистолет и нож…
Но Лёдник покрутил головой с отросшими чёрными волосами, на его исхудалом лице была усталость:
— Извини, не могу…
— Ты что, прикован? Справимся…
— Нет, дорогой! – доктор с мягкой улыбкой пожал через решётку руку неожиданного гостя. – Я дал слово Михайле, что поеду с ним. Я должен подтвердить, что он не предатель.
Вырвичу на мгновение язык отняло. И действительно показалось, что на голове доктора – дырявый медный тазик, одет он в ржавые рыцарские латы, а рука сжимает копьё, нацеленное на ветряную мельнцу. Дон Кихот несчастный, рыцарь печального образа!
— Ты что, сдурел? Какое слово? Тебя едва не замучили! Спасёшь его, а твой друженёк снова тебя на крюк подвесит! И ещё меня рядом!
Лёдник немного изменился в лице:
— Ты не должен попасться… Уходи!
— Пошли вместе! – Вырвичу хотелось просто оглушить сейчас упрямого доктора, как рыбину, и утащить насильно. – О Соломее подумай! Об Алесике! В Италии поживём, там учёных много!
Пение в корчме закончилось, люди одобрительно загудели.
— Пойми, у меня есть возможность заступиться не только за Михайлу… — с тоскою ответил Лёдник. – Возможно, удасться убедить, чтобы не трогали Академию, не преследовали студентов. Сам знаешь – наш король сделает то, что скажет Петербург… Ты лучше Батисту прижми, чтобы от доноса отказался… Сейчас мне бежать – это предательство! Это подтвердить, что заговор всё-таки есть, и нужно всех арестовывать и допрашивать! Введут военное положение, и… К тому же – погоня, кровь, погибшие люди… Солдаты здесь ад устроят! Зачем тогда все мои усилия были?
Послышался тихий свист, что означало – египетскому слуге, который так и не подал знака на начало операции, нужно уходить. Когда ведётся, то и на щепку прядётся, а когда Фортуна молчит, то и мёд горчит.
— Дурень! Всё равно будет война! – Прантиша аж трясло от злости и отчаяния. – Шляхта собирается создать конфедерацию против Понятовского и российцев, российцы агитируют, чтобы в их конфедерацию вступали…
— Тем более я должен защитить хоть то, что могу. Не нужно устраивать здесь безнадежного боя. Уходи, Вырвич!
Один офицер уже заметил, что у кареты с арестованным крутится подозрительный тип, и злобно закричал. Прантиш успел ещё обменяться с доктором тоскливыми взглядами и был вынужден быстренько скользнуть между колёсами кареты…
Негодяй Батиста, не посвящённый до этого в блестящий план похищения доктора на станции, поведение доктора одобрил, зато Прантиша и пана Рыся выбранил на чём свет… Авантюристы, готовые загубить всё и всех непродуманными планами! Если уж они вынуждены действовать вместе, нужно хотя бы немного делиться, кто и что собирается делать… Едва всё не испортили, в том числе и своему доктору! Amicus incommodus ab inimico non differt! (Глупый друг не отличается от врага. Лат)
Пан Рысь выхватил саблю, а Прантишу только теперь пришла в голову запоздалая догадка – не напрасно же маг отправился в российскую столицу в одно время с Рязанцевым, не случайная и эта встреча на станции! Батиста также замешан в деле заговора в Виленской Академии, это же с его доноса всё начиналось! А Лёдник спутал всё и ему… И теперь на расследование вызван и Батиста. Наверное, Рязанцев с магом о чём-то договорились, и пан Михайло по дороге всё обсудит с Лёдником: какой версии кто станет держаться, как выйти всем из ситуации с наименьшими потерями. Дипломатия, политика, дворцовые интриги! Теперь Вырвич был уверен, что корона святого Альфреда будет искупать вину мага перед россейцами. А Понятовский – что! Ему интереснее с актрисой Шекспира разыграть, чем разбираться в доносах и сговорах. Он только рад, возможно, что удалось избежать большой драки.
Батиста подтвердил, что собирается по-иному истолковать слова своего доноса, и чем меньше Прантиш с компанией будут вмешиваться, тем лучше. Даже Михалишивна, которая выполнила просьбу Прантиша развлечь пением российских жолнеров, но тоже не знала о рискованной задуме спутников, неожиданно высказалась, как и маг. Людей бы только погубили, себя погубили… Подтвердили бы, что заговор существует, а пан Лёдник пошёл на муки, чтобы сие опровергнуть.
Прантиш ещё раз убедился, как случайно иногда меняется ход истории. Вот попал меж её отлаженных, громоздких колёс один человек – и вынудил машину остановится. Правда, для этого человек должен быть не пылинкой и не простым камешком, а алмазом, диамантом…
Подобное случилось, когда по навету князя Витовта жену старого Ягайлы Софью Гольшанскую обвинили в измене мужу-королю, будто сыновей она родила не от него, а от молодого красивого рыцаря Генрика из Рогова. Король разъярился и приказал отдать возможного соперника на допрос… И если бы тот сломался под пытками, признал вину – принцы, будущие монархи, были бы лишены права на трон, появились бы иные претенденты, и как бы тогда всё повернулось? Но рыцарь повторял: “Королева не изменяла королю”, и всё пошло тем путём, который остался в летописях…
Теперь этот путь зависит от стойкости Лёдника, которая уже вынудила сильных мира менять планы, а изменников и подлецов приспосабливаться.
От злости и разочарования пан Рысь все стены комнаты порубил, будто здесь голодный лемпард с острыми когтями ночевал.
Что же, оставалось ехать дальше на Север.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. КАК ПРАНТИШ И ЛЁДНИК ИЗ СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ УБЕГАЛИ
В чёрном, как пасть остывшей печи, небе вспыхивали огненные цветы и вензеля. Особенно часто повторялись инициалы императрицы. А чего вы хотите – кто в красном углу, для того и калачи…
А небо здесь было особенно тёмное… Как свод в подземельях, где догорела последняя свеча. Но и днём не оставляло ощущение, что да этого низкого северного неба можно, хорошо подпрыгнув, дотронуться рукой, особенно меж серых каменных зданий и ровных, как начерченных, мощёных улиц и каналов.
Смуглого юношу в чалме, держащего что-то большое, завёрнутое в мех, толкнула паненка в платье, расшитом жемчужинами. Кринолины соблазнительно зашуршали, паненка оглянулась, в мерцающих огнях фейерверков и факелов можно было рассмотреть только блестящие в прорезях чёрной бархатной полумаски глаза, да улыбающиеся ярко накрашенные губы … На карнавале любая дама сойдёт за красавицу.
Теперь толкались со всех сторон, и паненка побежала дальше… Мало что здесь молодой голубоглазый египтянин… Вокруг хватало самых невероятных персонажей, с огромными клювами, в шляпах-кораблях… Кто-то даже в арапа выкрасился – а может, это и действительно был арап, в весёлом мелькании карнавала нельзя отличить настоящее от ненастоящего.
Вот под карлика не подделаешься… А их здесь было столько, будто специально выращивали (а ходили слухи, что так и есть – детей специально калечат, держат в каких-то приспособлениях, чтобы кости росли неправильно, вот и живое развлечение для богачей). И как ни любил Прантиш Вырвич гулянки да молодцеватые беседы, не было ему весело под этим низким, как свод подземелья, небом, меж блестящей толпы, каждый из которых в любой момент мог превратиться из улыбчивого придворного в атласе и кружевах в опального раба с вырванными ноздрями и клеймом государственного преступника на лбу… Кто знает, где поскользнёшься на вощёном дворцовом паркете? Здесь шляхтич не выкрикнет тому, кто занимает трон, что это же он и выбирал нынешнего монарха на элекцийном сойме, а раз они все – равные в шляхетстве своём, то пусть Трибунал решает, чья правда. Вон Понятовский попробовал с доверенным человеком записки одной замужней пани пересылать, муж выследил, посланца ремнём исхлестал, а с запиской на суд пришёл… Король еле откупился, а пани в монастырь отправилась грехи замаливать.
Здесь такое никогда не было возможным… А вот что где-то рядом могут найтись земляки, литвины, захваченные во время выступлений против нового польского короля – вполне вероятно. Но что толку… Даже в Ангельщине Прантиш не ощущал себя таким затерянным и одиноким.
От очередного взрыва змея, которую носил Прантиш в золочёной клетке, теперь завёрнутой в мех, проснулась и, несмотря на холод, который должен был надёжно загонять её в сон, зашевелилась. Такая роль выпала шляхтичу Вырвичу герба Гиппоцентавр – носить за магом и его женой золотисто-зелёное чудовище, с помощью которого египетская принцесса будто бы общалась с духами, а в действительности нужно было просто для важности.
— Пойдём, Ахмед, фейерверки закончились… — прошептал за плечом знакомый голос. Вырвич благодарно оглянулся: графиня Батиста в невероятно объемном и богатом платье кутала оголённые плечи в белый мех. Прантиш поклонился своей временной хозяйке и двинул за ней во дворец, который напоминал золотой сундук змеиного короля, где сияют негасимым огнём диаманты, но простому смертному лучше их не касаться.
Египетский жрец и египетская принцесса успели уже показать своё мастерство, и танец на горячих углях принёс парочке золотой дождь. А трое подпитых лихих придворных, которые решили удивить всех и повторить подвиг графини Батисты, залечивали обожжённые ноги.
Прантишу пришлось на глазах заинтересованной публики снимать с Михалишивны черевички, потом надевать, и, несмотря на лакейскую роль, он чувствовал себя не лакеем, а узником Ланцелотом, и, держа в руке черевичек, страшно хотел всю эту блестящую публику загнать вместо Раины в адское корыто.
Теперь графа-жреца просили немедленно предсказать будущее, нагадать жениха, увеличить изумруд и цеплялись с другими вечными просьбами, с которыми по всему свету обращаются к странствующим чародеям и алхимикам. Очаровательная графиня отпугивала влюблённых тем, что носила на шее живую змею, меньше той, что сидела в клетке, но устрашающе чёрную, и отстраненным тоном сообщала ухажёрам, что за три тысячи лет балы сделались намного более изящными, вот двести лет назад из-за неё при дворе Людовика Четырнадцатого состоялись четыре дуэли. Ухажёры подсчитывали разницу в возрасте между собой и принцессой Семпенсентрой и несколько грустнели. Помогал и Прантиш, тут же приближаясь со своей змеёй, которая желала переговорить с принцессой. А главное – парочки чародеев побаивались из-за возможности сглаза, и по причине того, что знакомство с приезжими магами может откликнуться подозрением в увлечении чернокнижием, которого императрица не одобряла. Ведь пока не было понятно, как её величество относится к итальянскому гастролёру: да, аплодировала, но сдержанно, и придворные пока не спешили с прогнозами.
Толпа стояла вдоль стен длинного зала с белыми мраморными колоннами, обвитыми золочёными виноградными кистями. Прантишу показалось, что даже при Варшавском королевском дворе не видел таких богатющих нарядов. Вспомнились встреченные в прошлом году запорожские казаки: плечистые усатые молодцы приехали на базар, переоделись в такие же богатые саеты и парчу, гуляли-пировали, а когда праздник закончился – в своих дорогих нарядах по очереди залезли в бочку с дёгтем, потом запачканое посбрасывали и снова переоделись в привычное, удобное на поле боя. Ведь не должен настоящий казак, рыцарь, трястись над нарядами, как женщина или дворцовый шаркун.
Вдруг шум стих, все низко склонились…
Хотя зал был ярко освещён – сотни свечей горели в хрустальных подвесных светильниках и у стен, огонь отражали многочисленные зеркала, но Прантиш пока не мог толком рассмотреть императрицу. Кто он такой, слуга, который стоит за спинами панов… Теперь тоже видел только издали: невысокая, полноватая… Но пялиться да проталкиваться не станешь, не на базаре.
Почему рассмотрение “виленского дела” было назначено именно на этот вечер, можно было только догадываться. Наверное, канцлер Панин посчитал, что ему выгоднее, чтобы императрица после карнавала и фейерверков была в хорошем настроении, и пообещал владычице ещё одно интересное зрелище. Это весьма удачный дворцовый приёмчик – превратить решение серьёзного дела в театральное представление, создать забавные декорации, свести к шутке… Чтобы сама обстановка навязывала роль великодушного, остроумного властителя.
Прантиш узнал Николая Репнина, главного российского “специалиста” по Речи Посполитой, который с самым весёлым видом стоял на противоположной стороне зала, спесивого польского посла Ржеуского, не делавшего даже попыток улыбнуться. Обратил внимание и на молодого высокого красавца, отирающегося поблизости от императрицы с такой надменностью, что это мог быть только царский фаворит Георгий Орлов. Говорили, царица так его полюбила, что хотела пойти с ним к алтарю. Но Панин осмелился сказать её величеству в глаза, что госпожа Орлова не может быть российской царицей. При этом канцлер гордо вскинул голову и так ударился затылком о стену, что на ней образовалось белое пятно от пудры парика. В лице Орлова Панин нажил смертельного врага, а молодые придворные прозвали стену с пятном от пудры “стеной смелости”, и бегали прикоснуться к ней перед важным делом.
Но сегодня Панина не было. Возможно, и правда приболел, а может, болезнь была “дипломатической”, чтобы в случае неудачного решения “виленского дела” канцлер мог утверждать о своей непосвящённости.
Когда в зал вошли граф Михайло Рязанцев и доктор Балтромей Лёдник, Прантиш едва не нарушил роль слуги, потому что подался вперёд, чтобы лучше всё видеть и слышать, и чуть не уронил свою змеюку.
Рязанцев и Лёдник выглядели самым важным и солидным образом. На Лёднике был аккуратный парик, синий камзол, расшитый серебром, белые чулки, ботинки… Напудренная физиономия высокомерно-сосредоточенная, будто на учёной раде. Только то, что был без оружия, свидетельствовало о статусе арестованного преступника, да резкие тени от вечернего освещения делали облик немного зловещим.
Оба, как должно, расшаркались и раскланялись. Императрица приняла из рук важного пана с вытянутым лицом бумагу, перечитала… И, цедя слова, обратилась к доктору с резким укором, мол, учёный человек, профессор, она, царица, его статьи в Лейпцигском научном журнале читала, и ввязался в заговор, подбивал своих студентов с оружием в руках выгонять из Вильни русских и свергать законного короля.
— У вас не академия, а питомник для государственных преступников!
Прантиш не мог видеть лица Лёдника, но голос его звучал спокойно и вежливо. Лёдник пояснял по-русски, правда, с акцентом – но ведь и сама императрица разговаривала с заметным акцентом – что её величество обманули, точнее, имеет место некоторое недоразумение.
— Студенты, конечно, безобразничали… Но на то они и студенты, такие же, как по всему свету, ваше величество – после литургии замкнулись в зале, достали карты, вино… Конечно, это подлежит наказанию, и я сам пересажал бы разгильдяев в карцер. Но когда налетели солдаты, готовые стрелять, это было слишком… Я – профессор, я отвечаю за своих учеников. Я должен был их защищать. Мне ничего не известно об их политических симпатиях, но губить молодых людей, которые могут стать полезными для Отчизны, только из-за подозрения нельзя.
И началось. Рязанцев утверждал, что в Академии антироссийские настроения, что многие симпатизируют отправленному в изгнание князю Радзивиллу, поэтому сведения о заговоре выглядели очень вероятно. Князь Николай Репнин подтвердил о неправильных настроениях виленской молодёжи, но уверенно сказать, участвовал ли профессор в заговоре, не мог, ведь доказательств не нашли. Руководство Академии, как буддистские обезьянки, утверждали в письмах, что ничего не знали, не видели, не слышали и заняты исключительно просвещением, а что там совершил доктор Лёдник, почему сцепился с жолнерами – это его личное дело.
Вспомнили и о Батисте.
На египетского жреца царица смотрела немного презрительно, как на змею в клетке. Его отменно витиеватые и униженные заверения в верности трону, в желании предупредить о бунте, о недоразумении по поводу места и времени сборища выслушала невнимательно.
— Ясно, все старались, все мне преданы, и никто ничего толком не знает, ибо не пойман – не вор. Мы ценим ваше старание, граф Батиста, и мне передали от вас необычное подношение. Только принять его я не могу. У меня, по воле Божией, есть своя корона, и в чужих нужды не имею. Правда, и в ваших руках такой реликвии не место. Мы подумаем, что делать.
Батиста аж зашатался от таких слов. Вот тебе и корона святого Альфреда, “пригласительное письмо к любому королевскому двору”. У монархов своя честь, пан жрец… Люди зашептались, пробуя отгадать, что поднёс императрице маг, но царица уточнять не стала, а заговорила о самом интересном.
— Ты, Рязанцев, утверждаешь, что не был в сговоре со своим другом профессором Варфоломеем Лёдником, и когда пришёл во главе войска в двести солдат арестовывать заговорщиков, тот просто силой не дал вам этого сделать, не пустив в зал.
— Да, ваше величество… К сожалению, Варфоломей не послушался голоса разума, — Рязанцев склонился в низком поклоне. Женщина на троне перевела взгляд на полочанина.
— И ты можешь подтвердить, Варфоломей Лёдник, что один остановил двести человек?
Высокий молодой мужчина у трона явственно хмыкнул, презрительным взглядом обмеряя худую фигуру преступника.
–Я не Голиаф, ваше величество, чтобы справиться с двумя сотнями, — почтительно поклонился Лёдник. – Мне просто пришлось на протяжении нескольких минут защищать вход в зал, в дверь которого одновременно могут войти не более двух человек…
— И на сколько ты их задержал? – со снисходительной заинтересованностью спросила императрица.
— Думаю, минуты на две, ваше величество.
— Рязанцев, твоё слово?
Пан Михайло твёрдо ответил:
— Не менее пяти минут продержался, ваше императорское величество.
В зале зашептались, зашевелились, как гости на свадьбе, когда опаздывает жених. Прантиш от волнения переступил с ноги на ногу, проклятая рептилия снова шевельнулась в клетке, на этот раз не завёрнутой, поэтому на египтянина с его чудовищем всё время раздражённо косились.
— Матушка, царица, да они врут тебе! – выступил вперёд Орлов, который единственный мог позволить здесь себе дерзость вмешиваться в разговор владычицы. – Да посмотри на этого чернявого полячишку, я же его одной рукой размажу! Трубка клистирная, а не воин! Поделили золото от бунтовщика Радзивилла, и тебе, матушка, пыль в глаза пускают…
— Я не поляк, ваша светлость, я белорус, — позволил себе неслыханную дерзость и Лёдник, осмелившийся возразить. – И даю слово, что граф Михайло Рязанцев, хоть и однокурсник мой по Лейпцигскому университету, в сговор со мной не вступал, честно исполнял свой долг перед вашим императорским величеством и никакого покровительства ко мне не проявлял. Следствие было самым суровым, доказательства чему есть на моей спине.
Решительно заговорил и Михайло Рязанцев:
— А я должен засвидетельствовать, что доктор Варфоломей Лёдник сразу заявил, что не хочет никого убивать, только защитить своих студентов, и никто от его сабли не погиб и не был тяжело ранен. Он сдался сам. И во время допросов признания вины от доктора получить не удалось.
Орлов горделиво усмехнулся:
— Вот видишь, матушка, как они друг друга обеляют… Позволь, после того, как их обоих отправишь в тайную канцелярию, я возьму пару полков да то бунтовское гнездо в Вильне с земли приберу.
Видимо, Николай Репнин решил, что время переводить разговор на другое:
— Пусть ваша императорская милость позволит мне высказать своё нестоящее мнение, но, думаю, мы можем легко узнать, кто говорит правду. Поскольку у нас есть главный герой, — Репнин показал на Лёдника, — так пускай он и продемонстрирует нам, как в одиночку смог задержать взвод солдат.
Было ясно, что именно на эту постановку и рассчитывали. Царица повеселела:
— Что же, это будет интересное продолжение карнавала!
Обратилась к Лёднику:
— Ты готов к испытанию?
Доктор пожал плечами.
— Боюсь, что я не в лучшем состоянии сейчас и могу вас разочаровать… — оглянулся на побледневшего Репнина и не менее бледного Рязанцева. – Но покажу, что смогу.
— Вот и отлично! – кивнула царица. – Здесь дело не в заговоре студентов, а в том, что поставлена под сомнение верность моих людей. Так что постарайтесь, пан Лёдник. Убивать запрещаю, а лёгкие раны будут на совести тех, кто оплошает и пропустит удар.
— Ваша императорская милость, — шагнул вперёд Репнин. – Мы откроем вот эти боковые двери, и пусть солдаты попробуют пробиться мимо доктора с галереи в двери напротив.
— А людей я подберу сам! – заявил Григорий Орлов. – Чтобы пану белорусу ещё лучше спину начистили!
Декорации организовали быстро. Вид на импровизированную сцену для всех открывался отличный, хотя Лёдник попросил всех подвинуться подальше, дабы не произошло несчастного случая, если вылетит выбитая из руки сабля.
“Ага, сейчас у него сабли дождём полетят”, — ворчал Орлов. Дамы в предчувствии зрелища быстрее замахали веерами, даже свечи замерцали, и живо обсуждали демонический облик литвина, который, говорят, является могучим волшебником. А мужчины, насколько мог слышать Прантиш, делали ставки на доктора, но чаще – против него, а ещё на то, сколько человек он сможет обезоружить. Всем было весело… Кроме некоторых сильно заинтересованных лиц.
— Он справится? – прошептала Прантишу Михалишивна, её обтянутая белой шёлковой перчаткой тонкая рука, держащая веер из пушистых старусовых перьев, позолоченных по краям, будто облака солнцем, немного дрожала.
— Справится, если не очень погано себя чувствует… — шепнул в ответ встревоженный Прантиш. Ведь что дальше – не знали даже египетские боги, потому что дальше мог быть и мрачный Шлиссельбург, и снова пыточная, и Сибирь…
Лёдник готовился к решающему бою спокойно, как к тренировке с учеником, но основательно. Снял камзол, оставшись в белой рубахе и переливающейся серебром жилетке, стянул парик, и тёмные волосы, перевязанные лентой, упали на спину. Выбрал из предложенных две сабли, отошёл, движением одних кистей крутанул оружие в опущенных руках – сабли со свистом выписали в воздухе круги, и кое-кто задумался насчет правильности ставок. В расслабленой позе, опустив сабли, остановился напротив боковых дверей. Худое клювоносое лицо выражало немного брезгливую грусть…
— Можете начинать…
Где-то недалеко молча несла подо льдом свои тёмные думы река. Честные горожане зевали, вглядываясь через маленькие окошки туда, где над царским дворцом погасали разноцветные вспышки, сонливо крестились и ложились спать, настолько далёкие от панских кровавых игрищ, что не приходило в голову завидовать тем, кто сейчас в освещённых тысячами свечей залах получает наслаждение от созерцания разных чудес. Чудо для доброго христианина – дело опасное, ибо может ввести в соблазн.
А во дворце императрица кивнула, и зрелище началось.
Гвардейцы были все как один не ниже Лёдника, а многие шире в плечах, и старались как могли. Тем более задача выглядела смешной: убрать с дороги всего одного человека. Но тот человек больше напоминал свернувшуюся змею, а его движения – зловеще красивый танец, за которым невозможно уследить. Вырвич не однажды наблюдал подобные выступления доктора, в аглицком бойцовском клубе он дрался за деньги, которые им срочно были нужны, и победил всех местных чемпионов. Возможно, сейчас, после рук палачей, Лёднику было и тяжелее, чем когда-то, но этого никто не заметил. Он вертелся волчком, срезал усы, пуговицы, выбитые сабли со звоном падали на паркет, а обезоруженные солдаты с воем хватались здоровыми руками за вывернутые.
Люди даже кричали от азарта, подбадривали и бранили воинов, верещали от страха, если в их сторону отлетала сабля или отступали дерущиеся … А вот и балаганные трюки пошли в ход, хотя Прантиш и так был уверен, что если Лёдник хоть немного оклемался, не преминёт продемонстрировать свои необычные навыки: прыжок на мраморную колонну, невероятный переворот – и сабля сверкает уже за спинами растерянных врагов.
Сабли литвина со свистом разрезали воздух, а могли живую плоть. А бросаться на клинок, чтобы героически сдержать врага ценой жизни, никто не собирался, поэтому наконец под натиском полочанина все гвардейцы оказались за дверью. На том бой по договорённости и был закончен. На паркете валялись сабли, пуговицы, срезанные манжеты и напудренные пряди, была и кровь – кто-то получил боевые царапины. Лёдник с той же нудно-высокомерной физиономией положил сабли на пол перед императрицей, поклонился и выпрямился, будто не вытанцовывал только что здесь стремительный танец смерти. Императрица похлопала в ладоши, и зал взорвался аплодисментами и криками восхищения. Прантиш перевёл дух и почувствовал, что Михалишивна легко пожала его руку.
Но вперёд ленивой походкой уверенного хищника выходил Григорий Орлов.
— Попрыгать перед жолнерами – дело нехитрое. А вот со мной разберись, кузнечик!
— Гриша! – разгневанно сказала императрица в спину фавориту. – Угомонись.
— Матушка, позволь, покажу ему, что такое бой! – промолвил Орлов и грозно надвинулся на Лёдника, который даже не шевельнулся. – Бери саблю, полячишка!
Орлов выхватил оружие, клинок в опасной близости дрожал у горла врага, жаждая напиться крови. Лёдник застыл на месте:
— Я не поляк, а белорус, ваша мость, — упрямо повторил он. – И здесь должны выполняться только приказы её величества.
Фаворит повернулся к царице:
— Христом Богом молю, матушка, дай с ним подраться! Слово даю, убивать не стану, но не выдержу, если фанаберию с него не собью!
Царица сделала вид, что разгневана, хотя Вырвич догадывался, что ей самой хочется продолжения зрелища.
— Только если что, виновных не ищи, Гриша! – сурово предупредила она.
По физиономиям Рязанцева и Репнина Вырвич понял, что лучше бы Лёднику с фаворитом не биться. Унижения на глазах императрицы тот не простит никогда, а если, не дай Бог, Балтромей ранит соперника – тут уже разъярится царица.
И Прантиш знал, что выхода нет, ибо Лёдник никогда не поступится своей честью, хоть из пушки по нему стреляй, и не подумает поддасться или поддобриться. Вот, играет с соперником как с мышкой… Очень большой, признаемся, и очень злобной мышкой… Медведем, сказать по-правде. Хотя бы для приличия дал всемогущему пану покрасоваться! Нет, с той же занудной физиономией вынудил уронить саблю, орудуя своей так стремительно, что глаз не успевал следить. И второй раз. И третий. А на четвёртый Орлов уже не стал поднимать оружие, а бросился на соперника с кулаками. Кулаки пудовые, морда искажённая, глаза белые от ярости… Всё, конец…
Только выкрики императрицы, на этот раз с неподдельным гневом, заставили фаворита остановиться.
— Да я его в пыль… — шипел Орлов.
— Может, и в пыль, друг мой, но сейчас остынь, съезди в Царское Село, проветрись, привези мне новые клавикорды, присланные на днях из Неметчины.
В голосе императрицы теперь звучала сталь, это был голос власти, который невозможно ослушаться, ибо значит бросить вызов её могуществу… Здесь никакая сердечная привязанность не спасёт. Орлов поклонился и только уточнил сквозь зубы:
— Клавикорды? Из Царского? Сейчас?
— Именно сейчас, — императрица глядела светлыми невыразительными глазами. – Думаю, как раз к утру вернёшься. А доктор Лёдник пока побудет моим гостем.
Фаворит ещё раз поклонился, развернулся и ушёл размашистыми шагами, но взгляд, который он бросил на доктора, был как смертный приговор.
В зал снова вернулось веселье. Но следующая часть вечера была уже не для всех. На сегодня карнавал заканчивался. Царица приказала накрыть стол в малом зелёном зале, но попасть за него могли только избранные. Усталые и полные впечатлений гости откланивались, расходились, чтобы разнести по всей столице сплетни, как мухи разносят на лапках прилипшую грязь… Злой и разочарованный Батиста, получив от императрицы холодную улыбку, ушёл одним из первых. Прантиш, который должен идти следом, успел только увидеть, как в углу зала, у трона, Рязанцев и Репнин разговаривают с Лёдником, успевшим надеть камзол и парик, и очевидно никуда не спешат.
В доме, нанятом в самом центре города за бешеные деньги, Батиста наконец дал выход раздражению.
— Всё, через пару дней отъезжаем… Завтра ещё выступим у княгини Дашковой, пострижём овец, пока от нас все не отвернулись. Заработали достаточно, поездка окупилась. Царица подарок не вернула, прислала взамен сундук золотых. Да у аглицкого короля я бы за такую реликвию хорошее место при дворе выкупил! На всю жизнь себя обеспечил! А здесь… Не любит, видите ли, императрица чернокнижников… — Батиста злобно хмыкнул. – Тогда, надеюсь, вашего доктора она сожжёт на костре.
Вырвич возмутился:
— Мы никуда не поедем, пока не узнаем о судьбе Бутрима и не попытаемся его освободить!
Пан Рысь, всё ещё возбуждённый рассказом о происшедшем во дворце, Прантиша горячо поддержал… Но Батиста утомлённо махнул рукой.
— Сами увидите, через два дня нам здесь будет нечего делать, нас перестанут пускать в дома, а задержимся – вышлют. Большой свет – это когда быстро вспыхивает восхищение, и ещё быстрее гаснет, заменяется разочарованием, а потом желанием избавиться от того, на кого потратил восхищение. Думаю, ваш доктор в скором времени почувствует это на себе. Всё, пошли спать… Завтра что-то определится.
Властно обнял Михалишивну за тонкий стан и повёл в опочивальню. Кажется, он последнее время наложницу не бьёт… У Вырвича вдруг возникло просто дикое желание всадить негодяю между лопаток саблю. Видимо, это желание отразилось у Прантиша на лице, потому что пан Рысь положил ему руку на плечо:
— Успокойся, египтянин. Успеем прикончить мерзавца. Лучше расскажи мне ещё раз, как пан Лёдник москалям бани дал.
Холодная зимняя ночь была непроглядной, как могила. Но здесь, в заносчивом городе, её пронизывали установленные строем фонари, будто покорные жолнеры, которые даже задуматься не хотят, что задачу им поставили невозможную, и упрямо держат оборону. Холодно и неуютно было так, что даже собаки не лаяли, только повизгивали жалобно. Временные жильцы дома, приехавшие сюда из далёкой Беларуси, этой ночью выспаться не успели. Ещё не рассвело, в дверь забарабанили. Потом в доме послышались встревоженные голоса, вот верещит Батиста…
Прантиш, спотыкаясь, надел яркие египетские тряпки и бросился в прихожую. Граф Михайло Рязанцев с помятым лицом, ясно, что ночь была бессоной, отрывисто командовал:
— Отдаю свою карету… Только быстрее грузитесь!
— Что такое? – встревожился Вырвич.
— А, вот вы где, пан Вырвич… Чёрные волосы вам к лицу. Его мость Григорий Орлов разбудил его мость Николая Репнина и потребовал, чтобы сейчас же, пока её величество не проснулась, увезли прочь Лёдника. Все провинности ему прощаются, да и другим тоже. Академию приказано не трогать, всем, кто заслужил, дадут марципанов… — Рязанцев был страшно усталым, но встревоженно-счастливым. – Главное, чтобы сегодня же духу литвинского в городе не было. Его мость Орлов хочет мириться с царицей, что-то исключительно интересное для неё подготовил… Ну а Варфоломей отказался ехать без вас.
Михалишивна пробежала мимо, одетая по-дорожному, с охапкой пёстрой одежды в руках.
— Змей не забудьте! – орал в комнате рядом Батиста.
— Где Бутрим? – вскинулся Прантиш.
— Там, в моей карете сидит… Быстрее собирайтесь, ваша мость, и встретитесь!
Вырвич, путаясь в рукавах, влез в свитку, схватил шапку и бросился на улицу. Перед воротами стояла небольшая приличная дорожная карета с гербом Рязанцева. В конюшне под командой пана Рыся запрягали лошадей в Батистовы экипажи. Повозка уже ждала на улице, на неё грузили приспособления для фокусов. Мелькали заспанные физиономии двух виленских студиозусов, белявого и чернявого – оба по своему статусу носильщиков особо никуда не попадали, зато распробовали местную горелицу, настоенную на клюкве, и ещё какой-то финский напиток мутно-белого цвета, и требовать от обоих молодых людей резвости в такое раннее время было, как загонять собаку на дерево.
Вырвич вскочил в рязанцевскую карету:
— Бутрим!
В отблеске света фонарей был виден только тёмный силуэт, бессильно откинувшийся на подушки. Прантиш обнял доктора:
— Живой!
— Если сейчас не задушишь, то буду живой…
Голос доктора звучал утомлённо и хрипловато… Похоже, что и он ночью не спал. Вырвич откинулся на мягкое сиденье такой счастливый, каким давно себя не чувствовал. Теперь осталось как можно быстрее удрать из этой Северной Пальмиры.
Полозья скользили по снегу с бодрым посвистыванием. За окном светало, хоть солнце только угадывалось за серым полотном неба. Вырвич после короткой дремоты продрал голубые глаза. А Лёдник ещё спал, как на чужой свадьбе отгуляв. Вырвич всмотрелся в его худое клювоносое лицо. Глаза случайно скользнули ниже, там мех распахнулся, под ним была белоснежная рубаха, видимо, тоже с Рязановского плеча, и на этой рубахе, ниже ключицы набухало тёмное пятно…
— Бутрим! – Вырвич в ужасе потряс доктора. – Ты ранен? Что это у тебя?
Упрямый полочанин вообще мог не признаться до последнего, даже если бы его проткнули насквозь в десяти местах. Но доктор лениво сунул руку в отворот рубахи, провёл по груди, достал что-то мелкое, брезгливо стряхнул с пальцев на пол.
— Это конфета… Вишнёвая… Липкие, зараза…
Прантиш недоуменно смотрел на сонную физиономию доктора, который даже глаз не открыл.
— Что-то не помню, чтобы ты так любил конфеты, чтобы даже качаться по ним.
Лёдник немного помолчал и пробормотал:
— Её величество захотела проверить, как ловко я буду уворачиваться…
У Вырвича на какое-то время перехватило речь, потом он ярко представил, в каких обстоятельствах могла происходить такая проверка… Значит, не зря Орлов так запаниковал и на рассвете со всеми возможными удобствами отправил демонического доктора домой! Прантиш сумел воскликнуть только одно:
— Ну, доктор, ну, пройдоха…
— Помолчи… — сердито буркнул профессор, ворочаясь на подушках, и ясно было, что обсуждать ничего не собирается. Но говорить пришлось, когда рассвело и прикидываться, что спишь, было глупостью.
— Ничего хорошего нас всё равно не ждёт, — уныло сообщил Бутрим. – Иезуитов, ясное дело, погонят, но хуже, что пришлют на их место своих, россейцев. Кстати, мне уже предложили в недалёком будущем стать ректором… Если, конечно, я приму присягу, докажу свою лояльность и так далее. Из Академии исключат всех неблагонадёжных…
— А ты что? – заволновался Прантиш.
— Отказался. Отговорился, что занят научными исследованиями, не хочу лезть в политику… И в отсутствие заговора не очень поверили, несмотря на мой спектакль. Сожрут страну, не подавятся.
Лёдник грустно вздохнул.
— Лучшие восстанут, погибнут… А её величество заверила, что Пане Коханку с нею переписывается, намекает, что готов попросить прощения… Магнаты всегда своё место найдут. Вот Александр Сапега о королевской короне мечтал, потом Пане Коханку горячо поддерживал… А сейчас перед Понятовским прогибается, жену свою к нему подсылает фигли строить, как когда-то к молодому Брулю, сыну секретаря Августа. Таким место есть, а нам – нету. В Санкт-Петербурге я тоже отказался оставаться… Ибо не могу дать императрице слова, что никогда не окажусь на стороне её врагов. Вполне возможно, что и окажусь. И что дальше делать – непонятно. Хотя одна определенность есть: тебя оженим.
Прантиш отвёл глаза: ясно, что от своего счастья не отказываются, но ведь иногда оно появляется как обухом по голове, нужно радоваться – а у тебя в ушах звенит и в глазах мухи мельтешат… Или чьи-то прозрачно-зелёные глаза подмаргивают.
— А что ещё царица пообещала?
Лёдник пожал плечами.
— Обещанного три года ждут. Сундучок какой-то передала, сейчас посмотрим…
Доктор повернулся, нащупывая что-то около себя, и поставил на колени прямоугольный ящик, обтянутый бархатом, с золотыми защёлками. Немного повозившись с защёлками, доктор откинул крышку, и… На синей подушке лежал неровный, с многочисленными выемками, золотой обруч, отделанный необычным орнаментом, с пустыми креплениями для камней. Корона святого Альфреда…
— Просто круговорот корон в природе… — растерянно промолвил Пранцысь. – Будто она прилипла к нам, как неразменный склют.
— Это же я сказал её величеству, что люди, которые имеют короны, руководствуются своими законами, далёкими от обычных человеческих, и имеют между собой особенные счёты, непонятные простым смертным… Ну, вот теперь и я имею по её воле корону… — проговорил ошеломлённый Лёдник.
Пранцысь достал из ящика реликвию, покрутил туда-сюда и надвинул на голову сына полоцкого кожевника.
–А что, тебе к лицу! Король – не король, но такой грозный друид, ведущий племя срезать омелу, не предупреждая, кого под деревом принесут в жертву.
Лёдник с недовольной миной стащил с себя корону и положил в сундучок.
— Просто такие вещи не могут, видимо, находиться в случайных руках и случайных местах. Вот реликвия и ищет себе место… Подумаем, что с ней сделать. Смотри только, никому не разболтай, что она у нас, и тем более, каким образом досталась.
— Думаешь, то, что делается во дворце, может оставаться тайной? – насмешливо ответил Прантиш. – Да о твою персону в Санкт-Петербурге уже все языки обмозолили… Видимо, скоро и в Варшаве засплетничают.
— Главное, чтобы никого не трогали, — проворчал доктор и помрачнел. – Дурацкая ситуация… Чем больше станут сплетничать – тем сильнее мы будем защищены. Но тем больше мне позора и горя моей семье… Для Соломеи…
Прантиш скептически хмыкнул – много кому тот позор был бы величайшим почётом, а сам даже горел от любопытства: что же случилось с Лёдником во дворце? Сколько правды окажется в сплетнях? Из доктора удалось вытянуть только, что её величество после ужина возжелала убедиться в истинности утверждения, что Рязанцев друга не жалел и следствие в отношении профессора было суровым, а для этого ведь необходимо увидеть доказательства собственными глазами. Для чего приказала доверенной фрейлине тайно привести учёного литвина в свою комнату.
А что там дальше – снегом замело. Полоцкий алхимик упёрся, как камень.
И хотя снег за окном кареты повсюду лежал одинаково белый, вскоре должны были начаться белорусские земли.
ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ. КАК ЛЁДНИКА И ВЫРВИЧА ДОМА ВСТРЕТИЛИ
Предки знали, что хату нельзя ставить на том месте, где когда-то проходила дорога, пролилась чья-то кровь или закопаны чьи-то кости… А что место чистое, убедиться легко: поставил горшок с мёдом, если мурашки набегут – всё хорошо…
Неизвестно, по всем ли правилам был построен дом с зелёными ставнями, где жила семья виленского профессора Лёдника, прибежали бы к мёду муравьи, или нет – тяжело найти на белорусской земле место, где бы не пролилась кровь, не ступала нога врага. Но сейчас этот дом более не связывался с понятиями безопасности и защиты… Балтромей Лёдник и Прантиш Вырвич молча стояли и смотрели на строение с выбитыми стёклами, с поломанными берёзками под окнами. Сколько раз Вырвич смотрел на эти берёзки, то убранные в магнатские золотые саеты, то в диаманты, то в зелёное тряпьё, и сочинял стихи… Похоже, хозяин дома просто боится пройти дальше ворот – лицо доктора было белее снега, губы дрожали…
Но вот послышался весёлый лай Пифагора, а из дверей выбежали пани Соломея и панич Алесь, показался взволнованный Хвелька, и поцелуи и обьятия на некоторое время отогнали тревогу.
Но в доме – таком знакомом, с портретом Аристотеля и сине-белыми часами-вазой на камине – первым вопросом всё-таки был “Что здесь случилось?”
Пани Соломея опустила глаза.
— Знаешь, Пане Коханку отменил создание кадетского корпуса в Италии… И пошли слухи, что в этом виновен Бутрим.
— Что? – не выдержал Прантиш. – Да он за спасение будущих кадетов такое прошёл!
— А что вы хотели? – улыбнулась побелевшими губами Соломея. – Это, панове, Беларусь. Здесь первое устремление – успеть полить грязью первым, найти врага среди своих. Говорят, Бутрим поехал в Санкт-Петербург, чтобы всех заговорщиков сдать, а взамен получил от царицы пост ректора, место при российском дворе, ну тут уж у кого как фантазия работает…
Прантиш не мог поверить в такую подлость… Он ведь искренне верил, что сейчас их с Лёдником встретят, как героев! Пан Рысь вон сына в честь Бутрима назвал!
— Это же Пане Коханку хочет с царицей договориться! Или ему стало лень начинать хлопотное дело… Как могли на Бутрима всё навесить! Почему они окна не бьют самим россейцам, или тем, кто им открыто служит?
— Потому, что своих бить легче, — вздохнула Соломея. – Православные наши, из прихода, тоже со мной здороваться перестали… Говорят, Бутрим иезуитам продался, в их заговорах участие принимает… Госпиталь власти закрыли, мол, зараза там разводится, на весь город поветрие может начаться. И снова для всех – доктор виноват…
Лёдник на мгновение прикрыл глаза, как от боли, но почти не удивился.
— Узнаю тебя, Отчизна… Что же, нормальная белорусская ситуация, — профессор погладил жену по голове, коснулся губами тёмных блестящих кос. – Поскольку я православный, выходит, враг тем, кто защищает независимость Речи Посполитой от России и при этом лишает православных всех прав… А поскольку считаю себя не русским, а литвином, белорусом, и не хочу идти на службу россейцам, значит враг Генеральной конфедерации и России. – Профессор подхватил на руки сына, грустно улыбнулся. – Зерно меж жерновами… Мне не нравится, что канцелярии и учебные заведения перешли на польский язык – но не хочу, чтобы его сменил русский, так как всё равно не дадут звучать белорусскому, языку Статута, языку Скорины… А значит, мне будут бить окна и гнать колом в ту или иную партию.
— А что же делать? – растерялся Прантиш, и Аристотель с портрета грустно посмотрел на окна, закрытые натолканым тряпьём.
— Пока что мы будем отдыхать, отъедаться и лечиться! – решительно скомандовала Соломея, и Алесик, забыв, что он уже большой, и такому шляхтичу не к лицу сидеть на руках, ещё сильнее обнял за шею папку.
Особого разговора заслуживало превращение пана Вырвича из русого литвина в египетского брюнета, каковое выявилось, когда Прантиш неохотно стащил с себя шапку. Алесик долго прыгал вокруг, показывая пальцем на “подменённого” дядьку и хохоча, пани Соломея уверяла, что Прантиш выглядит наилучшим образом… А Вырвич с тоской осознавал, что либо придётся голову по старинному сарматскому обычаю побрить – некоторые ещё и сегодня так делали, правда, покидая длинный чуб, либо не снимать шапку или ходить всё время в парике… А что делать в шапке в храме, или при встрече с уважаемым человеком? И в парике, в немецком наряде не в каждую литвинскую компанию сунешься, если ты не чужеземец. Шляхтич должен уважать сарматские обычаи, ведь если всё время будет ходить в немецком костюме, посчитают фармазоном, выисмеивать начнут. Это доктор может себе позволить в иностранное одеваться. А Вырвич – драгун королевской хоругви, у него форма…
— Если придётся куда-то идти без парика, забинтуешь мне голову… — мрачно сказал он Лёднику, который не видел ничего особенного во временной черноволосости Вырвича. – Пока волосы не отрастут, буду говорить, что ранили меня в Московии!
Доктор немного поиздевался, но наконец, задумчиво пощупав волосы ученика, пообещал, что завтра же составит раствор, который справится даже с индийской басмой, и вернёт Прантишу пусть не точно тот самый цвет, но очень похожий. Когда-то Лёдник по кличке полоцкий Фауст даже философский камень нашёл… Что ему перекрасить недавнего студиозуса!
А за стол пришлось садиться в облике египтянина.
Ах, как же хорошо снова поесть нормальной литвинской пищи, сготовленной хозяйственными руками самой красивой в княжестве женщины! Рубцы с анисом, шалтаносы, юц, бебах, печисты, начинённые грибами… Пани Соломея припасла и рождественские блюда – так как Христово Рождество семья не смогла встретить вместе. Пряники, политые разноцветной глазурью, с корицей и бергамотом, да слижины с маковым молочком таяли во рту… Вкусны были и вишнёвая наливка, и припрятанная бутылка настоящей мальвазии, вина, которое пили римские цезари, и в бочке которого король Ричард Третий утопил своего брата, хотя, скорее всего, очернили несчастного короля, как и виленского доктора… Даже Хвельке было позволено выпить кружку.
Прантиш гадал, умеет ли Ганулька из Маковецких вот так вот вкусно готовить. А вообще, какая разница – если он с ней оженится, у него же будут повара и поварята… А Михалишивна, наверное, просто не смогла нигде искусству кулинарии выучиться. Аритстка, одно слово…
— Так выпьем же за самые белорусские растения – подорожник, репейник да терн! – мрачно пошутил доктор. – Мы – как репейник, прячущий красоту своих цветов за колючками, и вечно цепляющийся за чужую одежду, мы – подорожник, встающий, как только с него убирают каблук или съезжает колесо, мы – терновник, не горящий даже в огне!
Был, конечно, и неловкий момент. Лёдник, со знакомым ящиком под мышкой, пряча глаза, попросил Соломею зайти в его кабинет на серьёзный разговор. Полочане долго разговаривали за закрытой дверью – Прантиш понимал, доктор рассказывает жене о некоторых обстоятельствах своего пребывания в Северной Пальмире и показывает корону. Была у доктора такая причуда – не иметь секретов от своей прекрасной половины. Вырвичу очень хотелось подслушать, но удержался. Вышли из кабинета оба погрустневшие, но обнявшись. В чём бы там Лёдник не признался, Прантиш был уверен, что мудрая Соломея скажет – ей достаточно возвращения Бутрима домой живым и даже относительно здоровым.
Так что Рождество, хоть и с опозданием, но встретили, даже рождественские песни хором попели.
У Батлееме, у доме ўбогім
Вол ды асляця грэюць дзіцяцю…
Анёлы з неба ўсім даюць знаці,
Каб паспаліты йшлі Бога вітаці.
Саўка з Яхімам, сваім брацімам,
Скора прыспелі, зараз запелі.
Карусь з Тарасам гудзелі басам,
Бутрымка з Кантам пішчаць дыскантам…
В этом месте старой школярской колядки все дружно рассмеялись – представить их “Бутримку”, поющего дискантом, было невозможно.
Дзямід з Данілам зайгралі міла,
Барыс з Пратэсам спяшалі лесам.
Міхайла долам спяшыў з Антонам,
Грысь з Маланнёю гналі раллёю,
Знахарка Дося спекла парося,
Покуль даспела, сама ўсё з’ела…
А на следующий день в доме с разбитыми стёклами были гости. Появились, как гром на снег.
Да не обычные. Золочёная карета с гербом Богинских, с двумя лакеями на запятках, с двумя форейторами в расшитых мундирах впереди. Пифагор лаял, как заведённый, да что такое собачья верность перед вооружёнными жолнерами…
Но не столько присутствие в доме самого виленского воеводы, который унаследовал должность после изгнания Пане Коханку, взволновало жителей дома, а появление его телохранителя. Здоровенного, как медведь, с белыми волосами и бровями, с бездонными красными глазами…
— Ватман! Я тебя в свой дом не приглашал, — промолвил побледневший доктор, закрывая собою жену, которая пронзала ненавидящими синими глазами того, кто когда-то её изнасиловал.
— А я не по приглашению, Балтромей, я с его мостью князем Михалом Казимиром Богинским! – ощерился наёмник. – Не мог пропустить такой возможности – посмотреть на вас, мои давние друзья. А вы не изменились… Ты, Бутрим, всё такой же нетерпеливый, ты, пани моя, красива, как мадонна, а ты, школяр, шкодливый… А где же самый младший Лёдник? О, как две капли в отца… Умеешь ты, Бутрим, баб очаровывать, и своих, и чужих, и совсем-совсем чужих…
— Заткнись, Ватман! – остановил князь Богинский насмешливый монолог наёмника, от которого хозяин начал уже оглядываться в поисках сабли. Вот князь изменился: появился явственный второй подбородок, фигура округлилась, светлые глаза стали ещё более пустыми. Князь неотрывно глядел на Лёдника со смесью ненависти и брезгливого интереса, как на двуглавого телёнка или антикаунда с вывернутыми ступнями.
— Мне сообщили, что ты имеешь подарок лично от её величества Екатерины!
Светлые глаза князя, казалось, засветились, как у вурдалака от желания запустить клыки в шею жертвы. Да он же ревнует! – дошло до Вырвича. Ревнует до умопомрачения! Князь чего только не выделывал, чтобы обратить внимание Екатерины, в Санкт-Петербурге жил месяцами, на флейте перед тогда ещё женой наследника трона мелодийки наигрывал, паркет шляпой подметал, комплиментами сыпал, как репейник колючками… Кукарециями занимался, как называли ухаживания студиозусы Виленской академии. Готов был ради дамы самую редкую реликвию добыть и отдать. И до сих пор надежд не утратил, медальон с локоном и портретиком царицы на шее носит, подарки посылает, трогательные письма сочиняет. И всё напрасно. Возможно, потому, что не любит царица нерешительных и мягких мужчин, а Николай Репнин недаром называл своего друга Богинского мокрой курицей.
Но такие, как магнат Богинский, всегда убеждены в своей красоте и неодолимости своих чар. Поэтому и теперь князь глядел на клювоносого доктора, которого помнил ещё бесправным рабом, как индюк на красное, и, наверное же, не мог уразуметь, чем этот простолюдин смог привлечь внимание царицы, чего это в нём есть такого, чего нет в могучем и красивом князе. Зато внимание царицы к доктору, очевидно, подняло того в княжеских глазах настолько, что не посчитал за низость лично к нему приехать. Раньше только наёмников посылал.
— Продай мне эту вещь!
Доктор вежливо поклонился.
— Простите, ваша мость, но разве достойно продавать подарки венценосных особ? Это оскорбление королевской власти!
Ватман скептически улыбнулся, а Богинский злобно раздул ноздри немного курносого носа.
— Я лучше тебя знаю, что такое достоинство и уважение к трону! Забыл, что это я тебя выкупил из неволи, а, доктор?
Прантиш покраснел – так как князь Богинский выкупил Лёдника именно у него, Прантиша Вырвича, от злости на горделивого раба вздумавшего прикинуться, что продаёт его. А пришлось и продать. Лёдник ещё раз поклонился.
— Вовек благодарен, ваша мость. Но припоминается мне, что выкупили вы меня с условием, чтобы я спустился в полоцкие подземелья за реликвией, а за мной вы послали Германа Ватмана с приказом по возвращении меня убить.
Прантиш едва не толкнул доктора в бок, чтобы уменьшить язвительность, ибо так с магнатами не разговаривают. Но Богинскому стало даже немного неловко.
— Ну, не стоит ворошить давнишние события. Важно то, что происходит сейчас. А сейчас, Балтромей, ты в незавидном положении.
— Я бы на его месте сразу в гроб лёг и гвоздями заколотился, — добавил Ватман. – Столько врагов сразу появилось со всех сторон.
— Зато мы папку любим! – выкрикнул Алесь и шагнул вперёд с действительно достойной шляхетской позой. – Мой пан-отец людей спасает! Он доктор! А в дуэли перед ним никто не устоит!
Соломея сразу же оттащила сына назад, а князь Богинский от удивления немного успокоился и отвёл глаза, помолчал и продолжил более добродушным тоном:
— Я хочу предложить тебе, Бутрим, место своего личного врача. С хорошей оплатой. И подарю тебе дом в Слониме. И дом в Варшаве.
Это было щедрое предложение… Но Балтромей только помотал головой.
— Спасибо, ваша мость. Мне не хочется переезжать в Варшаву. Да и вам было бы неприятно лечиться у человека, который вам… несимпатичен.
Богинский от нетерпения порвал кружевной манжет. Часы на камине отбили время – нежные колокольчики проиграли несколько тактов Гайдна, и крышка на сине-белой вазе с латунной стрелкой повернулась на одно деление.
— Тогда скажи сам, что ты хочешь за подарок царицы! Зачем он тебе, что будешь делать с короной святого Альфреда? На карнавал одевать?
— Позвольте, ваша мость, мы побеседуем с ним по-свойски, по-военному… — лениво сказал Ватман. – Думаю, обыскав эту халупу, найдём, что нужно…
Прантиш украдкой отошёл и взял с подставки сабли, свою и Лёдника… Понимая, что дело безнадежное. Пусть бы Лёдник лучше отдал тот кусок золота, сам же говорил, что не знает, что с ним делать.
Но князь Богинский наёмника остановил.
— Такие подарки не отнимают. Это оскорбляет того, кто подарил. А я глубоко уважаю любое волеизъявление её величества Екатерины.
Богинский бросил тоскливый взгляд на мрачного доктора. Похоже, он всё ещё верил, что какая-нибудь чудесная реликвия или счастливый случай всё изменят и сделют его властителем над властителями и подарят любовь императрицы.
— Но я готов выкупить этот подарок за любую цену. Как воевода виленский, я бы мог помочь тебе, доктор, во многих начинаниях. Подумай. И в Слониме тебе было бы интересно. Я хочу создать там Город Муз… — теперь на бледных щеках князя появилась краска, невыразительные глаза загорелись – князь больше всего на свете любил искусство, так же, как ненавидел политику. – Я строю театр – самый лучший и большой в стране, чтобы на сцену артисты могли выезжать на конях! Уже набрана отличная оперная труппа, балет. Строится обсерватория… Хочу изладить больницу. Вы могли бы там проводить опыты! А, возможно, и организовать медицинскую школу!
Богинский загорелся, и верилось, что он действительно создаст в Слониме такой остров красоты и науки…
— Я подумаю, ваша мость, — склонился доктор.
— Только думай не очень долго, — предупредил Ватман, но смотрел не на Лёдника, а на его жену, которая старательно отворачивалась. – А то самому себя лечить придётся. Не отсидишься, доктор. Всё равно придётся примыкать к какому-то большинству, которое всегда всё определяет. То почему бы – не к победителям?
Лёдник сузил глаза.
— Вы, пан Ватман, плохо, наверное, знаете белорусскую историю. А вот его мости князю я напомню слова канцлера Льва Сапеги, которые он сказал, закрывая правом либерум вето вальный сойм: “Большинство – это глупость. Разум всегда только в меншинстве. Государство, которым руководит большинство и глупость, должно рано или поздно погибнуть”.
Князь Богинский покраснел от гнева, но политические споры всегда нагоняли на него такую тоску, что он избегал их даже в случаях, когда на его стороне было преимущество. Поэтому повернулся к дверям.
— Кстати, ваша княжеская мость, ваша младшая сестра, её мость Полонея, прислала нам письмо, — промолвил Прантиш в спину князю – уж очень возмутило безразличие Богинского к когда-то любимой сестрице.
Князь остановился, дёрнулся, будто его пнули, но не повернул головы.
— И как там наша сестра?
— У вашей княжеской мости теперь есть племянник. Франциск Казимир Агалинский.
Услышав ненавистную фамилию нежеланного зятя, князь махнул рукой, его плечи безвольно опустились, и Богинский ушёл, будто раз и навсегда вычеркнул непокорную сестрицу из своей жизни. Похоже, подарков от богатого заокеанского дяди Франциск Казимир не дождётся.
И китаец Чунь Ли очередного подарка не принёс. Присел скромно на кухне, порасспрашивал о здоровье пана Лёдника, с разрешения пана подержал его за руку, закрыв глаза, видимо, делал свою особенную диагностику. Удовлетворённо кивнул головой – похоже, здоровье Лёдника тревоги не вызывало. А потом в неспешной причудливой манере перевёл разговор на своего хозяина, многоуважаемого пана Михайла Рязанцева, который приехал из Санкт-Петербурга, чтобы сдать дела по купеческому приказу и уехать из Вильни по новому назначению, прихватив своего китайского слугу.
— Пан Михайло желает вас видеть, пан Лёдник, — поклонился китаец. – Думаю, вам стоит утихомирить свои страсти, благородный муж должен быть спокойным, как вода в широкой реке. В эту воду может войти каждый безо всякого препятствия, но если у него нету силы такую реку переплыть, утонет. А узкая река бурлит, брызгается, отпугивает от себя путников, но тот, кто не побоится, перепрыгнет её. Сегодня, когда стемнеет, за вами пришлют карету.
— Я тоже поеду, — подозрительно сказал Прантиш, недовольный такой таинственностью. На обычные дружеские ночные посиделки тайно не приглашают.
На прощание китаец рассказал ещё несколько баек о мудреце Конфуции, который считал, что время менять имена – это означало, каждый должен занять в обществе место не по праву рождения, а согласно своим личным качествам. Таким образом сын богдыхана может оказаться пекарем, а сын пекаря – полководцем. Вырвич надулся и вышел из кухни: отрицать право шляхетской крови – это же самого Полемона оскорбить!
А потом сударь Ли с Лёдником, в ожидании, пока не стемнеет, снова тушили свечку на расстоянии… Ясно, Лёдника до печёнок затронуло, что граф Батиста смог сделать такой фокус, а он, знаток тайных наук – нет!
Но свеча всё не желала гаснуть, доводя доктора до бешенства.
А в доме Рязанцева была разруха. Упакованные сундуки, закрытая полотном мебель… Прантиш скромно сел в углу, чтобы не мешать странному разговору.
Бывшие однокурсники молча сидели за столом, не касаясь кружек с чаем. И очень много скрывалось за их молчанием.
— Я рад, что ты не умер, — наконец промолвил Рязанцев. – Хотя там, в тюрьме, мне показалось, что с тобой всё кончено.
— Я, наверное, тоже должен быть рад, что не умер, — глухо ответил Лёдник. – Хотя моё наличие в мире живых всё усложняет.
— Не говори так, Варфоломей! – Рязанцев поднял на друга измученный взгляд. – Всё усложняет только твоё упрямство. Знаешь… — поколебался он. – В Санкт-Петербурге есть могущественные люди, которые давно ненавидят Георгия Орлова… Он глупый, нахальный, и царица от него уже устала. Иногда позволяет себе просто неподобающее – сам видел… Эти люди могли бы сделать ставку на тебя, Варфоломей…
— Если бы были уверены в моей верности, и если бы я согласился бросить жену, и жить во грехе, загубив душу. Нет, уверяю тебя, ничего бы не получилось. Я не Геркулес и не Аполлон. И тем более не дворцовый шаркун. Я литвин и люблю свою Родину.
— Я знаю… — усмехнулся Рязанцев. – Мы и сами не ждали такого… куртуазного поворота. Орлов теперь из шкуры выпрыгивает, чтобы её величество развлекать и удовлетворять наилучшим образом. Царица снова попала под его влияние. Вот, меня отсылают в Китай…
— Значит, я и тебе жизнь поломал… — задумчиво промолвил Лёдник, однако без раскаяния. Рязанцев пожал плечами.
— Это не такое плохое место, Варфоломей. Когда возвернусь, смогу занять ещё более высокую должность, чем здесь.
Друзья – то ли бывшие, то ли нет, не разобрать – снова помолчали.
— Знаешь, хочу сказать, как бы тебя ни травили, что-то плохое тебе делать сейчас побоятся. Её величество не забывает тех, с кем была хоть однажды. Ты всегда можешь написать ей и попросить защиты.
Выразительная гримаса Лёдника свидетельствовала, что никогда в жизни он такого письма не напишет, пусть бы его рвали на кусочки.
— Уезжай в Вену, Балтромей… — тихо проговорил Рязанцев. – В университете тебя хорошо знают. Или в Прагу, в Лейпциг. И там политические сутолоки, но ты там чужой, тебя в интриги не втянут, а хорошие врачи нужны всем одинаково. Ты большой учёный. А здесь вскоре будет жарко. Знаешь, царица переписывается с могилёвским епископом Георгием Канинским о том, как защитить здесь православную церковь. Скоро православная и протестантская шляхта соберётся, подпишут обращение к императрице, чтобы заступилась. Начнётся война. Эти земли всё равно войдут в состав России. Ты не сможешь остаться в стороне, а куда тебя занесёт при твоём характере – не знаю…
Профессор провёл рукой по худому лицу.
— Спасибо за заботу. Я подумаю.
Рязанцев вздохнул.
— Оставляю тебе всё, что могу… Вот купчая на дом, лошадей в конюшне заберёшь… Всё, что в доме – мебель, картины. Мне – зачем… Некуда тащить.
— Не возьму, — заупрямился Лёдник.
— А я не тебе оставляю. А твоему сыну. Может, устроишь здесь госпиталь, как мечтал… Но лучше – уезжай…
Помолчал.
— Вот же, мы и братья по вере, и единомышленники в науке, а так получилось… Надеюсь, нам не придётся друг друга убивать.
— Каждый должен исполнить свой долг перед Отчизной, — тихо промолвил Лёдник. – Просто Отчизны у нас разные. Знаешь, я – простой по происхождению человек, но я полочанин… В 1605 году в моём городе был принят манифест, в котором “рыцари и граждане Полоцкого воеводства” заявляли, что “всяческие цены, тяготы и безопасность не так важны, как свобода. Она самая любезная и самая благодатная, под нею мы родились, живём и хотим её целую, нерушимую наследникам нашим покинуть…”
На прощание они молча постояли, пряча глаза, а потом всё-таки рывком обнялись.
Назад доктор с драгуном ехали, не разговаривая, падал снег, в свете фонарей медно-золотистый, и можно было не оглядываться, чтобы удостовериться – твои следы замело.
Так же, как и кафедру профессора Лёдника в Виленской академии.
Ректор был с коллегой исключительно вежливым, и выдал годовую зарплату, но – поскольку лекций профессор с начала учебного года не читал, не могут же студенты взяться за изучение предмета с середины семестра… Так что погуляйте до следующего сентября, профессор. У вас богатая медицинская практика, можете читать факультативно лекции… Академическая аптека опять же остаётся под вашей рукой.
Но на приём к доктору Лёднику запросились сразу все… Даже тот же ректор начал жаловаться, что в спине что-то стреляет, будто фортеция защищается от злого войска, и хорошо было бы, если бы уважаемый коллега уделил время на консультацию, а ещё лучше – на свой чудодейственный массаж…
Остаток дня профессор провёл в лаборатории, готовя лекарства – микстуры, отвары, мази, даже помощников не попросил. Вырвич знал, доктор таким образом борется с сильными переживаниями. Или фехтованием, или травничеством. Но с самого приезда за саблю ещё не брался. Видимо, хватило пока с него боевых подвигов.
Новоиспечённый хорунжий Прантиш Вырвич тоже был пока не при делах. Из полка пришло письмо, что его хоругвь переформировывается, и, возможно, пана Вырвича переведут в другое место, о чём ему сообщат письмом.
А плату за год прислали тоже.
— Плюнь ты на эту академию, Бутрим! – решительно сказала пани Соломея. – Нахватался ты уже из-за неё. Даже если не хочешь уезжать в другой университет, как лекарь не пропадёшь, к тебе вон Мосальские посылают, Пацы, старая пани Броницкая приглашает для консультации… Иной бы озолотился. Проживём.
А на следующий день принесли какое-то письмо, запечатанное чёрным воском. Доктор почитал с неопределённой физиономией, растолкал драгуна, дремлющего у камина с томиком стихов, и заявил:
— Собирайся, жених, поедем в Лещины. Хоть я не вижу, чтобы ты горел пылким желанием побыстрее увидеться с невестой, к ней тебя довезу. И буду спокоен хоть за твою судьбу. А по дороге встретимся с Батистой…
Посмотрел, как Прантиш вскинулся, и обьяснил:
— От него, мерзавца, письмо. Показываться в Вильне не хочет, а встретиться необходимо. Нужно кое-чем обменяться… Этот позёр назначил встречу в Городне, после своего выступления в доме городенского старосты Антония Тизенгауза. Вот и билеты прислал…
Прантиш взял у доктора два листочка с тиснёными вензелями – пальцы почему-то дрожали – и прочитал о том, что наследник египетских жрецов граф Рудольфиус Батиста будет демонстрировать картины далёких стран и времён, и о египетской принцессе Серафине, которая разговаривает со змеями, танцует на раскалённых углях и исполнит для присутствующих сцену из оперы “Дидона”.
Прантишу сразу так ярко вспомнились фигурка в красном плаще на фоне белых дюн и чёрных деревьев, голос, взлетающий вместе с ветром, крики чаек… Горестные глаза… Великоватый рот…
Неужто Раина Михалишивна всю жизнь так и проведёт во власти бессердечного Батисты? И тот будет вечерами по-хозяйски отводить её в опочивальню, а при случае заставлять флиртовать с властителями? Вырвичу даже пришло в голову, что если бы отец Раины, ващиловский повстанец, знал, какая судьба ждёт его дочь, он имел полное право вгонять вилы в животы панам…
Лёдник хмуро понаблюдал за переживаниями бывшего хозяина, пробурчал “Ясно…” и ушёл в свой кабинет.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. КАК ПРАНТИШ И ЛЁДНИК КОРОНУ СВЯТОГО АЛЬФРЕДА ОБМЕНИВАЛИ.
В “Книге Кайранид” рассказывается о морском олене, который подымает над поверхностью моря голову с ветвистыми рогами и привлекает птиц, садящихся на его рога для отдыха.
А олень хватает их и сжирает, будто ему мало водорослей.
К счастью, в белорусских реках, даже величественном Нёмане, таких чудищ не водилось. А вот олень Святого Губерта с крестом во лбу был – на городенском гербе. Согласно легенде, оленя увидел Губерт из Аквитании, когда был на охоте, и раскаялся в своей грешной жизни…
Навряд ли, правда, белорусские олени плюют водой в каждую щель, чтобы оттуда выползли змеи, и душат гадов своими копытами, как об этих зверях утверждают средневековые бестиарии. Зато неоспоримо, что греческий царь Андроник приказывал приколачивать к дверям домов женщин, с которыми он спал, рога оленей, потому что мужьям тех женщин давал охотничьи привилегии.
Так получилось, что Вырвич никогда раньше в Городне, городе, на чьём гербе красовался олень Святого Губерта, не был, поэтому вертел головой по сторонам, как школяр. Славный город! Один Фарный костёл чего стоит… Каменные своды взлетают вверх, как пена морская на высокой волне…
А весь город почему-то напоминал хату, где спешно готовятся к неожиданному приезду очень почётных гостей. И там и здесь возводятся новые строения, укладывается брусчатка, устанавливают фонари… Иногда происходило это немного беспорядочно, когда фонарный столб вкапывали у дороги, которая ещё представляла собой яму, да и кто укладывает плитку в мёрзлую землю? Но приказали – и долбят лопатами родную почву мужики с унылыми до отчаяния лицами…
Необычно выглядел и зал в доме пана Антония Тизенгауза, городенского старосты, друга детства сегодняшнего короля, которому тот доверил все финансовые дела королевства. Похоже, там собрался настоящий Вавилон – вон громко беседуют рыжеватые чехи, там – немцы в чёрных камзолах, там болтают чернявые французы, там – степенные голландцы… Никто не прятал лица под маской, никакой таинственности, как во время сеанса во дворце Радзивилловны под Менском. Ясно, Батиста за это время вознёсся от подозрительного проходимца до признаного королевскими особами артиста, и придти на его спектакль более не считалось чем-то порочным.
К доктору Лёднику подскочил пузатенький невысокий пан в богатом камзоле, расшитом серебряными галунами.
— Балтромеус!
— Якуб Пфальцман! Вот так встреча…
Бывшие однокурсники по Лейпцигу со сдержанной радостью поздоровались, но обниматься не стали. Последняя их встреча окончилась тем, что пришлось удирать из Слуцкого замка Геронима Радзивилла, и изобретение Пфальцмана, железная черепаха на водяном двигателе, была расстреляна из орудий.
Прантиш, в парадном мундире хорунжего, был также радосно приветствуем и услышал, что вырос, возмужал, настоящий рыцарь…
— Что ты здесь делаешь, Балтромеус? – немного настороженно спросил Пфальцман. – Тебя пригласил для каких-то проектов пан Антоний?
В голосе ясно слышалась боязнь сильного конкурента. Лёдник поспешил успокоить знакомого, что он здесь присутствует всего только в качестве зрителя.
— Откуда столько иностранной публики? – не мог не поинтересоваться доктор. Лицо Пфальцмана сияло от восхищения.
— О, это дела пана Антония Тизенгауза! Это великий человек! Какой двигатель прогресса! Он хочет, чтобы любое производство, существующее в мире, было достойно представлено и здесь. В предместье города строятся десятки мануфактур! Пан Тизенгауз – гений! Вам хочется ческого пива? Он выписывает лучших чешских пивоваров, и те устраивают пивоварню. Есть спрос на лионский шёлк? Вот сидят мастера из Лиона… Персидские пояса, брабантские кружева, саксонский фарфор… Всё вскоре будет производиться здесь, по самым лучшим образцам. И каждый из мастеров подписывает контракт, что берёт в учение несколько здешних учеников и досконально передаёт им своё мастерство. Мне, как ты понимаешь, здесь также нашлось почётное место! Одно из самых важных!
Жирное лицо Пфальцмана надулось от гордости. Лёдник покивал головой.
— Очень уважаю такие начинания. Подобным образом действовал российский царь Пётр Первый. А какими силами строятся все эти мануфактуры? Крестьян, наверное, сгоняют?
Пфальцман надулся ещё больше.
— И ты повторяешь за всей этой меднолобой магнатерией о порочности методов пана Антония! Мол, крестьянам снова ввели панщину, холопы пишут жалобы, бунтуют… Никакого прорыва к лучшему не происходит без жертв! Кто бы построил египетские пирамиды, если бы на стройку не гнали плетями простых людей?
Доктор скептично глядел на разгорячённого изобретателя, близко к сердцу, похоже, принимающего реформы пана Тизенгауза.
— Я только поддерживаю любое проявление прогресса. Но знаю и другое, если простых людей довести до отчаяния, любой прогресс обернётся своей противоположностью. И что им брабантские кружева, если не хватит времени засеять своё поле?
— Ты просто республиканец какой-то, — раздражённо сказал Пфальцман. – При чём здесь быдло? Пан Антоний, между прочим, не деспот какой-нибудь, а натурфилософ, дружит с Жан-Жаком Руссо… Тех же мужиков образовывать собирается. Просто должно пройти какое-то время, чтобы все осознали пользу от реформ. Когда по приказу его величества Петра строили на болотах Санкт-Петербург, тоже царя проклинали, потому что люди мёрли как мухи. А сейчас какой красивый город! Его мость князь Богинский в прошлом году меня туда с собою брал. Где была трясина – каменные мосты, на каждой миле пять столбов с вывесками, надписи по-московски, по-немецки, на латыни, аустерии с удобствами… А улицы широкие, чистота – но тоже не из воздуха возникла, потому что когда мужик из города выезжает, то должен заплатить две копейки. А если вывозит с собой мусор, то с него платы не берут. А если едет в город – тоже должен заплатить две копейки, или привезти с собой камень или дерево для ремонта мостов. Вот что значит – управлять народом!
— Дельные законы… — согласился Лёдник, хотя при упоминании о Северной Пальмире его даже передёрнуло.
Меж тем люди рассаживались в кресла, начинали нетерпеливо оглядываться, ожидая определяющих персон вечера… Засобирался и Пфальцман, с гордостью сообщивший, что в четвёртом ряду сидит его жёнушка.
И тут случилось то, чего бы не хотел немецкий изобретатель. Люди умолкли, потому что в зал стремительно вошёл худощавый подтянутый пан с немного запавшими глазами и острым носом. Казалось, за ним развевается красный плащ повелителя, хотя никакого плаща не было, а был белый праздничный костюм с золотистым жилетом. Внимательные глаза пана будто могли охватить зал со всеми мелочами, до последнего веера и пряжки. Вот взгляд остановился на Пфальцмане.
— Ваша мость Пфальцман, сегодня видел в действии усовершенствованный вами ткацкий станок. Думаю, таких нужно сделать штук десять… Сможете? А это кто?
Взгляд пана скользнул по Прантишу и задержался на Лёднике, высокомерно-важном и на голову выше щуплого пана в белом наряде.
Пфальцман постарался не скривиться и сделать всё согласно политесу.
— Ваша мость, пан Тизенгауз, позвольте представить, это доктор Балтромей Лёдник, профессор Виленской академии, мой бывший однокурсник, и его друг пан Прантиш Вырвич…
— Хорунжий королевской хоругви, ваша мость, — уточнил Вырвич, ловко отвесив поклон.
Но взгляд его мости Тизенгауза сосредоточился на профессоре, и как-то подозрительно загорелся.
— О, пан Лёдник! Приятно познакомиться с вашей мостью… Слышал, что вы недавно были в Санкт-Петербурге… Имели аудиенцию у её величества императрицы…
Улыбка профессора была вежливой, но Вырвич мог присягнуть, что за ней прячется скрежет зубовный. Работает “сарафанная почта” от дворца ко дворцу, сороки в кармазиновых жупанах стрекочут рьяно…
— Да, ваша мость, мне выпала такая честь.
Лицо Лёдника сделалось ещё более высокомерным. Тизенгауз обмерил глазами фигуру доктора, похоже, оценивал его Геркулесовы качества.
— Императрица чудесная женщина, не так ли, ваша мость?
Это была уже прямая провокация, и обычный временный фаворит тут же начал бы хвастать полученными респектами и намекать на свою значительность… Но профессор только вежливо склонил голову.
— Её императорская мость – повелительница большой страны.
Антоний Тизенгауз какое-то время изучал сосредоточенный облик собеседника, потом улыбнулся каким-то своим мыслям, подхватил Лёдника, чья сдержанность ему, видимо, понравилась, под руку.
— Думаю, вы – именно тот человек, который мне нужен, ваша мость. Наверное, до вас доходили слухи, что я не читаю книг, потому что не желаю быть зависимым от чужих мыслей. Но содержание газет и журналов мне пересказывает секретарь. Меня очень поразили ваши статьи о необходимости медицинского образования в нашей стране. Имею в этом весьма интересные планы… Пойдём в мою ложу вместе с вашим молодым другом, я кое-что с вами немедленно обсужу.
Пфальцман остался стоять в проходе между кресел, злющий и взъерошенный, как ёж, у которого ворона склевала из-под носа соблазнительного жука.
Так Вырвич и Лёдник очутились в ложе всемогущего министра финансов – а именно это и означала должность королевского подскарбия. Стоило Тизенгаузу занять своё место, тут же началось представление.
Погасили часть свечей, зажгли на сцене факелы… Снова было эффектное появление египетской принцессы из зеркала, и у одного молодого драгуна от потрясения едва не выпрыгнуло сердце. Переливался огромный хрустальный шар, показывая картины светлого будущего Городенского края и всей Речи Посполитой под сильной рукой пана Антона Тизенгауза, королевского подскарбия. Графиня Батиста расхаживала по сцене, украшенная живой змеюкой… А потом были танцы на горячих углях, правда, на этот раз принцессу не вынудили демонстрировать всем свои оголённые ножки, сидя на стуле, и предлагать их потрогать – видимо, в зале находились блюстители сарматских нравов, и Батиста решил не рисковать обвинениями в разврате. Вообще итальянец избегал трюков, которые напоминали ведьмарство, мыслей не читал, таинственных пассов руками под зловещие формулы не делал… Да ещё время от времени призывал на помощь святых Христофора и Антония Падуанского. О своей карьере в качестве египетского жреца Тот-Амона тоже особенно не распространялся. Эдакий светский вариант “пристойной” магии, больше развлекающей, чем страшной.
Ящик для углей был новый, на этот раз круглой формы, и египетская принцесса скользила по кругу, гибкая, прекрасная, как фея Метлушка, а Прантиш Вырвич с обмиранием сердца следил за её движениями. Потому, что уже знал, что хотя Михалишивна умеет избегать ожогов, иногда выстреливает какой-нибудь уголёк, и тогда возникают раны, а показывать, что больно, нельзя. И драгуну казалось, что вот к ножке танцовщицы припал в убийственном поцелуе огонёк… И страшно злила та жажда, с какой зрители наблюдали за зрелищем, особенно взгляды мужчин, будто оставляющие на коже артистки следы, как от грязных, жирных пальцев. А ещё Вырвич никак не мог понять, заметила его Михалишивна в зале, или нет, и каждый раз, когда она поворачивалась в его сторону, сердце драгуна обрывалось. Если бы не Лёдник, время от времени сердито косившийся на подопечного, то Прантиш не выдержал бы и начал как-нибудь подавать актрисе знаки…
А профессор тем временем переговаривался с паном Антонием Тизенгаузом, и то, что долетало до Прантиша, свидетельствовало: мечта Лёдника о медицинской академии в Беларуси может осуществиться!
Пан Антоний был стремительный, амбициозный и всемогущий, его не останавливали никакие вероятные трудности. То, что вытворяли на сцене маг с ассистенткой, оставляло его безразличным: вот если бы там демонстрировали действие нового станка, более внимательного зрителя не нашлось бы.
Подскарбий просто предложил Лёднику, без всяческих нюансов и уговоров, составить проект создания в Городне высшей медицинской школы. Какие должны быть кафедры, какое оборудование, сколько студентов, кого брать на учёбу… Ну и кто мог бы там преподавать. Естественно, Лёдник был одним из главных кандидатов.
Бутрим согласился помочь, и сразу посоветовал пригласить профессора медицины из Королевского Лионского колледжа Жана Жилибера, с которым переписывался, и имел одинаковые взгляды на то, каким должно быть медицинское образование и госпитали, а в них больные не должны валяться на соломе, или по трое на одной кровати, как случалось повсюду.
Вырвичу даже пришло в голову, не судьба ли им теперь надолго задержаться в Городне?
Так что если Батиста рассчитывал удивить фанаберистого доктора новыми фокусами, ему это не удалось, так как Лёдник, отвлечённый серьёзными государственными разговорами, представление смотрел вполглаза. Только когда Михалишивна запела арию Дидоны, даже Тизенгауз умолк и уставился на сцену через увеличительное стёклышко на рукоятке из слоновой кости.
— Вот такую бы актрису для моего театра… — пробормотал он, а это был уже почти план действий.
А Вырвича каждая нотка пения доставала до самой души… Эх, зачем такой талант тратить на фокусы – пусть бы Раина Михалишивна играла просто в опере или в пьесе, это было бы самое впечатляющее… Это было бы искусство… А так – балаган, детский бой на палках-пальцатах, в котором вынудили принять участие взрослого знаменитого полководца.
Между тем представление подходило к концу. Кто хотел, налюбовался египетской принцессой… Маги раскланялись, и Вырвич аж подпрыгивал, чтобы быстрее отправиться с ними на свидание. Точнее, увидеть Михалишивну. Едва дождался, пока окончится церемония прощания с его мостью подскарбием.
Теперь с виленским профессором раскланивались особенно вежливо все, кто видел, что он сидел в одной ложе с этакой важной персоной и имел с нею длинную и содержательную беседу. Кое-кто, правда, поглядывал злобно, ибо реформы Тизенгауза начинали вызывать настоящее бешенство, особенно его ревизии королевских владений и строительство хороших дорог, которые часто шли прямо через шляхетские земли, считавшиеся неприкасаемыми.
Пара Пфальцманов растворилась в толпе, как сахар в кипятке. Осторожный Якуб хорошо помнил, чем оканчиваются встречи с бывшим однокурсником.
Но и сейчас испытания для Вырвича не окончились. Лёдник, вместо того, чтобы наконец пойти встречаться с Батистой, крепко ухватил Вырвича под руку и потащил куда-то в другую часть зала, ловко проскальзывая между нарядными гостями, занятыми светскими разговорами. И вот – невысокая пани в старосветском богатом чепце и строгом чёрном платье, а рядом с ней тоненькая девушка с огромными тёмными глазами, кроткими до наивности. Ганулька Маковецкая с тёткой! Вот что Лёдник, заботливый покровитель, сотворил…
Щёки Прантиша запылали, но почему-то не от радости. Между тем пани Гортензия расцеловалась с Лёдником, и долго прижимала драгуна к груди, тот едва не расчихался от крепкого слащавого парфюма с привкусом лекарств. А Ганулька покраснела почти до слёз, когда Прантиш поцеловал её холодную, нежную, как фиалка, ручку…
— Дай вам Бог здоровья, пан доктор, так вы меня подлечили, такие советы дали! Год назад я бы до Городни не добралась.
Пани Гортензия подала знак, и лакей ловко поднёс ей синюю склянку с нюхательной солью. Пани несколько раз вдохнула запах лекарств, откашлялась, прикрывая рот платочком.
— Но нет, ваша мость Лёдник, больше я на такие ведьмарские вечера не пойду! – решительно заявила пани. – Совсем мир испортился… Змей, гадов сатанинских, обнимать! А эта блудница с голыми ногами! Почему только ей пятки не поджарило?
Вырвич еле сдержался, чтобы не заступиться за Михалишивну.
— Но хорошо, хоть оказия случилась доченьку в свет вывезти. Мы остановились в здании напротив Нового замка. Завтра сходим на литургию в Фарный, а потом ждём вас с паном Прантишем, и вместе отправимся в Лещины.
Пани Гортензия оглянулась на Прантиша и Ганульку, которые, казалось, вели вежливый разговор, и какое-то сомнение отразилось на её лице.
— Иногда моя Ганулька напоминает мне слуцкую княжну, Софию Олелькович, — промолвила к Лёднику пани Гортензия. – И лицом, и кротостью своей, и добродетелью… Княжна София стала женой Януша Радзивилла, и настрадалась, бедная. Потому, что муж её хоть и любил сначала, но он был воин, буян, любил шумные да опасные забавы. Ничего хорошего не получается, если такие разные натуры соединить.
— Что же, всё в воле Божией, — серьёзно промолвил Лёдник. – Я, как и вы Ганульке, хочу только счастья для этого молодого человека. А Господь управит, как должно.
— Аминь, — сказала пани Гортензия.
Когда они шли к экипажу, чтобы наконец отправиться к Батистам, Лёдник спросил Вырвича, как прошло свидание с потенциальной невестой.
А Прантиш только бормотал что-то невнятное. Ганулька ему нравилась, особенно как краснела и трепетала перед ним, но о чём с ней на этот раз разговаривать, так и не придумал. Конечно, паненка интересовалась, как здоровье пана Вырвича, зажила ли его рана… Прантиш в свою очередь спрашивал, как здоровье тётушки… Кажется, у драгуна всегда язык был в куртуазных делах хорошо подвешен, любую женщину мог заговорить, заболтать, хоть корчмарку, хоть магнатку. Вон перед княжной Богинской какие вензеля плёл. Но здесь же – будущая жена, здесь нести лишь бы что не станешь, тем более она такая скромняшка… Прантиш таких обычно избегал. Этой не начнёшь, как пан Рысь, каблуки отстреливать, умрёт от страха, бедняга.
Что же, многие начинали семейную жизнь с ещё меньшего, даже не видели лиц друг друга. Драгун из их полка хвастал, что когда женился, с женой за пять лет ни разу не поговорил больше минуты. А что с белоголовой разговаривать? Её дело – приказы мужа выполнять да в постель ложиться.
А вот и дом странствующих артистов. Из экипажа доктор вышел с тяжёлым чемоданом и самой суровой физиономией, будто собирался лечить сложную болезнь. Прантиш нервно пригладил по-прежнему русый чуб…
Батиста встретил гостей в комнате, освещённой тремя свечами в канделябре, от чего вечерние тени ложились густо, как масло на ломоть после поста. Вырвич едва не замычал от разочарования, когда не увидал Михалишивны. Где она, что с ней?
Но вот показалась тоненькая фигурка, приблизилась к погасшему камину, на котором стоял канделябр, и щипчиками для нагара подправила свечи… Показалось, или нет, что в комнате сразу стало светло? Михалишивна наконец подняла на драгуна глаза, улыбнулась уголками рта… Кажется, её трагическое лицо немного осунулось…
Лёдник между тем обменивался с Батистой ритуальными вежливыми фразами, потом уселся с магом за столик. Вырвич видел, что доктор достал сложенный вчетверо пожелтевший лист, который Батиста жадно схватил, и тут же сжёг на свече, пепел растёр по каминной доске и сдул…
Наконец избавился от доказательств своего преступления. И начал скандалить по поводу снятой с письма копии, которую ему хотелось тоже немедленно сжечь.
А потом разгорелась горячая дискуссия по поводу новых трюков, показанных магом не в последнюю очередь в расчёте потрясти соперника.
Вырвич воспользовался моментом и отвёл Михалишивну подальше от разгорячённых алихмика и мага в самый дальний и тёмный угол.
— Как ты, Раина? Он тебя не обижает?
Михалишивна грустно покачала головой.
— Обида – понятие относительное, пан Вырвич. Кого-то может смертельно обидеть недостаточно низкий поклон, а кто-то даже удар плетью считает за “здравствуйте”. Нет, меня сейчас не обижают… Батиста немного напуган всеми этими политическими интригами и хочет вернуться в Италию. Говорит, что оженится со мной, купим хороший дом в его родной Тоскане, виноградники… Надену чепец и буду хозяйничать, пересчитывать сундуки, бочки с вином. А вы как, пан Вырвич? Какие планы?
Михалишивна говорила грустно и просто, будто сообщала, что на улице снег. У Прантиша даже защемило сердце.
— Я тоже женюсь… — вымолвил он, потому что не сообщить было бесчестно. – Хорошую невесту мне нашли, богатую… Военную службу брошу…
Актриса только улыбнулась, прозрачно-зелёные глаза не наполнились бесполезными слезами.
— Рада за вас, пан Вырвич. Мне будет приятно думать, что где-то вы в безопасности и счастливый. Осознание этого… самое дорогое, что у меня останется.
Она стояла перед ним, тоненькая и сильная, как лозинка, и просто легонько провела пальцем по щеке пана, почти не касаясь, будто хотела хорошенько запомнить его черты…
И тут Вырвич вспенился, вскипел, как молодое пиво. Огненный темперамент, соединившись со стремительной водой, которая, по утверждению Лёдника, тоже присутствовала в характере драгуна, дал такую взрывчатую смесь, что не только железную пфальцманову черепаху заставила бы стронуться с места, но и разрушила целую гору. Прантиш схватил Раину за плечи:
— А со мной хотела бы быть?
Губы девушки вздрогнули.
— Это невозможно, пан Вырвич. Батиста меня не продаст.
— Ну и леший с ним!
Драгун оглянулся. Маги сидели напротив друг друга, оскалившись, как два волка над одним куском мяса. Вдруг Лёдник выбросил руку в сторону камина, и свечи на нём погасли.
Наловчился-таки, вот упрямый! Соломиной стену продырявит, если вздумается. Батиста напрягся…
Похоже, паны маги в ближайшее время будут основательно заняты.
Вырвич вывел Михалишивну в коридор между жилыми помещениями, который заканчивался окном-эркером. В свете фонаря, к которому на улице подлетали снежные пчёлы, окрашиваясь медным цветом, Прантиш заглянул в зелёные испуганные глаза.
— Пойдёшь со мной?
— Пойду! – девушка даже на мгновение не промедлила, будто ответ был готов раньше, чем прозвучал вопрос.
Прантиш жадно припал к её губам, потом заставил себя оторваться, хотя голова знакомо кружилась. Amantes sunt amentes.(Влюблённые- это безумные. Лат.)
— Тогда бежим! Сейчас же!
И снова она даже не переспросила, куда бежать, зачем… Не вспомнила, что нужно что-то с собою прихватить. И он знал, что она действительно пойдёт за ним повсюду, и выдержит всё, и ничего не попросит… Особенного плана у драгуна не было, он знал одно: он должен забрать эту девушку с собою сейчас же и никогда не отпускать. Можно двинуть в Подневодье. Домик там стоит. Землю в аренду сдали, а дом пустует.
Прантиш снял с себя кунтуш, закутал дочь кричевского повстанца и рванул раму окна… И хотя оно было заперто наглухо, под натиском распалённого драгуна вынулось из проёма, как рамка из улья.
Вырвич уже одной ногой стоял на подоконнике, когда в коридор вбежал разъярённый Лёдник:
— Стой, молокосос! Что ты творишь!
— Бутрим, не вмешивайся! – крикнул Прантиш, но Лёдник уже оголил саблю и одним прыжком очутился у окна.
— Пану мало игрушек? – доктор был разгневан, как никогда. – Корчмарок потискал, теперь артистку захотелось?
Вырвич выхватил саблю.
— Я на ней женюсь! Сегодня же обвенчаемся!
В коридоре показался Батиста, который, однако вмешиваться не стал, туда, где блестят сабли, приближаться не любил. Просто скрестил на груди руки и передоверил разбираться со своим учеником виленскому профессору. Лёдник криво усмехнулся.
— Жениться, значит, собрался? А как же Ганулька Маковецкая?
— Я её не люблю!
Прантиш упрямо наклонил голову, держа саблю наготове.
— А эту актрису, крепостную, между прочим, красотой которой воспользовались многократно кто хотел, любишь? Извини, не верю. Просто увидел чужую красивую игрушку и захотел присвоить.
Михалишивна виновато опустила голову, её губы дрожали.
Прантиш направил на Лёдника клинок.
— Я её люблю! Она виновата в том, что с ней произошло, не больше, чем ты, умник, когда был в рабстве! Она чище тебя! Дай уйти!
— А ты её спросил, может она просто от горя готова убежать с кем угодно? А актриса она выдающаяся. Сыграет какую угодно любовную муку…
Прантиш, похолодев, бросил взгляд на Раину, в её глазах стояли слёзы.
— Миа кара, заканчивай с этим желторотиком. Потешилась, и хватит, — голос Батисты был вальяжно-насмешливый. – А то сейчас весь дом выстудишь. Не выспимся, а нам уезжать рано…
Лёдник испытующе смотрел на Раину. Та смело встретилась с ним глазами.
— Я не прикидываюсь. Я готова быть горничной пана Вырвича, чёрную работу делать, лишь бы с ним…
— Ты будешь пани Вырвич, или я порублю весь свет! – заявил Прантиш, чувствуя в себе силы осуществить угрозу. – Без тебя мне ничего не нужно, даже самой жизни! Всё, что имею, продам, если понадобится, а тебя выкуплю.
— Не говорите так, пан Прантиш… — слёзы по щекам Михалишивны катились уже ручьями.
— Хватит разыгрывать сцену Ромео и Юлии… — недовольно бросил Батиста. – Доктор, да угомоните вы уже своего молодого друга!
— И правда, хватит драмы… — проговорил Лёдник, и Прантиш вскинул саблю.
— И ты будешь драться со мной, молокосос? Из-за прихоти, которая принесёт всем только горе? – Лёдник крутанул саблей, вроде легонько, но клинок со свистом разрезал воздух. – У тебя всё равно никаких шансов против меня, сам знаешь…
— Знаю… Но буду драться! – Прантиш бдительно следил за каждым движением доктора. – И если ты меня не убьёшь сейчас – я всё равно вернусь за Раиной!
— И пану не будет стыдно, что оженился с мужичкой? Ты же о княжне мечтал, между прочим, — издевался доктор.
— Вот я её и нашёл, — упрямо проговорил Прантиш, не обращая внимания на искренний хохот Батисты. – Давай, Бутрим, не медли! Или отпусти нас, или давай драться!
Михалишивна дрожала, с отчаянием поглядывая на открытое окно… Но доктор спрятал саблю в ножны и хмуро бросил в сторону другого конца коридора.
— Узнаю пана Вырвича. Ни плана никакого, ни разумных действий… Взорваться, кинуться, ринуться, и хоть трава не расти… Пошли в зал, договоримся по-взрослому. Слово даю, держать вас больше не стану, захотите – уйдёте. Acta est fabula.(Пьеса сыграна. – Лат.)
Вырвич мрачно посмотрел на Лёдника, но саблю прятать не стал, обнял левой рукой Раину и повёл вслед за доктором и Батистой.
Свечи светили ещё более тускло, будто их оскорбило магическое гашение.
— Ну что, пан египетский жрец, сколько вы хотите за вашу ассистентку? – утомлённо проговорил Лёдник. Батиста разозлился.
— Да я за неё в своё время пятьсот дукатов отвалил! А сколько вложил в её обучение, чтобы отшлифовать этот талант! Да цена не менее, чем вдвое возросла!
— Значит, тысяча дукатов… — задумчиво промолвил Лёдник, открыл чемодан и вдруг бросил на стол тяжёлый мешок.
— Пересчитайте и давайте сюда бумаги…
Прантиш растерялся: откуда у доктора с собою такое богатство?
А с Батисты как вода с гуся.
— Деньги немалые… Но с помощью графини Батисты я могу заработать ещё больше. К тому же, пан Лёдник, вы не думаете, что у меня могут быть свои сердечные пристрастия? Я жениться на своей красотке собрался… Уже столько лет вместе, в одной постели, чувства проверенные… Лучшую навряд ли найду.
— Найди хотя бы такую, которую тошнить от твоих прикосновений не будет! – выкрикнула Михалишивна, и Батиста злобно прищурился. Теперь ясно, если Раина останется в этом доме, её ожидает самое суровое наказание. И Прантиш решил биться до последнего…
— Значит, тысячи дукатов пану за его ассистентку мало… — задумчиво проговорил Лёдник.
— Уверяю, у вас не хватит никаких денег! – насмешливо подтвердил Батиста. – А согласно закона, если увезёте моё имущество, я завтра же подам в суд, и девицу мне вернут с жолнерами, а вы сядете в тюрьму.
Лёдник на насмешки итальянца внимания не обратил, снова полез в чемодан и достал знакомый сундучок, обтянутый алым бархатом, открыл.
— Корона вульгарис, обычная, немного помятая, но узнаваемая, орнамент друидический…
Пока Лёдник паясничал, Батиста потерял всяческое самообладание, его рот едва не пускал слюну, а руки сами тянулись к реликвии, как у пропойцы к кварте.
— Откуда… — прохрипел он.
— Ваши шпики слабо работают, — улыбнулся Лёдник. – Всё законно, подарок её величества императрицы.
— А, — саркастическая догадка с примесью зависти мелькнула в серых, широко расставленных глазах мага. – Плата за страстную ночь… А я думаю, почему ваша мость до сих пор не генерал и не владелец больших имений, её величество щедра к фаворитам. А вы вот что получили…
— А пан Мончини, нужно понимать, со свечкой около меня в ту ночь стоял, чтобы в фавориты записать. В любом случае, я не беру платы за любовь, — холодно проговорил Лёдник. – А это – так, сувенир, игрушка на память… Могу предложить как дополнение за выкуп вашей ассистентки.
Батиста перевёл взгляд на Михалишивну, которая ухватилась за Прантиша, как тонущий за челн.
— Женщин время от времени надо менять… Тем более таких, что могут тебя пырнуть ножом. Не поверите, пан Прантиш – пробовала, и не раз. Хорошо, пан Лёдник, согласимся…
Бумага на куплю-продажу актрисы Раины Михалишивны была подписана в присутствии свидетелей, приведённых прислугой из ближайшей корчмы, где всегда отирались “юристы из палестры”. Потом Прантиш Вырвич засвидетельствовал, что отпускает свою приобретённую кметку Михалишивну на волю, на что также была составлена соответствующая бумага.
— Если ещё один человек в этом мире выходит из состояния рабства, мир делается на ступеньку выше к небу, — удовлетворённо промолвил Лёдник. – Прощайте, пан Батиста! Послушайтесь моего совета: езжайте в Ангельщину! Корона святого Альфреда – вещь не простая, видите, как хозяев меняет… Просто как волан в игре. Возможно, настоящее место ей только на родине, в сокровищнице аглицких королей. К тому же, там вам заплатят дороже всех. Король Георг непременно захочет утереть нос вигам, и покрасоваться перед своим бунтарским народом в короне, которую носил святой Эдуард Исповедник.
— Дельный совет, профессор, — улыбнулся маг, двумя руками прижимая к себе сундучок, как свадебный каравай. – Искренне надеюсь более с вами не встретиться.
Перевёл взгляд на Михалишивну.
— А ты, миа кара, если надоест застенковая жизнь и заскучаешь по большим сценам да внимании коронованных особ, всегда можешь вернуться.
— Скорее умру! – с ненавистью промолвила Раина, и гости ушли из дома, освещённого чужим золотом и тусклыми свечами.
В экипаже Прантиш, прижимая к себе Михалишивну, поднял на Лёдника счастливое лицо.
— Ты же с самого начала это задумал, Бутрим! Ещё в Вильне! Деньги взял, корону… Испытать меня решил?
Лицо Лёдника было довольным, как после диспута, на котором удалось опровергнуть всех оппонентов.
— С тобой что-то задумаешь… Разве я мог представить, что ты в окно станешь с девицей сигать? А испытать надо было. Ты сам мне говорил, что не знаешь, чего хочешь. И оставался вариант, что благородный пан Вырвич выберет не крепостную актрису, а панну Маковецкую.
— И что тогда? – настороженно спросил Прантиш.
–Тогда я просто выкупил бы у Батисты панну Раину и пристроил её куда-нибудь согласно с её желанием. На таких актрис в Европе большой спрос.
— Спасибо, пан Лёдник… — тихо проговорила Михалишивна, в её глазах было столько благодарности, что доктору стало неловко.
— Меня самого покупали и продавали, — напомнил он.
Вырвич тронул губами крашеные басмой волосы любимой, которым обязательно должен вернуться первоначальный русый цвет.
— Я не буду запирать её в доме. Она сможет выступать на сцене…
Лёдник скептично посмотрел на младшего друга.
— Я тоже считал, что смогу допустить, чтобы Соломея имела медицинскую практику. Посмотрим, как сложится ваша семейная жизнь, пан Вырвич. С такой легкомысленной личностью, как ты, ничего не спланируешь. Это же с ума сойти, потащил невесту на стужу, в одном платье, окно выбил, когда двери есть…
— А где ты столько денег взял?
Лёдник отвёл глаза.
— Профессорский оклад за год, плюс продал наследство Рязанцева, пару денежных пациентов проведал, кое-что было отложено, ну и набралось. Какая тебе разница?
Доктор поворчал ещё, а потом деликатно сделал вид, что задремал. Для молодой пары очень кстати.
— Я не была с Понятовским, — прошептала в перерывах между поцелуями Раина. – на Писании могу присягнуть. Пела для него, танцевала… Но у его королевской мости сейчас очень ревнивая любовница, так что дальше, слава Богу, он зайти не решился, а я очень старалась держать безопасное расстояние.
Вырвич поцеловал её брови, глаза и сказал то, что думал.
— Мне всё равно, с кем ты была… Прошлое – страшный сон, а ты со мной от сегодня и навек…
А над городом, погружая копыта в синие тучи, величественно плыл-прыгал олень Святого Губерта, и золотой крест между рогами некоторые принимали за месяц, некоторые – за веер с мануфактуры пана Тизенгауза, заброшенный ветром на дерево, а некоторые – за следствие белорусской медовухи, только что выпитой в гостеприимной корчёмке…
И если и было что-то определённое в этом мире, так это слова и поцелуи между двумя, которые едва не потеряли друг друга.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ПОСЛЕДНИЙ НАЕЗД ГЕРМАНА ВАТМАНА
Если человека гонит по миру, как сорванный лист, значит у него в хате поселилась Бадюля, страшное существо, которое вынуждает человека путешествовать и искать страну, где, естественно, лучше, чем здесь…
Прогнать Бадюлю просто: подмести хату, чисто вымыть полы, и всю грязь вылить на заход солнца. Тогда и выскочит следом Бадюля, нечёсаная, в струпьях, одетая только в покрывало…
Вот, кажется, пани Соломея Лёдник хату содержит в чистоте, а мужа её время от времени гонит по белу свету так, что неизвестно, вернётся ли… А что получится у Прантиша и Раины? Где будет их дом, и куда понесёт обоих суровый Похвист, зимняя метель?
Они приехали в Вильню ещё засветло, когда синие тени деревьев ложились на заснеженную брусчатку почти незаметно, а серое небо ещё не приобрело цвет дыма… Прантиш давно рассказал Раине о гостеприимном доме с зелёными ставнями, о пани Соломее Лёдник, в девичестве Ренич, красивой, как Сильфида, о маленьком Алесе, даже о Пифагоре и Хвельке. Как же хотелось очутиться там, в безопасности и уюте, пусть и мнимых… Где с картины глядит Аристотель, очень похожий на Лёдника в старости, на камине покручиваются сине-белые часы-ваза, а в лаборатории, укреплённой, как маленькая крепость, вглядывается серыми стеклянными глазами в аглицкую даль, за море и дюны, восковая кукла-автомат Пандора…
Когда знакомая крыша ещё только показалась из-за заснеженных деревьев, с той стороны послышался выстрел и сердитые крики… Ещё выстрел… А вот, кажется, женщина кричит…
Лёдник высунулся из экипажа, выхватил из рук наёмного кучера кнут, хлестнул коней.
Дом с зелёными ставнями держал настоящую осаду. Рядом с ним стояло десятка два оседланных коней, во дворе, прячась за деревья, бегали люди с ружьями и саблями. Не в мундирах, а, видимо, наёмники, потому что хорошо вооружённые и с физиономиями, много раз латанными… А вот лежит что-то рыжее, лохматое… Пифагор! Погиб, верный защитник…
Время от времени с чердака дома стреляли — когда-то Прантиш постарался превратить тот чердак в настоящую фортецию, с амбразурами и приличным запасом оружия и пороха. А беловолосый великан прислонился к дереву и громко уговаривал кого-то в доме:
— Ну зачем столько шума и хлопот, моя красотка! Мой замок в Силезии ждёт тебя, место хозяйки свободно… Неужели ты забыла нашу пылкую ночь? Выходи вместе с короной, и мы все тихо уйдём.
В ответ пуля срезала кору дерева как раз около уха великана.
— Ну зачем всё усложнять? На помощь к тебе никто не придёт…
Во двор чёрным вихрем влетел Лёдник, за ним бежал Прантиш, а Раина Михалишивна, вместо того, чтобы остаться в экипаже, который, кстати, сразу исчез из опасного места, только снег вихрем, тоже бежала с пистолетом и кинжальчиком.
Лёдник с ходу свалил одного из нападающих, Прантиш ранил в руку второго, вынудив уронить саблю.
— Что тебе нужно в моём доме, Ватман?
Наёмник смотрел на доктора, и его глаза казались то прозрачно-белыми, как туман, то бездонно-багровыми.
— Да когда же ты перестанешь возникать, как чёртик из табакерки, а, Бутрим? Может, ты не человек, а стихийный дух, и тебя вызывают какой-то секретной формулой: промолвишь вслух, бенц – и доктор Лёдник здесь, как мозоль на пятке, со своею сабелькой… А нужно мне две ценности. Одну – для князя Богинского, другую – для себя… Князю – корона, мне – красотка.
— Пшёл прочь! – Лёдник бросился на беловолосого великана, но если и был в мире человек, равный доктору в фехтовальном мастерстве, то это Герман Ватман. Лёдник более подвижный, но Ватман – настолько сильный, что ломал шеи одним касанием. А поскольку убийства были его профессией, а в ней он считался лучшим в Европе, Бутримовы прыжки и вращения могли только немного уравновесить силы.
Прантиш дрался сразу с двумя, но вот один с бранью упал, раненый в ногу. Вырвич оглянулся: Михалишивна спокойно перезаряжала пистолет, будто не в человека попала, а торт порезала, и не пули и клинки здесь свистели, а веера взмахивали.
С чердака снова послышался выстрел и крик Соломеи:
— Бутрим, слева!
Лёдник бросился на землю, и очень вовремя: один из нападающих пристроился за оградой с ружьём и едва не изменил ход боя
Положение отчаянное… Главным препятствием был Ватман, а ещё ружья и арбалеты.
— Герман, в доме нет короны! – это снова кричала Соломея. – Жизнью присягаю!
Её крик угас в холодном воздухе и сознании нападающих, как вылитая в реку рюмка красного вина.
— Пан, не знаю, как вас там, — крикнула Ватману и Раина, её чёрные волосы дерзко выбивались из-под шапочки с белой опушкой, как у королевы Кинги. – Могу подтвердить – на моих глазах корону святого Альфреда продали графу Батиста!
— Это что ещё за вертихвостка? – недовольно спросил Ватман, легко отбивая наскоки Лёдника.
— Это моя невеста! – рявкнул Прантиш, орудуя неподалёку саблей.
— Толковая невеста, боевая… — одобрил Ватман. – Но моя красотка, там, в доме, не хуже, и дороже мне любой короны. Ну что, Бутрим, довершим давнее дело?
Они дрались снова – ожесточённо, сосредоточено, как могут только старые враги, и то, что выделывали оба на затоптаном дворе с поломанными деревьями и кустами, могли повторить единицы в мире, а может, и никто. А Прантиш не мог помочь, пытаясь не допустить нападающих к строению. Их оставалось ещё человек десять, опытных¸ они не бросались под пули и сабли, прятались за деревья, отстреливались… Раина, как верный оруженосец, была всегда рядом и стреляла метко, видимо, не хуже, чем жена пана Рыси. Один раз и кинжалом швырнула в здоровенного дядьку в короткой волчьей шубе, так, что попала как раз у шеи. И как ни бранился Прантиш, не заставил неугомонную артистку оставаться в безопасном углу между конюшней и дровяным сараем.
И тут случилась беда. Ватман подхватил левой рукой сломанный молодой клён, безжалостно оторвав те белые прожилки, на которых дерево ещё держалось за свои корни, и теперь, вооружённый саблей и приличным колом, напоминал античного Геркулеса. Он загнал доктора в самый угол двора, куда не доставали выстрелы с чердака. И изловчился ударить колом по руке, которая держала саблю, так, что оружие далеко отлетело на мерзлую землю.
— А ты думал, доктор, что только ты сабли из рук выбивать умеешь?
И тут же крикнул своим людям:
— В доктора не стрелять! Он мой!
Прантиш отчаянно пробовал пробиться ближе, но самому приходилось тяжело, кто-то пристрелялся по драгуну так, что оставалось не высовывать головы из-за кучи дров, да ещё и Раину закрывать.
Ватман медленно подошёл к Бутриму, напряжённому, как змея перед броском.
— И что ты теперь сделаешь, фехтовальщик? Подумаешь, фокусами с саблей царицу удивил … А без сабли – чего ты стоишь? Я тебя сейчас убью, и ничего мне не будет, потому что всем ты – как кость в горле. Моей будет баба! Ну, давай, прыгай дальше!
Но доктор прыгать никуда не стал, а просто протянул руку к Ватману, держа отставленную ладонь против его сердца, и сделал едва заметное – пару вершков – толчок вперёд.
Наёмник захохотал:
— Ну ты совсем обезумел от отчаяния, доктор, надеешься меня заколдовать? Пробовали некоторые, не поддаюсь.
И махнул саблей – Лёдник едва успел отскочить, на его рукаве появился порез, из которого показались капли крови. Ватман рубанул саблей ещё раз, ещё, помогая колом, которым махал легко, как прутиком, не давая доктору подобраться к его оружию. Прантиш с ужасом наблюдал краем глаза, как профессор бросается в безнадежной попытке уйти от беспощадного клинка – любой другой уже давно лежал бы на земле, разрубленый пополам. Михалишивна попробовала подойти, помочь, и даже попала Ватману в руку, но тот будто не заметил раны, а вот Раине пришлось удирать от чернявого злыдня, вооружённого палашом.
Вот Ватман размахнулся ещё раз… И вдруг зашатался, на его лице, широком, исполосованном шрамами, появилось искреннее удивление.
— Ты… ты… как ты сумел…
Прошептал и упал лицом в грязный снег. Даже земля вздрогнула, будто упал срубленый дуб. Стрельба сразу прекратилась, кто-то из нападающих начал подбираться ближе к беловолосому великану, проверить, жив ли…
Доктор упал на колени, пробуя отдышаться, а потом подбежал к своей сабле, и… Казалось, он мог отбивать даже пули, и поскольку Ватман не шевелился, наёмники поняли, что пришло время уходить, так как весь мёд с этой тарелки слизан.
— Заканчиваем всё, как приказывал пан Ватман, и айда! – прокричал кто-то из-за ограды, и сразу же в окна дома с зелёными ставнями полетели зажжённые стрелы арбалетов… Когда из окон показались первые языки пламени, нападающие исчезли, утащив с собою раненых и неподвижного Германа. На истоптаном снегу осталась чья-то шапка, две сабли, много крови и убитый рыжий пёс.
Лёдник и Прантиш бросились в дом. Вырвич попытался тушить пламя одеялом, но напрасно.
— Соломея, Алесик, где вы? – кричал встревоженный Бутрим.
— Алесик с Хвелькой в твоей лаборатории! – крикнула сверху Соломея. – Быстрее беги за ними!
К счастью, то помещение было действительно самым безопасным – укреплённое против всяких взрывов, с решётками на окнах, и даже с тайным выходом на улицу. Освобождённый оттуда Алесик был страшно разгневан:
— Как могли меня посадить под замок! Я шляхтич! Я должен был защищать пани-мать! Я стрелять умею! Я им за Пифагора нашего…
Мальчик быстро вытер кулаком слёзы.
— А где мама?
Толстые щёки Хвельки тряслись, как студень, на лице размазались чёрные разводы пепла.
— Что же это делается, святые угоднички? Совсем пропадаем! Бедного Пифагора убили…
Хвельку с Алесем оставили на улице. Оставалось вытащить с чердака Соломею, тем более от огня там мог взорваться порох. Пробегая через лабораторию назад, Прантиш заметил только, как лицо восковой куклы Пандоры от жары чудовищно исказилось, как оплывают совершенной красоты черты лица, оголяется стеклянное яблоко глаза…
— Соломея, прыгай! Я тебя поймаю! – кричал посреди задымленной прихожей Бутрим.
Но женщина с отчаянием глядела вниз, в проём, и не трогалась с места.
— Не могу! Мне нельзя!
— Прыгай, не бойся! – Лёдник начинал нервничать.
— Нет! Не могу!
В доме делалось всё жарче, дым разъедал глаза, а во дворе наконец послышались голоса – виленчуки, соседи дорогие… Пока был брутальный наезд – сидели по домам, как мыши, никто защищать женщину и ребёнка не бросился. Мало какие разборки между панами… А вот пожар – это серьёзно. От пожара можно самим потерпеть. Снова полгорода выгорит, да ещё посреди зимы… Поэтому заскрипели колодезные коловороты, забренчали вёдра… На пожарных, как всегда, надежды было маловато, но и в колокол на каланче кто-то ударил. Вильня огнём сильно напугана.
А между тем Соломея всё ещё не решалась спрыгнуть. Прантиш заозирался вокруг.
— А где лестница?
— Вон там! – Соломея показала в сторону. – Застряла… Сил у меня не было затащить ее… А где Алесик? С ним всё хорошо? Не угорел? Вы, когда выводили, дали ему тёплую одежду? Бутрим, у тебя спрашиваю, сынок тепло одет?
Пани будто не замечала опасности для себя лично. А лестница находилась где-то посередине между входом на чердак и полом – прижало тяжёлыми створками люка в потолке, когда хозяйка спешно втаскивала ее наверх. Прантиш попробовал подпрыгнуть – никак не достать… Растерянный Лёдник оглядывался в поисках, что можно использовать как лестницу…
— Подсади! – скомандовала Вырвичу Раина. И вот, вскарабкавшись на плечи драгуна, она уже, как ящерка, подымается по стене, опираясь на выступы сруба… Вцепилась в лестницу… Повисла на ней… Лестница с грохотом упала, а Раина поднималась с пола. Прантиш, не успев её подхватить, подскочил, ощупал дрожащими руками…
— Ерунда, только колено ушибла, — легко ответила Михалишивна. – Это не с театральных конструкций на сцену грохнуться…
Лёдник быстренько взял на руки Соломею, которая медленно спускалась с перекладины на перекладину, вынес на свежий воздух… Расцеловал под серым зимним небом, в отблесках огня, который уничтожал семейное добро.
— Ты почему сробела прыгать? Я так перепугался…
Соломея с укором посмотрела в тёмные глаза мужа.
— И кто-то считает его опытным эскулапом… Я же сказала – нельзя мне сейчас прыгать!
Лёдник растерялся.
— Ты… ты ждёшь ребёнка?
— Уже три месяца. Самый опасный срок, нельзя делать резких движений…
Доктор выглядел так, будто у него не дом горел, а ангел в огороде приземлился.
— Но… как же?
— Ну, мы же были вместе там, в тюрьме… Когда я тебя лечила…
Перед домом выстроились люди с вёдрами, и даже с важным грохотом подъезжала пожарная колымага, везя баки с водой. Только хозяевам было до этого, как до колец Сатурна.
Прантиша разбирал истеричный смех:
— Ну, доктор, похоже, что детей у тебя получается делать только в тюрьме, да с ободраной спиной.
Лёдник бросил на Прантиша сердитый взгляд. А что, разве не так – с матерью Алесика у Лёдника получился роман, когда она пришла к нему в подвал, где он замерзал, избитый её мужем.
Пани Соломея перевела взгляд на Раину, чья одежда тоже была перепачкана, а местами порвана, из-за пояса торчал пистолет, через щёку тянулась царапина и полоса размазанного пепла.
— Это моя невеста, Раина Михалишивна! – церемонно представил Прантиш, и женщины искренне расцеловались.
Кто-то добросердечный выносил из дома добро, на которое полоумные хозяева, похоже, начхали. Вываливал на снег книги, посуду, какие-то вазы, кресла…
— Пани мать! Пан отец!
Хвелька подводил к хозяевам Алесика, который упрямо вырывал свою руку из руки слуги, и Соломея сразу же занялась ревизией здоровья и теплоты одежды малыша.
А Прантиш отошёл со своим счастьем, заглянул в его прозрачно-зелёные глаза. Поцеловал так мило вздёрнутый кончик носа:
— Ну что, шикарное получилось знакомство с семьёй жениха? Вот видишь – наши владения… — Прантиш обвёл рукой пейзаж с огнём. – Наезды, разбой, пепелище… Ты теперь человек вольный, может передумаешь связываться с такой опасной компанией? Тебя в любой театр возьмут… Даже в королевский.
Но Михалишивна, счастливо смеясь, только обняла Вырвича за шею и поцеловала.
— Такова уж моя судьба – танцевать на горячих углях! Никуда я от тебя не пойду! Никогда! Принц мой, рыцарь мой, сердце моё!
Хозяева молча стояли перед останками своего дома. Собственно говоря, могло быть хуже. Больше всего потерпели прихожая и зал – здесь огонь вылизал даже потолок. Что оттуда не вынесли – сгорело. От картины с Аристотелем оставалась только обугленная рама, в которой уместно смотрелась бы только мумия. Но всё было ещё залито водой, которая на морозе, выстудившем угли, превратится в лёд.
Но крыша уцелела. Почти нетронутой осталась лаборатория – только от жары окончательно испортилась Пандора, напоминающая теперь какую-то россомаху, а не правнучку аглицкой королевы, и Лёдник, вздохнув, набросил на автомат тряпку. Жар испортил многие лекарства, а уж вонь какая от дыма… Большая часть гардероба тоже накрылась, так же, как и книги, хранящиеся в зале. Зато уцелел кабинет профессора, даже карта Иерусалима, оставшаяся в наследство от аптекаря Лейбы. Лёдник с дрожанием в руках гладил стопку своих бесценных рукописей. Уцелел и чулан Прантиша, и его старый камзол, из-за подкладки которого он достал стопочку исчёрканных листков. Что ж, раз эти стихи не сгорели даже в пожаре, значит судьба им пожить подольше…
Последние клубы дыма растворялись в вечернем воздухе, угасали залитые угли… И тут выявилось, что не всем доктор – как кость в горле. К погорельцам стали подходить, один за другим предлагались места для ночлега, помощь в наведении порядка…
Но доктор, поблагодарив, от всего отказался. Есть пара нетронутых комнат, печь в них целая, проветрится – переночуем без вреда для здоровья. А утро вечера мудренее…
К счастью, пани Соломея когда-то настояла, чтобы в доме сделать надёжный тайник для ценностей. Под выгоревшим полом зала сохранился железный ящик, только нагрелся, как жесть для выпечки булок. А в ящике – немного дукатов, ещё подаренных когда-то великим гетманом, турецкая сабля-килидж в золотых ножнах, усыпанная драгоценными камнями, доставшаяся Лёднику от аглицкой леди, по чьему образу изготовили Пандоры. А ещё золотой крест с гербом “Огневец”, украшенный диамантами, который на прощание подарила Прантишу княжна Богинская, а тот отдал вместе с болезненными воспоминаниями в общую семейную копилку. Была и горстка перстней и монисто из приданого Соломеи Ренич и наследства пана Вырвича… А как же – Вырвичи хоть и лапотная шляхта, но тем от мужиков и отличаются благородные паны, что у них всегда бережно сохраняются фамильные ценности, пусть даже паны с голоду пухнут: сабли, перстни с гербами, завещания… Вот он, свёрток пожелтевшей бумаги с множеством печатей на верёвочках – подтверждение шляхетства Вырвичей… А вот и гораздо более новая бумага о нобилитации полоцкого мещанина Балтромея Лёдника, подписанная великим гетманом, а также два диплома, Пражского и Лейпцигского университетов.
А вот куда задевал свой диплом пан Вырвич, он долго вспомнить не мог… Но дуракам везёт – между печкой и стеной в угловой комнатке валялась обугленная по краям, влажная бумага – даже прочитать можно было, что Прантишу Вырвичу присваивается звание доктора свободных наук.
Что же, смерть от голода семейству, которое заметно увеличилось, не угрожало. В погребе остались вино и окорок, кое-что из еды принесли соседи…
Так и отметили обручение пана Вырвича, в качестве аnte nupitas donatio, досвадебного подарка, торжественно надевшего на палец Михалишивны фамильный перстень. Помянули и смерть Германа Ватмана, злого духа семьи Лёдников.
— А ты уверен, что убил его? – недоверчиво спросил Вырвич, помня нетрадиционный метод, использованный Лёдником. Доктор пожал плечами.
— Раньше такого делать не приходилось… Грех, конечно, желать ближнему смерти, но всё же не хотелось бы пережить ещё одну встречу с Германом.
А назавтра решили уезжать. А что было делать? Обращаться за помощью к городским властям? В суд? Золотую сурму медная не переиграет.
— Наезд делали люди виленского воеводы, — мрачно подытожил Лёдник. – И хоть Богинский, естественно, открестится от своего участия, не стоит нам оставаться в городе под его властью. Устал я… Поедем в Полоцк. Давно не жил на родине, где Святая Софийка, Двина, Полота… В доме Реничей места хватает. Составлю проект медицинской школы для Тизенгауза, возможно, из этого что-то и выйдет. Я списался с альма матер, полоцким коллегиумом, они счастливы, если я несколько лекций прочитаю. В госпитале при коллегиуме поработаю, порядок наведу. Думаю, и пан Вырвич согласится вести для школяров лекции по теории поэзии… Будешь преемником Сорбевского.
Щёки Прантиша запылали.
— Разве я смогу?
— Что я, не знаю, какие книги ты наизусть вызубрил? – мягко обьяснил Лёдник. – Всё по поэтике… А он вам, Раина, показывал свои сочинения?
Половина ночи прошло в декламировании. К удивлению Прантиша, его упражнения понравились даже Алесику. Михалишивна плакала от гордости за жениха, а Лёдник торжественно пообещал, что писания Вырвича обязательно напечатают. Пусть не сейчас, но это сделать необходимо.
Следующие дни заняли сборы в дорогу. Вырвич получил бумагу, что его прошение об отставке принято, а вот заявление Лёдника о увольнении наделало в Академии шороху.
Да, доктора давно хотели убрать, особенно когда пошли слухи, что он может стать ректором с подачи российцев. Но когда его отъезд стал реальностью, и близкой, вдруг все заволновались. Учёный с мировым именем, которого знают во всех университетах Европы… Куда он денется? Что от него ждать? И как без него? Ну и, конечно, немного неловко, что так обошлись с человеком, который дорогой ценой спас Академию от закрытия, а студентов и преподавателей от ареста, и не услышал даже “спасибо”. Но об этом особо не задумывались, потому что легче обвинить во всём жертву, чем признать свою неблагодарность к ней. “Сам виноват” – любимая формулировка в Беларуси всех времён.
Весть о том, что доктор Лёдник уезжает потому, что на его дом устроили наезд, а потом пожар, распространилась по Вильне, как эпидемия. И выяснилось, что без фанаберистого демоничного доктора Вильня теряет очень много… Посыпались письма от магнатов, в которых Лёднику предлагалось место личного доктора, большие гонорары. Сразу нашлись удобные дома, в которые доктор мог бы переехать вместе с семьёй. Даже князь Богинский прислал письмо с соболезнованиями и предложением помощи – испугался, видимо, что Лёдник пожалуется на него российской царице.
— Больше не хочу ничьей милости – ни магнатов, ни иезуитов, ни иностранных благодетелей, — заявил Лёдник. – А больные люди найдутся повсюду, больно всем одинаково, что магнату, что нищему. Поживём немного в родном городе, пусть там родится мой ребёнок… А после посмотрим. Отправиться за границу успеем.
Изувеченную Пандору доктор отдал своему коллеге, профессору Папроцкому, давно желающему заиметь её для исследований.
Небо устало прятаться за тучами и показывало сердитое синее лицо с единственным ослепляющим глазом зимнего солнца. Снег скрипел под ногами, будто под подошвами раздавливались живые существа. Виленцы молча наблюдали, как из своего обгорелого дома и их славного города отъезжает доктор Балтромей Лёдник. Две наёмные скромные повозки, и всё.
Толпа всё прибывала, люди перешёптывались, показывали пальцами на странные устройства, загружаемые в последнюю повозку, на двух красивых женщин, старшую и младшую, не выглядевших ни опечаленными, ни разочарованными, которые нарочно ходили по стоптанному снегу, как по паркету на светском балу. Бывшие пациенты Лёдника, да и женщины, которым помогла пани Соломея, искренне плакали и молились за добрых лекарей… Аптекарь Гендель, хоть иногда и воспринимал профессора как конкурента, но за остроумными профессиональными беседами провел с ним не один вечер, принёс целый ящик редких ингредиентов, а для младшего Лёдника – узелок со вкусным, ещё тёплым печеньем от пани аптекаревой. Пришёл тюремщик, который спасал Лёдника в узилище, принёс вышитый женой рушник с васильками… Столяр, которому полоцкий Фауст сложил когда-то поломанную в нескольких местах руку, подарил красивый резной сундучок… Бабушка в старом тулупчике, ей Лёдник бесплатно лечил заболевание сердца, смогла пожертвовать только вязаную льняную салфетку…
И это было дороже мешков с дукатами, которые могли подарить магнаты.
Прантиш оглянулся на дом с когда-то зелёными, а сейчас почерневшими ставнями… А вот во дворе, под старым тополем, могила верного Пифагора, обозначенная камнем…
— Мы ничего не потеряли, парень! – услышал он голос Лёдника.
И правда… Бывший драгун обнял любимую женщину, посмотрел на Лёдников… Алесику уже пообещали младшего брата.
И правда, ничего не потеряно!
Вдруг заявилась делегация из Академии. С почётным письмом, в котором ректорат выказывал благодарность за годы плодотворной работы и надежду на дальнейшее продолжение сотрудничества.
Но бывший профессор на латыни чётко посоветовал делегатам, как использовать это письмо более практично. Депутация от студентов была встречена более благосклонно, но расчувствоваться доктор всё равно не стал. Просто пообещал ученикам, которых готовил к медицинской карьере, что их не бросит, даст рекомендации, а также советы… Не исключено, что в Вильне наконец появится медицинский факультет или институт… Закончатся же когда-нибудь мрачные времена. Хоть ненадолго.
Колокола рассыпали над городом торжественное серебро, прибавившееся к серебру снега и инея, и казалось, что вокруг всё застелено переливающейся вуалью…
Прантиш представлял, какой красивой будет Раина в свадебной вуали. Когда-то он думал, что его свадьба отшумит во дворце, и шляхта целый месяц будет есть жареных волов и лебедей, и в честь молодых небо сотрясут пушки…
Но что с той глупой магнатской роскоши, правда? И, конечно, неважно, что потом, узнав о молодой Вырвичевой как о бывшей крепостной, да ещё актёрке-шарлатанке, навряд ли их с Раиной пригласят на бал какие-нибудь блюстители сарматских добродетелей… Возможно, когда пойдут слухи, на ком Вырвич женился, придётся вытерпеть презрительные взгляды и злые перешёптывания.
Ничего, он справится! Вызовет нахалов на дуэль… Одного за другим… Хоть весь уезд! Заткнутся!
Раина будто чувствовала, о чём думает жених, и в такие минуты умолкала, словно мельчала, и смотрела такими виноватыми, такими влюблёнными глазами, что Прантишу даже делалось неловко. Нельзя, чтобы женщина так смотрела на мужчину. Даже на будущего мужа.
Ничего, время всё исправит. Вон Пётр Первый женился на обычной прислуге, стиравшей солдатам подштаники… А Раина бывала при королевских дворах! Она в модном платье сама – как королева!
Лёдник решил, что Прантиш и Раина должны обвенчаться в той же маленькой церквушке по дороге в Полоцк, в которой когда-то венчались и они с Соломеей. Тогда над Лёдником держал венец Прантиш, а над Соломеей – Ганулька Маковецкая. Воспоминание о Ганульке резало виной… И в Городне сразу же, по требованию Лёдника они сходили к пани Гортензии… Та не сильно опечалилась, что её приёмная дочь не свяжет судьбу с шалопутным драгуном, но за снова раненое сердце девушки – разгневалась. Правда, видимо, до осени Ганулька вступит в брак с соседом Ладиславом, и дай Бог ей всего хорошего… Что делать – наверное, нельзя быть счастливым так, чтобы это хоть немного кому-то не попортило жизнь.
Если честно, Вырвич предполагал сразу же после отъезда из Вильни бежать под венец. Но Раина упросила подождать. Прантиш догадывался, почему: ей хотелось хоть притвориться, что всё – как у людей… Обручение, положение невесты, до свадьбы – разные комнаты с женихом, целомудренные поцелуи… И он готов был снова и снова доказывать, что уважает, что ни к чему не принудит…
И хоть не было кому благословлять молодых, но свозил Вырвич невесту в родное Подневодье. Раина не испугалась бедности хаты – о том, что это шляхетская усадьба, свидетельствовало только крыльцо с двумя деревянными колоннами, потрескавшимися, как постные галёпы на Сретенье. Из мебели – стол и мощные деревянные скамьи, служившие также кроватями, а потолок чёрный и весь в следах от пуль – старший Вырвич таким образом любил будить своего наследника, чтобы не вырос изнеженным. Жильё выстуженное, неуютное… Но Михалишивна готова была придти хозяйкой в родную хату любимого, и пропела в новых декорациях весёлую арию из “пейзанской оперы”.
Но Вырвич всё более хмурился, осматривая дедовское хозяйство. Сколько здесь жило поколений предков, беднея всё больше … И каждый мечтал вернуть роду величие. Чтобы взглянуть на спесивых соседей свысока, да чтобы те соседи приезжали целовать в ручку, и чтобы даже самый нахальный забыл, как обнищавшие Вырвичи возили на поле навоз, воткнув саблю в вонючую кучу на телеге, дабы не было урона шляхетскому достоинству. А Прантиш – последний из рода…
И даже думать не хотелось, благословил ли бы их брак старший Вырвич.
— Ничего, Раина, — с немного наигранным весельем промолвил драгун. – Накопим денег, можно будет прикупить в Подневодье земли, построить хороший дом да и осесть на родине – не оставаться же нам у Лёдников. Вырвичи от Полемона род ведут, мы королям не кланялись, не к лицу нам…
И оборвал сам себя – не стоит напоминать бедной девушке об их неравенстве.
Вдруг Раина схватила его руку, прижала к почему-то холодным губам:
— Сердце моё… Жизнь моя… Я… понимаю… Поверь, я сделаю всё ради твоего счастья и твоей чести!
Прантиш с благодарностью улыбнулся:
— Конечно, мы будем счастливы…
Но холодным утром накануне свадьбы – не предполагалось никаких гостей, платье одолжила Соломея, скромные блюда приготовили вместе – к Прантишу пришёл очень серьёзный Лёдник. Стал, опустив глаза. Что ещё за докука произошла?
— Ты только не бросайся кусты ломать, парень. Боюсь, что снова мне не удастся твою семейную судьбу наладить.
Прантиш недоуменно смотрел на доктора, который будто принуждал себя объявить смертельный диагноз.
— Раины нет. Соломея зашла к ней в комнату – толко записка на столе.
Драгун вертел в руках листок бумаги с аккуратными буквами, будто мерцающими и не желающими складываться в созвездия слов.
”Я никогда не прощу себе, дорогой пан Вырвич, если из-за меня вы не сможете занять то положение, которого достойны. Вы должны найти целомудренную благородную девушку, которая прибавит блеска вашему роду. Я бы всё отдала, чтобы такой быть. Но я безродная холопка, которую хозяева подкладывали в постель к гостям, научившаяся прикидываться и безупречно лгать. Я никогда не решусь рассказать вам, через что прошла. И никогда не буду достойна вас, пан Прантиш. Знаю, что своим побегом сделаю вам больно – но накажу себя за это очень жестоко, поверьте. Единственное оправдание – буду вашим невидимым ангелом-хранителем, чтобы отводить от вас наименьшую беду… Я никогда не стану препятствием вашему счастью и чести.
Только не проклинайте меня.
Серафина”.
Снова это лживое, рабское имя! Неужто она вернётся к извергу Батисте? Таким образом решила себя покарать?
— Ты знал, что она собирается сделать? – Прантиш поднял на своего бывшего слугу потемневшие глаза.
Лёдник помолчал, вздохнул.
— Нет, не знал. Но… догадывался о таком варианте событий.
— Почему же не предупредил? Не предотвратил? – Вырвич схватил доктора за грудки, встряхнул – ему было необходимо выплеснуть на кого-то свои боль и гнев. Бутрим не сделал попытки вырваться.
— Что здесь можно было сделать…
Это прозвучало неожиданно растерянно, почти беспомощно, и Прантиш понял, что ещё одна часть его жизни закончилась. Невозвратно. И так, как было, уже никогда не будет.
И того, что ясно виднелось впереди – никогда не случится.
Но нужно было жить дальше.
…А когда снова зашумели купальские травы, и русалки закачались на берёзовых ветках, и кувшинки целовались со своими отражениями в лесных озёрах, маленькая Софья Балтромеева Лёдничанка открыла в полоцкое небо тёмные глаза, унаследованные от отца.
— Следующим летом, когда подрастёт Софийка, приедешь ко мне в Лион, — уговаривал доктор жену. – А там через пару лет снова вернёмся в Беларусь, уже в свою медицинскую школу. И тебе дело найдётся, необходимо основать отделение для подготовки повитух. Кто лучше тебя справится? В Лионе такие есть, вот и посмотришь, как работают, чтобы потом здесь опыт употребить…
В саду у дома, когда-то принадлежавшего книгарю Реничу, а сейчас его дочери и её мужу, полоцкому доктору и преподавателю местного колледжа Лёднику, в беседке, овитой плющом и вьюнками с крупными блекло-лиловыми фонариками, был накрыт стол. Зумкали пчёлы, точно зная, которая в какой улей понесёт свой мёд, хотя цветы брали сладость из одной земли…
Прантиш сидел в беседке за столом и с лёгкой грустью посматривал на крестницу – Софийку: бередила мысль – и сам мог бы вскоре стать отцом.
О Раине и несостоявшейся свадьбе в доме полоцкого доктора старались не говорить. Тем более Лёднику и Вырвичу следовало через несколько месяцев отправляться в длительное путешествие. Лёдник, чтобы присутствовать при рождении ребёнка и хотя бы немного побыть с ним, и так отложил отъезд до Рождества.
Алесика, несмотря на протесты и слёзы жены, доктор забирал с собой – пусть отрок посмотрит мир, поизучает языки, взрослый уже. Семь лет. Его отца в таком возрасте заставляли работать на кожевне и лупили за то, что не переносил вони свежих шкур.
Не сказать, чтобы доктор был очень счастлив покинуть Соломею с маленькой дочкой, но отказываться тоже было не резон. Для создания в Городне медицинской школы, с перспективой учинить потом в Вильне медико-хирургический университет, доктору, который был здесь двигателем идей и автором проекта, надлежало поехать в Лионский университет к профессору Жану Жилиберу. Посмотреть, как там налажено обучение, как работает госпиталь. Пан Антоний Тизенгауз старался всех своих людей, занятых в реформах, посылать на стажировку за рубеж, чтобы привозили оттуда новые знания и специалистов. А Лион считался центром медицинской науки, и доктора Лёдника были рады заполучить туда хотя бы на несколько лет. Ожидались эксперименты, диспуты, лекции и новые спасённые жизни. Попросился ехать с доктором и племянник дядьки Лейбы, толковый парень, очень интересующийся лекарственными травами, который собирался, получив образование, продолжить дело полоцкого аптекаря. Так что во Франции одиноко не будет.
Пан Рысь, приехавший на крестины, поставил на белоснежную скатерть чашку кофе, подкрутил такие же чёрные торчащие усы.
— Жаль, что ты уезжаешь, Бутрим. Твоё боевое мастерство нам сейчас ой как пригодится! Слышал, Пане Коханку вернулся? Встречать его вся шляхта вышла! В шеренгах целые сутки стояли – чтобы увидать нашего спасителя! Он будет маршалком на сойме и добьётся, чтобы нам вернули наше право либерум вето! Виват!
— Пан Рысь, это же произойдёт по сговору с Россией… — с укором сказала Соломея. – Российцы в наших реформах не заинтересованы, и пообещали князю Радзивиллу вернуть конфискованные имения, если он проведёт сойм, на котором все реформы будут упразднены.
Пан Рысь раздул ноздри.
–Если бы не женщина, на дуэль вызвал бы!
Соломея смело улыбнулась.
— И не обязательно победили бы! На пистолетах пан со мной не сладит!
Альбанец фыркнул, злость его немного поутихла.
— Ну чисто моя Магдуля! Жаль, что она приехать не смогла. Снова приболела… Не забудьте, доктор, лекарств для неё наготовить с запасом… Нет, наш вождь не предатель! Мы ещё покажем эти конфедератам! Свою конфедерацию создадим! А может вы, пан Прантиш, присоединитесь к нашей партии?
Вырвич задумчиво смотрел голубыми глазами в голубое полоцкое небо.
— Не хочу скрещивать сабли со своими же литвинами. Хватило с нас интриг да наездов… Поеду с Бутримом в Лион, только уже не лектором, а возвращусь в студенческий статус. Французская поэтика тоже стоит внимательного изучения. Ещё один диплом не повредит. Пан Антоний Тизенгауз хочет в Городне театр открыть, ему нужен драматург…
— Перестаньте упоминать этого негодяя Тизенгауза, кошелёк Телка! – разгневался пан Рысь. – Когда вы вернётесь, на троне, может быть, будет уже другой король!
— Всё может быть… — согласился Прантиш. – Главное, чтобы Беларусь была.
— А куда она денется? – улыбнулся Лёдник. – Даже если её начнут по-новому называть, останутся её леса и болота, подорожник и репейник, и уж, точно, никак не изменится белорусский характер, который вынуждает нас сидеть на гвозде и говорить, что, возможно, так и нужно.
— Зато, если дожать нас до определённой черты, мы такой отпор даём, что летят наглецы с нашей земли, как брызги с раскалённой жести! – воинственно заявил пан Рысь. – Мои прадеды дрались на Синих Водах, под Оршей, под Хотином! Литвинская сабля не затупится, панство!
И тут заплакала маленькая Софийка, её личико смешно сморщилось, беззубый ротик требовательно открылся…
Тут же подбежал Алесь, который увлечённо ловил в кустах насекомых и сажал их в банки. Научные склонности панича проявлялись, как и боевитый характер.
— Кто обидел мою панну-сестричку?
Соломея заверила, что всё хорошо, и пошла в родительский дом, кормить младенца. Лёдник тяжело вздохнул и опустил черноволосую голову, поблескивающую кое-где серебряными нитями.
— Никак не могу простить себе, что уезжаю.
— Я тоже уезжаю к Пане Коханку, покидая дома жену и маленького ребёнка, — пожал плечами пан Рысь. – И не знаю, вернусь ли. Таков наш путь. Каждый должен делать то, что ему должно, не ожидая за это благодарности.
— Что же, тогда будем делать, что должно. Ну и… иногда то, что приносит чистое удовольствие…
И Лёдник достал из-под стола непочатую бутылку с синим ликёром, настоенном на кровавнике, и пан Рысь обрадовался, как радуется писец, выводя последнюю букву книги.
— Ну, за то, чтобы все литвины наконец возвратились домой. Будем жить мы, будет жить Беларусь!
2012
Перевод Павла Ляхновича.