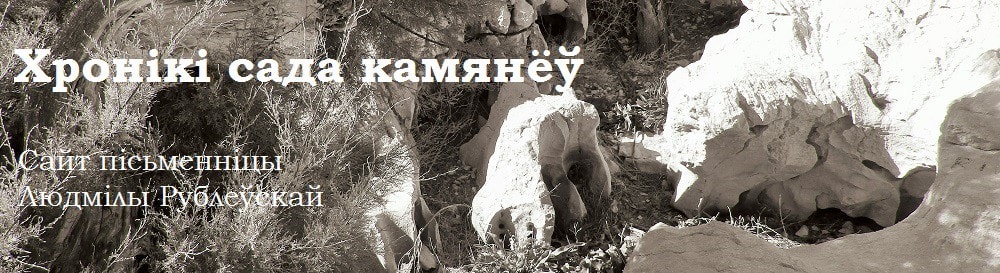Людмила Рублевская
Рифма ценою в жизнь
Эссе по истории белорусcкой литературы

История белорусской литературы – это карта почти сплошь из белых пятен… Карта архипелага незаслуженно забытых имен и сломанных судеб. Но это и история подвигов и самопожертвования, ярких талантов и ярких поступков. В самые тяжелые времена—и тогда, когда белорусская литература считалась несуществующей, и тогда, когда за идеологически неправильное стихотворение можно было поплатиться жизнью, находились те, кто рисковал, отдавая талант своему народу, не рассчитывая на признание и славу.
Это история полноценной, развитой европейской литературы, в которой хватает своих мифов и легенд. Ведь народ не может не иметь своих талантов, а литература – это его голос, его совесть. И не знать ее стыдно…
Конечно, есть школьная программа… Но выученный к экзамену билет или созерцание бронзового памятника не заставят полюбить поэта, не пробудят в душе горячее сочуствие к его судьбе и гордость за свою культуру… Нужен живой и увлекательный рассказ о тех, кто создавал нашу литературу, в том числе и о тех, кто не входит в школьную программу. Кто, может быть, просто подарил нам красивую легенду, как Леся Украинка и Сергей Мержинский. Кто исследовал духовное наследие белорусского народа, как Каэтан Коссович, Сержпутовский и Доленго-Ходаковский. Мы не так богаты, чтобы отказываться от рожденных на нашей земле легенд и талантов! Стоит упомянуть о большой проблеме нашей литературы – это когда литератор в силу обстоятельств писал не на белорусском языке… Сколько таких талантов мы отдаем соседям, не задумываясь, что также имеем на них право!
Так и была задумана рубрика «Игра в классики»… Если благодаря этим эссе кто-то откроет для себя новое имя, взглянет по- другому на общеизвестные факты, захочет прочитать белорусскую книжку—я буду считать, что моя работа делалась не зря.
Рыцарь, поэт… И чуть–чуть Нестор
Андрей Рымша (ок.1550—после 1595)
О нем написаны тома диссертаций и монографий в Польше, России, в Украине, Белоруссии. Группа «Стары Ольса» поет песни на его стихи. У нас выпущен конверт с его изображением. Но даже возле дат рождения и смерти — вопросительные знаки. И вообще, спросите любого: кто такой Андрей Рымша? В лучшем случае вспомнят персонаж белорусских сказок, благородного дерзкого разбойника Рымшу, безжалостно истреблявшего злобных панов.
Такова судьба многих ярких личностей белорусской истории. Так уж мы живем — меж белых пятен прошлого.
А между тем фигура — самая романтическая. Рыцарь и поэт, просветитель, философ, воин. Андрей Рымша, подаривший нам еще одно доказательство того, что в XVI веке на белорусском языке слагалась поэзия, и язык этот был полноценным, уважаемым. Вот как звучат строки панегирика (восхваления) на герб Льва Сапеги (ударения отличаются от современных, и некоторые особенности белорусского произношения не передаются буквами, хотя, как доказали татарские рукописи–китабы, произношение это было такое же, как в современном белорусском языке):
Вер ми, гербов не дають въ дому седящому,
Але зъ татарами въ полю часто гулящюму.
Не зъ голою рукою, зъ шаблею острою,
Завжды будучы готов до смертного бою.
Эпоха не предполагала уважения только за то, что ты имеешь славный герб или достиг вершин в науке. Европу раздирали войны, Беларусь, как водится, была на перекрестье сражений, и шляхтича, не умевшего сражаться, презирали.
Поэтому и князья, и поэты были воинами. Андрей Рымша, кстати, сам подчеркивал в своих произведениях, что он более воин, чем поэт. Впрочем, Микола Гусовский, автор «Поэмы о зубре», тоже не преминул сообщить читателю, что его рука более привычна иметь дело с копьем, нежели с пером.
«Продаваться — не продаваться» — нравственной борьбой на эту тему поэты XVI века вряд ли заморачивались. Во–первых, это была эпоха, когда артистов в Великом княжестве Литовском называли «глумцами» и сам по себе творческий человек значил не больше, чем любой ремесленник. Верным способом прославиться — и единственной достойной поэта из благородного сословия темой — было воспевание военных подвигов властителей. Именно этим занимался и Андрей Рымша. Он родился около 1550 года в деревне Пенчин под Новогрудком и был настоящим шляхтичем, с гербом «Повкозич». Известно, что с 1572 года судьба Рымши связана с двором князя Криштофа Радзивилла, гетмана литовского по прозвищу Перун. Несложно подсчитать, что было поэту в то время чуть больше двадцати.
Радзивиллы — некоронованные короли Великого княжества Литовского. Впрочем, прозвище свое Перун получил уже после Ливонской войны, в которой участвовал в качестве воина и поэт Андрей Рымша, прославивший своего опекуна знаменитой поэмой на польском языке «Десятилетняя повесть военных дел князя Криштофа Радзивилла». Все эти 10 лет поэт был на полях многочисленных сражений, на которые был богат тот бурный век. Поэма написана в виде дневника сложным, торжественным размером. Главный герой обрисован весьма живо. Вот, например, эпизод возвращения гетмана в лагерь (в переводе на белорусский язык):
Пан прыехаў — трасецца, як пячкур у меху,
Што казацi — было тут пану не да смеху:
Затушыў дождж кастрышчы, дровы не прасохлi,
Ляжа ў адзеннi, да касцей прамоклы.
Назаўтра жа толькi, як агонь займелi,
Накармiлi Крыштофа ды цяплом сагрэлi.
Не только ура–патриотизм, но и вникание в мрачные детали тяжелого солдатского быта, и ирония придавали поэме прелесть. Красочно удалось автору пространное описание перехода через некое Медвежье болото:
Не пазнаць было, хто там гетман, хто паняты:
У гразi ўсе таўклiся, быццам парасяты.
Можно представить, с каким чувством это читалось людьми, подобное пережившими. Впрочем, тут же переход через Медвежье болото сравнивается с переходом Ганнибала через Альпы.
Нужно сказать, что не один Рымша был такой умный, чтобы разрабатывать благодатную тему. Появились другие произведения, среди которых наибольшей популярностью пользовалась поэма Ф.Градовского на латыни. Рымша же писал на польском, аргументируя это тем, что пишет «…па простацi сваёй, для ўсiх людзей; найбольш для тых, хто лепш навучаныя складваць сiлагiзмы шабляю, аргументаваць дзiдаю, канфiрмаваць кайданам, чым дыспутаваць на лацiне…»
Отличался ли Рымша от своих шляхтичей–ровесников, любителей буйных пиров и дуэлей, слагающих силлогизмы саблями? Есть сведения, что Рымша учился в Острожской школе на Волыни. А это было довольно серьезное учреждение эпохи. В Остроге действовала академия, где преподавали лучшие ученые и философы. Некоторые исследователи считают, что Рымша впоследствии сам преподавал в этой академии. Во всяком случае, образованность сквозит в каждой его строке. Он цитирует античных поэтов. Населяет мифологическими божествами окрестности Московии, где происходили военные действия, сравнивает деяния своего гетмана с деяниями античных полководцев.
Нет сомнения, что Криштоф Радзивилл покровительствовал Рымше. Тому, кроме спонсирования книг, есть и иные факты. С 1582 по 1599 год поэт исполняет обязанности подстаросты в родовом имении Радзивиллов в Литве. А после 1599 года его следы теряются… Вспомним, что происходило с покровителем Рымши в это время: он готовился к войне — на этот раз внутренней, с бывшим другом Иеронимом Ходкевичем. Возник спор за наследство подопечной Ходкевича, самой богатой невесты княжества Софьи Алелькович, которая была просватана за сына Перуна Януша. К виленским владениям Ходкевичей стягивались все верные Радзивиллу силы. Принимал ли участие Рымша в этой усобице — мы не знаем, но это вполне вероятно.
В Острожской типографии Ивана Федорова в 1581 году, то есть в конце войны, Рымша издал календарь — «Которого ўся месяца што за старых веков дело короткое описание», известный под названием «Хронология». Это был стихотворный рассказ о названиях месяцев, и написан он был на старобелорусском языке. «Хронология» считается первым печатным календарем в Украине. Исследователи отмечают в его текстах народную поэтику, разговорные слова.
Что ж, в свое время Рымша был действительно видным поэтом. Другие литераторы того времени — придворный поэт Радзивиллов Соломон Рысинский, Я.Казакович, Я.Радван — относились к нему с большим пиететом. Я.Казакович и Я.Радван посвятили Рымше стихотворение, в котором воспевали его как великого поэта и чуть ли не своего наставника. Во всяком случае, слава Рымши позволила возникнуть одной необыкновенной версии.
Кто не слышал названия «Повесть временных лет»? Там есть и история о гордой Рогнеде, полоцкой княгине, и о битве на Немиге. «Повесть» — это часть Радзивилловской летописи, летописного свода начала XIII века, по содержанию близкого Лаврентьевской летописи. Радзивилловская летопись хранилась, сами понимаете, в чьей семье, последний ее обладатель, Богуслав Радзивилл, завещал ее Кенигсбергской библиотеке, откуда рукописная драгоценность попала в Россию.
О том, что Радзивилловская летопись фальсифицирована, если не полностью, то частично, говорили еще в XIX веке, но легендарный Нестор, которому приписывалось авторство «Повести временных лет», считался в России фигурой сакральной и царским указом критиковать его запрещалось.
Сегодня опять раздаются голоса о возможной подделке. И среди кандидатов в фальсификаторы — наш Андрей Рымша, хотя авторы версии признают, что прямых доказательств этому нет. В подтверждение приводят и то, что он — автор летописной «Десятилетней повести», то есть мог осилить столь серьезный труд. Что его стихом на герб пана Евстафия Воловича начинается сборник произведений известных православных богословов, изданный в Вильне в 1585 году, то есть Рымша обладал богословскими знаниями и «славянской ориентацией». И наконец, Андрей Рымша был арианином, а автор Радзивилловской летописи в статье за 988 год из фразы «прокляша Ария безумного» выкинул слово «безумного».
То, что Рымша был приверженцем «арианской ереси», удивлять нас не должно. В ту бурную эпоху наряду с кострами инквизиции встречалось и вавилонское смешение верований. Те же Радзивиллы были и католиками, и протестантами, женились на православных, оставляя им право хранить свою веру (пример Софии Слуцкой). Криштоф Радзивилл был кальвинист. Строил в своих владениях кальвинистские храмы. И кстати, являлся сторонником независимости Великого княжества Литовского от Польши. Мог ли он (или его сын) сделать Рымше заказ на написание (или переработку) летописи в нужном для себя направлении? Может быть, ученые со временем это узнают. А может, и нет — увы, в противоположность известной литературной цитате рукописи горят. Неизвестно, где находятся некоторые произведения Рымши, написанные на старобелорусском языке. Где дневник, который он вел много лет. И вообще, список его произведений достаточно примерный.
«Подавайте ж потомком, што маете з предков», — призывал Андрей Рымша в одной из своих эпиграмм. Жаль, что мы во многом утратили ощущение себя как звена в цепи своего рода, в истории своей страны.
Но вместе с каждым возвращенным именем славных предшественников это ощущение возвращается. Запомним же и рыцаря–поэта из–под Новогрудка.
Мельпомена и ее семья
Уршуля Радзивилл (1705-1753)
Собственно говоря, даже современники, преклонявшиеся перед ней, вряд ли в душе называли ее прекрасной дамой. Да и на портретах видно: как ни льстили художники, эта женщина не была красавицей… Тем не менее именно ее называли белорусской Мельпоменой и музой Несвижа, нашего Версаля, резиденции магнатов Радзивиллов. Ее звали Франтишка Уршуля Радзивилл.
Всмотримся в ее обличье. Может, особой красоты и нет. Особенно на поздних портретах, на которых формы Уршули явно не вмещаются в каноны красоты. Зато интеллект на лице очевиден даже с расстояния в века. Высокий лоб, умный пристальный взгляд…
По меркам XVIII века замуж Уршуля вышла поздно — в двадцать лет. Хотя и принадлежала к известному роду Вишневецких, была дочерью краковского воеводы. Зато ее мужем стал красавец-рыцарь Михаил Казимир Радзивилл, в будущем — знаменитый великий гетман, военачальник, государственный деятель…
То, что Уршуля влюбилась с первого взгляда, она сама подчеркивала не раз. Да и Михаил Казимир так описывал свое сватовство:
«Уваходзiм, князёўна ў нагах свайго ложку кленчыць i молiцца. Усхамянулася, слiчная як Дыяна; я, з ёю мовячы, узяў у яе кнiжку французскую, i, адкрыўшы, прачытаў: «Скончы што пачаў, я табе дапамагу»; зараз жа паказаў той тэкст князёўне i запытаў: «Азалi, вашамосць дабрадзейка, дазволiш адпаведна таго тэксту паступiць?» Адказала: «На волi Вашай Княжай Мосцi». Я руку ёй пацалаваў i ад таго моманту кахаць страшна пачаў, i розныя дыскурсы мелi мы прамiж сабою. Пайшлi мы на абед, я не дужа еў, насычаў сябе толькi мiлай асобаю князёўны».
Перед вами типичный образчик мемуарной литературы той эпохи. XVIII век — век авантюристов. Куртуазность, «эпикуреизм и феминизм»… Веера, шпаги, парики, маскарады… В моде особый вид женственности — барочного образца. Девушка должна быть блондинкой с черными глазами, с невероятно тонкой талией, с алебастровой кожей и при этом карминовым румянцем. В моде — флирты и страстные романы с обязательными стихотворными элегиями и дуэлями. И еще — кровавые войны, передел карты Европы, придворные интриги и дикое социальное неравенство.
Михаил Казимир Радзивилл в этот мир вписывался как нельзя лучше. Ведь даже его прозвище — Рыбонька — имело «куртуазное» происхождение, поскольку именно так он любил обращаться ко всем, особенно к женщинам. Рыбонька объездил Европу, участвовал в коронации Людовика XV, дружил и с самим Людовиком, и с португальским королевичем Эммануэлем, был завсегдатаем балов и охот, щеголем и известным дуэлянтом… Даже не располагая фактами, можно было бы утверждать, что женским вниманием обделен не был.
А Уршуля… Уршуля была умной и талантливой. Есть такой патриархальный рецепт: чтобы привязать к себе неверного любимого, нужно, чтобы возле тебя он находил то, что не найдет у другой… Кто берет красотой, кто — умением печь пироги. Уршуля сочиняла стихи. Мужу она писала каждый день, буквально засыпала его письмами. Тем более отлучался из дому он частенько. Вот одно из ее писем в переводе Натальи Русецкой:
«Толькi ты з’ехаў, пiсалася лёгка.
З часам цяжэйшым зрабiлася пёрка.
Сёння я ледзьве руку падымаю,
Ды не пiсаць не магу, бо кахаю.
Час, як сапраўдны працiўнiк кахання,
Вечнасцю робiць гадзiну расстання.
Скажуць хай слёзы на змучаным воку,
Як жыве служка ад пана далёка.
Хай бы вачэй дзве салёных крынiцы
Сталiся рэчкай пад вербаю нiцай.
Я б i сама па рацэ той паплыла,
Каб даказаць, што любоў не астыла».
И сегодня, согласитесь, получив такое письмо, даже малосентиментальный «объект» способен растрогаться… А в ту жестокую эпоху сентиментальность ценилась высоко.
Борьбу за внимание мужа Уршуля вела всю свою замужнюю жизнь. Возможно, у кого–то, почитав ее стихотворные послания, сложится впечатление, что с супругом ей вообще приходилось бывать нечасто. Хотя Рыбонька и отлучался из Несвижа от умной жены, тем не менее Уршуля Радзивилл за свою жизнь беременела 34 (!) раза. Мы знаем об этом, потому что каждую женину беременность Михаил тщательно протоколировал в дневнике.
Детей же родилось всего четверо… Двое сыновей–первенцев умерло. Когда родилась дочь, Уршуля сама оказалась при смерти. Поэтому написала для дочери, которая могла остаться сиротой, завещание в стихах, этакое своеобразное наставление «як яна паводзiць сябе павiнна ў далейшым бегу жыцця свайго, калi я сама не змагу даць ёй павучаннi».
Единственный выживший из сыновей, Кароль Станислав, изведал на себе все прелести «свободного воспитания».
Можно представить, как носились с единственным наследником всемогущего магната и «несвижской Мельпомены» (его сестра Теофилия, разумеется, имела куда меньшее значение для родителей). Собственно говоря, неудивительно, что ребенок рос болезненным. Говорят, даже король, когда гостил в Несвиже, был неприятно удивлен тем, как баловали малыша и что мать называла своего отпрыска «король».
Из опасения за здоровье драгоценного ребенка, перенесшего оспу, врачи запретили нагружать его учебой (о, мечта каждого школяра!). В результате в 15 лет недоросль был практически неграмотным, и только остроумная придумка одного из воспитателей помогла обучить его кое–как грамоте. Поскольку стрелять юноша любил (самое шляхетское развлечение), то перед ним ставили мишени с изображением букв.
Было и еще одно действенное средство для воспитания, причем обоих капризных мужчин Уршули: мужа и сына. Театр. Именно Несвижский театр, основанный Уршулей, навсегда вошел в историю отечественной культуры.
Вначале там давались спектакли гастролеров… Потом модные переводные вещи Мольера, Вольтера. Но самое главное началось, когда там начали ставиться пьесы основательницы. Иногда она играла в них сама. Премьеру первой своей пьесы «Остроумная любовь» Уршуля приурочила ко дню рождения мужа.
Фактически «зеленый» театр «Консоляция», который находился в Несвиже за замковым рвом, где на пригорке со зрительскими местами могла разместиться тысяча человек, стал первым стационарным театром Беларуси.
Героини пьес Уршули Радзивилл, умные и изобретательные женщины, изменяли к лучшему своих несовершенных и неверных возлюбленных. Последним внушалось, что нужно хранить супружескую верность, ценить внутренние качества, а не внешние своих избранниц. Любить за таланты, а не за красивое лицо.
А вот образчик пьесы, призванной воздействовать на разбалованного Кароля, под названием «Любовь — идеальная мастерица». Младший сын философа Демокрита (действие происходит, как это было модно, в Древней Греции) не любит науки. Разгневанный отец отсылает неуча в деревню в качестве пастуха. Ну и ладно… Юному минималисту и это «по барабану». Но он встречает прекрасную умную девушку, в которую влюбляется. А та поднимает на смех неуклюжего невежу… Как вы догадываетесь, юноша тут же начинает интенсивно учиться и завоевывает любовь красавицы.
Любопытно сравнить плоды воспитания Кароля и его сестры Теофилии. Знаете, как госпожа драматургесса женила своего обожаемого сына? После всех своих пьес о романтической любви, о том, что спутника или спутницу жизни выбирать надо не по богатству, а по духовным достоинствам и зову сердца?
Во–первых, невесту сыну она подобрала сама. Кароль не хотел на ней жениться. Говорят, что был влюблен в девушку низкого происхождения, чуть ли не крепостную. А поскольку привык делать только то, что хочется, то опасения родителей понять можно. И вот однажды мать попросила Кароля одеться к субботней мессе понаряднее. Тот покапризничал, но согласился. И когда ничего не подозревающий юноша пришел на службу, оказалось, что он попал на собственную свадьбу.
Брак, кстати, оказался не только не романтическим, но и неудачным.
А дочь Уршули, которая самозабвенно играла главные роли в пьесах матери, попыталась осуществить их сюжеты в жизни. В 1764 году ее брат, Кароль Станислав Радзивилл, ставший главой семьи после смерти родителей, получивший прозвище Пане Каханку и славу белорусского Мюнхгаузена и самодура, командовал войском, которое дало бой под Слонимом. Присутствовала, а похоже, и принимала участие в битве и Теофилия. Особым мужеством в бою отличился бедный корнет Игнацы Моравский. Романтически настроенная Теофилия влюбилась в него и через восемь дней согласилась стать его женой.
Вначале бросалась в ноги к брату, прося дать согласие на брак. Тот был категорически против. Тогда влюбленные уехали во Львов. Кароль шлет сестре витиеватые письма с упреками, что «гэты нешчаслiвы момант заблытаў неабдумана пачуццi панi. Апаганiў каштоўныя скарбы майго дома, прынёс такiм подлым спалучэннем вечную ганьбу i пляму, якую нiколi не сцерцi; кожны ўспамiн пра яе выцiскае мне з вачэй слёзы i суровай крыўдай сэрца з грудзей вырывае».
Теофилия же напоминает братцу, как он сам пошел однажды за чувством и страстью, собравшись в Несвиже венчаться с придворной дамой.
В общем, великий гетман Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька вряд ли был бы доволен, узнав, что спустя два с половиной века о его наследнике напишут «дэспат i п’янiца, распуснiк i авантурыст, фантаст i дзiвак».
Франтишка Уршуля Радзивилл умерла, не дожив до пятидесяти. Ее творческое наследие постепенно доходит до нас, переводится на белорусский язык. Ее называют первой белорусской феминисткой, первой белорусской женщиной–драматургом…
А для меня она навсегда останется поэтессой, которая, умирая, диктовала:
«Я за каханых сваiх без вагання
Дзён рэшткi здам у заклад аж дазвання».
Роза в меду
Ганна Тюндевицкая (нач.XIX-конец XIX в.)
Мы позорно мало знаем об обычаях своих предков, об их так называемой культуре быта. И только теперь начинаем привыкать к тому, что в нашей истории были не только лапти и курные мужицкие хаты, но и прекрасные дамы, отважные рыцари и мудрые философы. Поэтому так драгоценны все свидетельства о том, как жили на нашей земле… И как часто мы не распознаем, что это—именно о нас!
Вот—пожалуйста, пример: полтора века назад в Вильно увидела свет книга «Литовская хозяйка, или Наука о содержании в хорошем состоянии дома и обеспечении его всеми приправами и запасами кухонными, и аптечными, и хозяйственными, а также выращивании и содержании скота, птицы и других животных способом наиболее апробированным и проверенным опытом, и к тому же самым дешевым и простым».
Автор остался анонимным.
Книга стала бестселлером, ее многократно переиздавали… А какое отношение она имеет к нам? Написана на польском языке. На обложке ясно сказано: «Литовская…»
Стоп, стоп, уважаемые, не спешите с выводами. Давайте, чтобы определиться, перенесемся в 1848 год. Восемнадцать лет назад подавлено восстание против владычества Российской империи на территории Польши, Литвы и Белоруссии. Тогда же царским указом отменено действие Статута Великого княжества Литовского 1588 года. Но белорусские земли по-прежнему называют Литвой, а жителей—литвинами. Ну а польский язык стал языком местной шляхты так же, как в свое время французский язык стал языком русской аристократии. И остается добавить, что написана книга на Минщине, и автор ее—женщина. Судя по всему—необыкновенная.
Кого из солидных научных работников интересуют кулинарные книги? «Литовская хозяйка» зачитывалась до дыр навещавшими библиотеки читательницами, а сохранять это издание для потомков архивисты не считали нужным. Только благодаря находке известного ученого Адама Мальдиса вновь прозвучало для широкой публики имя автора—Ганна Тюндевицкая. «Литовская хозяйка» родилась 200 лет назад Королищевичах, что под Минском, и впоследствии стала женой маршалка шляхты Борисовского уезда.
Что ж, в отношении «литовской хозяйки» историкам повезло больше, чем с ее современницей Аделей из Устрони—поэтессой, автором поэмы на белорусском языке «Мачаха»: тайна этого псевдонима до сих пор не раскрыта.
«Литовскую хозяйку» с удовольствием читал Владимир Короткевич, используя эпизоды из нее для придания своим романам несравненного исторического колорита. Ну хотя бы вспомнить знаменитый голубой «ликвор», ликер, настоенный на кровавнике, который фигурирует в «Дзiкiм паляваннi караля Стаха».
Право же, сегодня «Літоўская гаспадыня», по крайней мере, отдельные ее страницы, читается, как художественное произведение. Мы переносимся в старосветское имение—с лакеями, горничными, экономками, со старинными фамильными портретами и буфетами с серебряной посудой. И, разумеется, с балами и очаровательными паненками. «Литовская хозяйка» затрагивает самые прозаичные «материи», например, как ухаживать за свиноматками или как извести клопов. Да не просто затрагивает—все, что касается животноводства, дано весьма обстоятельно и со знанием дела. Но кто из нас, уважаемые дамы, знает, как приготовить крупу из… роз? Вот как это делали наши прапрабабушки: розовые лепестки, оборвав желтые нижние концы, мелко дробят. Добавляют понемногу картофельную муку, белки и растирают все в макитре. Когда тесто станет достаточно густым, его выкладывают на кухонную доску, раскатывают и протирают через решето, чтобы получились продолговатые, как рис, крупинки. Потом высушивают и слегка перетирают рукой.
С розовой крупой готовили овощные блюда на пару или варили ее в молоке с сахаром.
Род Тюндевицких в истории Беларуси остался не только благодаря «литовской хозяйке». Во время восстания 1863 года в Минске был расстрелян артиллерийский прапорщик Михаил Тюндевицкий. Его приговорили к смертной казни за агитационную работу среди крестьян. Михаил читал им газету «Мужыцкая праўда», которую выпускал Кастусь Калиновский. Из судебных бумаг известно, что родители казненного жили в имении Вильянова Борисовского уезда. Указаны имена отца, братьев и сестер… Не названо только имя матери. Исследователи предполагают, что ею могла быть Ганна Тюндевицкая, «литовская хозяйка». Но в науке, в том числе и исторической, между «могла быть» и «была»—пропасть, которую могут преодолеть только очевидные факты.
Прошел век, другой—и забыты не только имена, названные и неназванные, но и старинные рецепты и хозяйственная мудрость. Нет имени на книге, нет имени в судебном деле… Однако, разумеется, только женщина могла дать советы женщинам о самом главном. Это «главное» прозвучало бы таким образом: как быть красивой.
Пани Тюндевицкая была слишком серьезной личностью, чтобы придавать косметике большое значение. Соответствующий раздел в «Литовской хозяйке» занимает довольно скромное место. «На мой взгляд, нет ничего более противного и никчемного, чем хозяйка, которая пренебрегла обязанностями по хозяйству и много времени тратит на сохранение и уход за своей красотой, превратив это в единственную цель и занятие своей жизни. Однако привлекательность и очарование равно с благонравием и мягкостью являются главными чертами, которыми Господня воля соизволила наделить женщин. Поэтому советую каждой женщине для того, чтобы нравиться мужу, не пренебрегать всяческими скромными и пристойными средствами ради сбережения как можно дольше своей молодости и красоты».
В качестве самых верных средств «литовская хозяйка» советует женщинам научиться владеть собой, соблюдать умеренность во всем, быть строго аккуратной и обладать «утонченной элегантностью». Хорошо для укрепления ослабленных и раздраженных женских нервов купаться ежедневно в холодной воде, а также не затягивать слишком туго корсет. А еще, внимание: «Красавица не должна употреблять свинину, а также крепкие напитки, это значит кофе, шоколад с ванилью, вино, пиво и т.д.».
А чтобы в 50 выглядеть на 20, умывайтесь водой из растопленного мартовского снега, а за неимением таковой—дождевой, вскипяченной с корнями петрушки. Вместо мыла шляхтянка должна пользоваться пшеничной булкой, выпеченной без яиц и масла, делать маски из жеваного миндаля, а еще—всегда носить вуаль. Особенно в марте. И—никакого загара! Ну а руки—вообще особое дело. Известно, что во Франции, где как раз в год выхода «Литовской хозяйки» бушевала революция, рабочие патрули проверяли руки прохожих: если аристократ, то по рукам сразу видно! И неудивительно. «Молодые паненки должны день и ночь носить перчатки или пульсетки, иначе их руки никогда не будут белыми и деликатными».
Более того: чтобы не давать рукам и ногам слишком расти, наши прапрабабушки, оказывается, надевали на руки дочерей тесные перчатки, а на ноги—узкую обувь. А если мы еще представим, что благородные девочки были затянуты в корсет… Владимир Короткевич как-то высказался в том духе, что когда смотришь на портреты красавиц далеких веков, неприятно думать, что они ели мясо руками, а в пышных балдахинах над их кроватями гнездились клопы. Романтика прошлого имеет свои издержки.
И не будем забывать, что через 15 лет после появления «Литовской хозяйки» многие из этих шляхтянок, оберегающих лицо от загара вуалью и спящих в перчатках, принимали участие в восстании наравне с мужчинами и потом шли по этапу в Сибирь.
Я уже упоминала, что Владимир Короткевич брал из «Литовской хозяйки» названия и рецепты старинных белорусских блюд. И, разумеется, напитков. Каждое имение приготовляло свои и часто неповторимые. Голубая водка на кровавнике и голубой ликер—это далеко не все. Были еще мелиссовка, малиновка, англичанка, кардамоновка, тминовка, аировка, анисовка и так далее. А еще «совершенная наливка»—из земляники, малины, лепестков красной розы, клубники и лимонов. В белорусских усадьбах умели даже делать шампанское из… крыжовника. А во многих ли современных кулинарных книгах найдется рецепт ракового масла, приготовляемого, понятное дело, из настоящих раков? А роза в меду, сыр из слив, мартовский хлеб? Вы пробовали когда-нибудь? А мармелад из помидоров? А между тем в каждом уважающем себя шляхецком доме это подавали на стол.
Когда-то Владимир Короткевич, по свидетельству Адама Мальдиса, сетовал, что «Литовскую хозяйку» надо бы перевести на белорусский язык и выдать, чтобы доказать, что в нашей истории были «не толькi лапцi i каўтун у галаве». Да только «…хто такое выдасць? Во каб камень у мiнулае цi якая брыдота—тады б адразу пусцiлi ў свет».
Теперь желающие могут ознакомиться с легендарной «Литовской хозяйкой». Пришло признание к женщине, не пожелавшей даже написать свое имя на обложке книги.
И на прощание, чтобы ощутить колорит времени, совет пани Тюндевицкой о том, как сохранять всяческое движимое имущество долгое время… в земле.
«В 1812 году, когда много семейств утратило все свое добро из-за грабежей, наш клад сберегся в земле до весны и был нисколько не поврежден: ни от влаги, ни от моли. В сухом песчаном месте, где имелся сток для влаги, мы повыкапывали ямы и обложили их вокруг берестой. Именно корой и лубом. Потом насыпали туда сухой ржи из сушилки и в нее поставили ящики с бельем, одеждой и шубами так, чтобы ящик непосредственно не дотрагивался до земли…»
Так что сейфы и банки отдыхают.
Исследователь песен и курганов
Зориан Доленго-Ходаковский (1784-1825)
В письме от 9 ноября 1833 года Николай Гоголь написал украинскому фольклористу Михаилу Максимовичу: «Я очень порадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании Зориана Доленго-Ходаковского (Адама Чарноцкого). Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжной пылью…. Сделайте милость и пришлите этот экземпляр мне…».
В 1936 году в неоконченной сатирической поэме «Езерский» Александр Пушкин пишет:
«Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ.
Но каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
О толстобрюхой старине».
Как видите, фольклорист Доленго-Ходаковский был фигурой в литературной российской среде того времени знаменитой, чуть ли не нарицательной. Гоголь и Пушкин его прекрасно знали и ценили…
А современные белорусы?
А ведь Доленго-Ходаковский—не просто наш земляк. Его считают основателем исторической географии в Беларуси. Его исследования пробудили интерес к собиранию белорусского фольклора у целого поколения. Во влиянии на молодежь его сравнивали с Адамом Мицкевичем. Именно после знакомства с работой Ходаковского «Славянщина до христианства» многие начали собирать белорусские песни, присказки, обряды, обычаи… Исследовательница творчества Доленго-Ходаковского Леонила Малаш называет его «першым беларускiм мовазнаўцам, фалькларыстам, археолагам i этнографам». Сам он называл себя «тутэйшым або случчаком». Так что когда его называют польским исследователем, это, мягко говоря, некорректно.
Впрочем, об этом человеке и современники не знали всего.
Он сам создал себе «двойную» биографию—точнее, к этому вынудило время.
Начнем с того, что звали его на самом деле Адам Чарноцкий.
Хотя любил говорить, что он из простых селян, родился в шляхетской семье. Черноцкие—известный дворянский род Впрочем, семья Адама была бедной—отец работал экономом и арендатором по имениям. А тут еще арендовали фольварок Черкасы у помещика Ваньковича—а пан оказался не очень порядочным, присвоил деньги арендатора… Беды одна за другой обрушивались на семью Черноцких. Умерла мать, Секундина Бородич. Ее приданое должно было пойти на обучение рано проявившего блестящие способности Адама—но пришлось судиться с Ваньковичем, потом—с его сыновьями… А суд, как известно, съедает денег немерено. Отец уезжает на заработки… И маленький Адам оказывается в доме своего родственника, Ксаверия Черноцкого, витебского подстолия. Там получает образование. Вначале у домашнего учителя, потом—в слуцком католическом училище. Доминик Ходька, тоже там учившийся, пишет, что Адам с детства отличался необычными умственными способностями и сообразительностью, но и упрямством и непокорностью, доставал наставников вопросами и выказыванием собственного мнения. После очередного скандала забрался в сад и сутки просидел на дереве… Пока не нашли. А то уже собирался странствовать по миру. Оставил Ходька и портрет нашего героя: «Быў Адам Чарноцкi сярэдняга росту, акруглага шырокага твару, не зусiм прыгожага, моцна пабiтага воспай. Валасы былi ў яго чорныя, блiшчастыя, нiбы аблiтыя вадой, заўсёды прыгладжаныя, яны густа акрывалi галаву. Вочы меў шэраватыя, малыя, пранiзлiвыя, але ад доўгага карпення над старымi рукапiсамi яго павекi былi чырвоныя i прыпухлыя».
Хлеб бедного родственника на попечении богатых горек. Особенно ощутил это Адам, когда остался круглым сиротой. И не просто один остался — пришлось помогать маленьким детям отца от второго брака. И довелось ему осваивать частным образом необходимую на тот момент профессию—юриста. Через несколько лет сдал экзамены, и начал с того, что попытался вернуть семье отцовский дом в Минске, на Волоцкой улице. И представьте себе—отсудил!
А теперь еще представьте—отказался от всяких прав на него, отдав в пожизненное владение сводным брату и сестре.
Удивительно? Да нет, вполне в характере этого персонажа. Который как-то написал сам о себе в письме:
«Не знаю, найдете ли в нашем славянском племени подобного стоика и упрямца, который бы, отказавшись от всех светских приличий, погрузился, подобно мне, в своем предмете!»
Предмет этот было изучение древности. Топонимики, курганов, фольклора, рукописей… Ради этого Адам Чарноцкий готов жертвовать всем.
Причем исследует он все это, как делал сербский ученый Вук Караджич—расспрашивая простых людей, исхаживая дороги и бездорожья… Сам уподобляясь тем, кто служил для него источником. Как пишет польский фольклорист Вацлав Залеский, «ён у кароткiм кажушку з маленькай торбай за плячамi i бутэлькай гарэлкi пад пахай хадзiў з вёскi да вёскi, ад аднаго ксяндза да другога, ад арганiста да арганiста, ад дзяка да дзяка i як усюды, просячы, пераконваючы, дагаджаючы, частуючы i сам падпяваючы, збiраў усё, што тычылася славянства».
Не зря Доленго-Ходаковского представляли чудаком и оригиналом. Недоброжелатели вообще выписывали образ этакого Диогена, киника, который пренебрегает всеми условностями, бродит по полям, просясь на случайный ночлег и заставляя хозяев в отплату выслушивать теории насчет общеславянского прошлого, таскается по кабакам и рынкам, расспрашивая мужиков, как называется в их местности какая речка или курган, а те сдают его на съезжую, как подозрительную личность. Случалось и такое… Но не зря же Ходаковского сравнивали с Карамзиным, не зря очень требовательный к источникам знаменитый фольклорист Киреевский использовал его записи без поправки, да, впрочем, он и пришел в фольклористику под воздействием Ходаковского.
Но как же Черноцкий стал Ходаковским?
Молодой Адам Черноцкий подружился с племянником новоградского воеводы графа Неселовского, у которого служил управляющим. Антоний Неселовский был горячим патриотом Польши, перешел границу и вступил в войско Наполеона, на которого недовольные российской властью смотрели, как на освободителя. Друзья вели переписку, Неселовский, разумеется, звал друга присоединиться… И Черноцкий пишет ему неосторожное письмо, в котором называет Наполеона «великим героем Европы», а российские власти изобличает в издевательствах над людьми. Цензура существует столько, сколько и почтовая связь… И вскоре Черноцкого арестовывают, причем, как особо опасного злоумышленника, перевозят в Петербург, в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
Адам просидел в одиночной камере семь месяцев. «Самотнасць, няпэўнасць майго лёсу, харч i ўсё ўтрыманне, якое выдавалася на 20 капеек у дзень, узбудзiла ў мяне смутак, тугу, i пры паслабленнi здароўя ў цяжкiм паветры яны яшчэ больш павялiчылiся», — писал впоследствии Адам, пытаясь добиться отмены приговора. Ведь несмотря на то, что он еще и не делал попытки побега за границу империи, его осудили, как беглеца: лишили дворянства и отправили солдатом в Сибирь…
Неизвестно, как бы сложилась его судьба далее—в Сибири сгинуло много наших талантов. Но приближалась война с Наполеоном. Дивизия Глазенапа, в которой служил Адам Черноцкий, была переброшена в Бобруйск. Здесь была родина… И Черноцкий решается: однажды он отправляется якобы купаться, оставляет одежду на берегу Березины и исчезает. Разумеется, солдата посчитали утонувшим.
Стоит ли удивляться, если через какое-то время в войсках Наполеона становится на одного воина больше?
Черноцкий—в действующей армии, с французами входит в Москву… Потом—отступление…
Разумеется, бывший наполеоновский офицер не мог спокойно жить в России. Переждав у родственников, переезжает на Волынь. Живет у сочувствующих друзей… Но теперь—и до конца жизни—он уже не Черноцкий, а Зориан Доленго-Ходаковский.
Теперь смысл его жизни—фольклорные исследования. В 1818 году Ходаковский пишет свою программную работу «Славянщина до христианства», обобщая свои находки. Его идеи находят много приверженцев. Автор утверждал, что у славян была общая история. Что она жива, и ее нужно только найти. «Трэба пайсцi i знiзiцца пад страху селянiна ў розных далёкiх краях, трэба спяшацца на яго частаваннi, гуляннi й розныя прыгоды. Там, у дыме, што ўзносiцца над галавамi, жывуць яшчэ старыя абрады, спяваюцца даўнiя песнi, i сярод простых скокаў чутны iмёны забытых багоў».
Работа Ходаковского произвела такой фурор, что сторонники представили ее в Петербург, чтобы добиться денег для дальнейших исследований, как говорил сам Ходаковский, «золотых или серебряных весел для дальнейшего плавания». А заодно обратились в Варшаву и в Вильню—с той же целью.
Но Ходаковский был фигурой неудобной. Фактически самоучка, он легко отвергал авторитеты и выдвигал крамольные идеи. То, что писали о малороссийском диалекте, например, называл «вартым смеху». А еще взялся за критику «Истории государства Российского» Карамзина. А Карамзин считался живым классиком, столпом науки, к тому же был обласкан властью. Но Карамзин-то не ходил, как Ходаковский, по славянским землям, не проверял однажды найденные сведения на натуре! «Ён адрэзаў напалавiну Старажытную Русь, разам з плямёнамi, расселенымi ў ёй. Усю поўнач падараваў фiнам, а поўдзень уступiў хазарам. Лiтве падараваў сённяшнiе лiтоўскiя губернii, дзе памiж Вiльняй i Гародняй народ гаворыць на беларускай мове». Зориан делает неслыханное: переправляет карту древней Руси, составленную именитым академиком, на основе найденных фактов, уточняет расселение древних племен, происхождение их названий. Карту Ходаковского переслали Карамзину, но тот, как и следовало ожидать, ее проигнорировал.
Ходаковский отправляется в Петербург. Пока ожидал деньги мецената на дорогу, пока ехал — собирал материалы, делал находки, вроде издания «Статута Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г». Но главная его находка… жена. Между Полоцком и Псковом Ходаковский повстречал Констанцию Флеминг. Констанция была образована и начитана, хотя и не соответствовала признанным канонам красоты. И главное—готова была разделить увлечение нового знакомого. Ездила вместе с ним по окрестным деревням, помогала в сборе материалов… И в Пскове Зориан и Констанция обвенчались. Ходаковский так шутливо объяснял свой брак: «Вельмi цяжка ўдавалася мне здабываць ад вясковых жанчын народныя паданнi i песнi. Не раз думаў я пра тое, што тут добра магла б памагчы жонка. З гэтай прычыны я ўзяў i ажанiўся. I цяпер чую сябе шчаслiвым».
Ходаковский приехал в Петербург. Десять лет прошло с тех пор, как он был тут узником Александровского равеллина. Сегодня его принимали именитые академики и чиновники. Журнал «Вестник Европы» публикует работу Ходаковского, он входит в моду… Даже Карамзин замолвил при случае слово… И фольклористу-самоучке дают полторы тысячи рублей серебром на путешествие.
Ученый пускается в путь. Верная Кастуся отправилась вместе с мужем, несмотря на беременность. В Ладоге она родила сына, которого решили назвать древним славянским именем Алесь. Но через месяц младенец умер. А вскоре «Мая добрая Кастуся, якая шмат у чым памагала мне i ва ўсiм выручала», простудилась и умерла. Ее похоронили в Твери, и Ходаковский горько шутил, что взамен поврежденных чужих курганов пришлось насыпать еще один, свой…
Ездя по России, Ходаковский проделывает огромную работу, от раскопок курганов до собирания народных песен. Казалось бы, его должна ждать заслуженная награда… Но его идеи по-прежнему вызывают вражду. Особенно в сочетании с привычкой критиковать именитых. Появляются разгромные статьи, в которых говорится, что экспедиция Ходаковского была бесполезной, что Ходаковский—дилетант и бездельник… И финансирование прекращается. Теперь уже—навсегда. В отчаянии Ходаковский хочет сжечь архив… Друзья отговаривают. Предлагают достойное прибежище в Вильне… Но над Зорианом висит судьба Адама Черноцкого: а вдруг в родных местах в ученом Доленго-Ходаковском узнают беглого солдата?
Ходаковский вспоминает свою первую специальность и устраивается управляющим имением к помещику Тверской губернии. Продолжает исследования. Собирательство… Но на 41 году жизни. оставив своей второй жене Василевской. Огромный сундук с рукописями. Он сказал, что этот сундук дорогого стоит, что он должен принести ей доход…
Но бедная женщина не слишком разбиралась в науке. Она обратилась к издателю М.Полевому, и тот сразу же предложил ей привезти бумаги в Москву, обещая золотые горы. Но, получив в свое распоряжение сундук и ящик с бумагами и книгами, Полевой разочаровался. Это надо было систематизировать, разбирать… Многое было написано на латинице. К тому же записи народног творчества были не на литерпатурном языке.
И сегодня издатель прежде всего думает о доходе… Издавать рукопись, которая может разорить? Полевой решает не рисковать. Друзья Ходаковского тоже не проявили энтузиазма. Пришли, почитали записи народных песен, посмеялись над груборватым их юмором…
Некрасивое вышло дело. О том, что сундук с бесценными записями, с богатейшим в мире собранием славянских песен застрял у Полевого, и потихоньку начал «расходиться по рукам». Начали говорить в обществе. Пушкин и Вяземский даже упрашивали земляка вдовы Ходаковского Глинку, чтобы тот добился у нее бумаги о передаче им заветного сундука. Но Глинка не стал вмешиваться. Вдова обратилась к властям… В результате ей вернули… несколько запачканых и помятых бумаг с уверением Полевого, что больше ничего и не было.
Вдова умерла в богадельне.
А ту часть наследия, которую удалось спасти, напечатал в «Русском историческом сборнике» Погодин. И это тоже стало сенсацией. Статья о водных путях Киевской Руси, статья «Историческая система Ходаковского», статьи о курганах, «Сравнительный словарь географических названий, забытых либо тех, которые вышли из употребления и могут быть объяснены только с помощью старых рукописей и местных диалектов».
А сколько пропало!
Рукописи гуляли по рукам… Часть попало к Гоголю, который, не подозревая, видимо, что это оригиналы, делал на них свои заметки. Часть поместил в своих сборниках украинский исследователь Максимович, делали публикации и другие фольклористы… Большая часть рукописей оказалась в Праге. Именно там спустя век их и обнаружила исследовательница творчества Ходаковского неутомимая Леонила Малаш.
Восток и Запад Коссовича
Каэтан Коссович (1814-1883)
«Он удивляет Москву своим языкознанием: он изучил, кроме новых языков, греческий, латынь, еврейский, арабский и, наконец, санскритский, человек, которых мало рождает скупая ныне почва человечества… Живостью он очень похож на нашего Пушкина».
Так писал М.Коншин, директор училищ Тверской губернии, своему школьному товарищу П.А.Плетневу о «юноше-друге, чудесном явлении», который «изучает языки, как едят калачи». Этого юношу, выпускника Московского университета, прислали учительствовать в Тверскую гимназию—он должен был отработать пять лет за то, что обучался за «казенный кошт». Звали его Каэтан Коссович, и был он нашим с вами земляком.
Каэтан Коссович родился 14 мая 1814 года в семье униатского священника.
После войны с французами на Беларуси — пепелища, голод, болезни… Каэтан попадает в «конвикт», отделение для сирот Полоцкого училища. Там «…выдержал он много, и очень много, как физически от холода и голода, так и морально от пренебрежительного равнодушия, так вместе с тем физически и морально от сумасшедшей, дикарской и зверской педагогической рутины того времени». «Префект» училища, некто Генрих Бринк, нещадно порол неспособного к математике мальчишку… Мало что по всем остальным предметам пятерки!
Кстати, забегая вперед, скажем, что Каэтан на всю жизнь сохранил ненависть к математике—в его доме даже это слово никогда не произносили. И вообще расплачивался в лавках так: высыпал все имеющиеся деньги и просил отсчитать нужное, поскольку сам к цифрам неспособен.
Потом была униатская школа приаров—но ее закрывают. Каэтан, босой и голодный, отправляется в Витебск, проситься в гимназию… Но—непреодолимое препятствие: у него нет школьной формы.
Когда знакомишься со сведениями из биографии Коссовича—весьма, кстати, отрывочными, создается впечатление, что жизненный путь его определялся цепью случайностей. И вот — одна из них. Друзьям Каэтана удается купить у пьяницы-студента за две бутылки цимлянского старый мундир—и Коссович становится гимназистом.
Далее—еще одна счастливая случайность. Каэтан снимает угол у витебского трактирщика-еврея. В каморке стоит старый шкаф с книгами на древнееврейском. И вскоре Коссович самостоятельно изучает этот язык. Слухи идут по всему Витебску. Белорусский подросток читает Талмуд! Каэтана приводят на экзамен к раввину, все в изумлении. Весть о лингвисте-самородке доходит до попечителя учебного округа, и Коссовича направляют в Московский университет.
1832 год… Университет был государством в государстве, со своими законами и традициями. Нелюбимым профессорам-реакционерам устраивали обструкции. Тех, кто доносил, угодничал перед начальством или кичился богатством и происхождением, презирали. Действовали негласные студенческие суды… Поэтому строптивых студентов нередко сажали в карцер, «забривали в солдаты»…
Несмотря на «зверское обучение», уровень знаний выпускников белорусских училищ был очень высок. К.С.Аксаков вспоминает: «На первый курс поступили к нам студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии, все они были очень хорошо приготовлены… В числе их был Коссович. Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определялось тогда ясно. Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны, ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова приводил несколько синонимов».
Вскоре Коссович поражает всех своими способностями к языкам. Осваивает их самостоятельно. Почти не появляется на лекциях, постоянно читает, по коридорам тоже ходит с книгой, натыкаясь на встречных. В конце концов, даже становится «второгодником»… Но период накопления знаний дает результат: далее Каэтан легко справляется с программой, становится кандидатом…
И вот—очередной случай. Друзья купили для Каэтана на книжном «развале» старую рукопись. Никто из них не мог ее прочитать. Да и никто в России, как впоследствии оказалось, не смог бы. Это оказались «Пураны», памятник древнеиндийской литературы, написанный на санскрите. И по этой единственной книге Коссович изучает санскрит, древний священный язык, ставший главной страстью его жизни. А между тем считалось, что санскрит можно изучить только в Индии, с помощью брахманов-пандитов. Так же легко Каэтан впоследствии расшифрует клинопись.
Со стороны, наверное, казалось, что этот бедный студент – чудаковатый зубрила, ничем, кроме своих языков, не интересуется.
Немногие знали правду. Коссович входит в тайное студенческое общество своих земляков, в котором—один из первых собирателей белорусского фольклора Тадеуш Лада-Заблоцкий. Вскоре участников общества арестовывают, начинается судебный процесс. Лада-Заблоцкого отправляют в Витебскую тюрьму, потом его ждет ссылка, Кавказ… Опасность нависла и над Коссовичем. Пропасть было несложно—как-то Коссович поссорился с деканом Давыдовым. Дело было не в политике – Коссович написал по просьбе декана статью о «шляхетской литературе», а Давыдов дал рукопись на правку своему племяннику, студенту Лондовскому. Тот так «отредактировал», что добряк Каэтан вспылил, наговорил дерзостей… Вечером за слишком умным студентом явилась полиция. Обвинение—пел нелегальные песни. Никто никогда не слышал, чтобы Коссович вообще пел… Но на Каэтана успели надеть солдатскую шапку и шинель… Тогда друзья, студенты-аристократы граф Толстой, князья Оболенский, Голицын и Лобанов-Ростовский встретили Лондовского на коридоре и надавали ему пощечин. И предупредили Давыдова, что будут так поступать с его племянником, пока Коссовича не освободят.
Вскоре Каэтан вышел из карцера, неприятный инцидент «замяли».
Был и более серьезный «проступок». В 1835 году Коссович публикует в журнале «Молва», издаваемом известным лингвистом Надеждиным, несколько белорусских народных песен, записанных на Витебщине. Публикация сопровождалась комментарием: «Замечу, кстати, что белорусский диалект вовсе не литовский, как многие ошибочно утверждают, и не тот, который был в письменном употреблении в 16 столетии. Потому что белорусский язык есть нечто иное, чем польский язык с русскими формами… Равным образом его нельзя считать и русским, как его называет господин Греч в своем «Опыте».
Только что на Западных землях расправились с восстанием, поэтому подобные публикации были неслыханно смелы. Под материалом стояла подпись: «Белорусс К.К.», что впоследствии дало повод некоторым ученым оспаривать авторство.
Нет, Коссович не был «оторванным от жизни», как его стараются изобразить. Друзья-земляки в тюрьмах, ссылках… Он сближается с Белинским, Чернышевским, Добролюбовым, входит в прогрессивный кружок Станкевича…
«…главный его недостаток в том, что у него нет ученого педантизма, шутит и смеется языком либерала над потом и кровью педантов-профессоров, учит как бы играючи и удивляет наблюдателей успехами своих учеников. К стыду ученого мира, этот человек—обыкновенный учитель гимназии, хотя нет в Москве образованного и интересующегося дома, где б его имя не звучало чудесно, а с университетских кафедр с уважением говорят о его научных трудах».
Так рекомендовал Каэтана Коссовича, учителя Тверской гимназии, директор оной.
В конце концов редкий специалист понадобился в Москве.
Коссовича охотно приглашают наставничать—он учит поэтов М.М.Языкова и А.Н.Майкова, языковеда Ф.И.Буслаева, известного славянофила А.С.Хомякова. Насколько наш земляк вызывал доверие, можно судить по любопытному факту: однажды Хомяков вручил санскритисту 5 тысяч рублей и поручил запатентовать в Англии свое изобретение—паровую машину. Каэтан поручение выполнил, правда, чудо-машина так и осталась невостребованной.
Учеников много, на санскрит и древние языки—мода. Это ново, специалистов—единицы во всем мире. Тому свидетельство—когда Каэтан Коссович был послан в Лондон, то обнаружил, что клинописные таблицы в Британском музее висят вверх ногами.
И вот—блестящее предложение: стать домашним учителем во дворце Е.В.Дашковой, вдовы министра юстиции.
Это значило—роскошная жизнь, экипажи, званые обеды, много денег… Коссович переезжает в Петербург. Но хоть и золотая, это была клетка. Тем более младший из знатных учеников отличался «необузданным характером». Друг Коссовича, М.В. Берг, предупреждает: «Он забыл, что люди, наделяя его этой ерундой, забирают у него ничем не заменимое сокровище—свободу, а вместе с ней и его Махабхарату и санскритский язык, и все…»
К счастью, ученый ценит свободу творчества дороже роскоши. Через какое-то время он отказывается от учительства и становится редактором научных работ при Императорской публичной библиотеке.
Коссович много переводит, ему наконец позволяют читать лекции… Он профессор, член научных обществ, кавалер орденов… У него верная, любящая жена, Елизавета Николаевна, преданные ученики. Он усыновляет маленького сына египетского шейха Ат-Тантави, приглашенного для преподавания в Петербургский университет — Тантави и его супруга умерли, не выдержав сурового климата.
Под конец жизни Коссович расхворался, кабинетное существование не шло на пользу. А принудить тайного советника—именно в таком чине Коссович вышел в отставку—к прогулкам невозможно. Домашние, чтобы заставить ученого побольше двигаться, поселяют в комнате рядом с его кабинетом живность—птичку, зайчика, устраивают огород, даже садят деревца… Как же не поухаживать за цветочками, не покормить Божью тварь? Вот вам стариный рецепт «офисного фитнеса»…
Перечислять труды Каэтана Коссовича слишком долго. Еврейская община, кстати, еще при жизни ученого пообещала поставить ему памятник — перевел столько ценных текстов, составил «Еврейскую грамматику»… Коссович, разумеется, поскромничал, заявил, что лучше он сам поставит памятник тому витебскому еврею, в доме которого нашел Талмуд.
Каэтан Коссович умер в 1883 году и похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
Злая звезда Франца Савича
Франц Савич (ок.1815 – 1845)
1839 год. Военно-полевой суд над бунтовщиками-студентами, создавшими в Виленской медико-хирургической академии тайную организацию, подходит к концу. Два десятка молодых людей, изможденных долгим, 18-месячным следствием, допросами «с пристрастием», нечеловеческими условиями заключения, выслушивают свои приговоры с мужеством людей, жертвующих собой во имя высшей идеи. Один из них, известный революционер Канарский, приговаривается к смертной казни, другие – к ссылке рядовыми на Кавказ без права выслуги. Приговор выслушан, осужденные начинают прощаться друг с другом… И прежде всего все стараются высказать свою любовь и уважение скромному бледному юноше. На вопрос главного следователя, безжалостного садиста князя Трубецкого, почему именно этому заключенному достается столько знаков дружеского внимания, один из жандармов отвечает:
Наверное, он этого заслуживает.
И действительно, мало кто, как этот человек, заслуживает уважения и памяти… Но словно злая звезда светила над его благородным и мучительным путем – перечитывая страницы его воспоминаний, можно только поражаться его несчастьям и удивляться его воле к жизни. Недаром одну свою незаконченную рукопись он назвал «Исповедь мученика».
Франц Савич родился в семье униатского священника в деревне Велятичи Пинского уезда. В 18 лет он становится «казеннокоштным» студентом Виленской медико-хирургической академии. Только что разгромлено восстание… Царские власти ожесточенно истребляют в западных губерниях свободомыслие и «польщизну». Образ мыслей юного Франца можно проиллюстрировать цитатой из его «Воспоминаний»: «С малых лет, как помню себя, мои мысли были о свободе и Отечестве, про наше бесправие и нашу бедность».
Франц Савич попал в академию не в лучшее ее время. При попустительстве начальства там царят пьянство, безделье, распущенность—пусть молодежь лучше пьянствует, нежели задумывается над проблемами бытия. Серьезные, думающие студенты вызывают подозрение. Франц Савич и его друзья как раз и принадлежат к последним. Франц возглавляет тайную организацию «Демократическое общество». В уставе—пункты: воспитание гражданской ответственности, сочувствие обездоленным независимо от их национальной либо конфессиональной принадлежности. Вступивший в общество должен вести скромный и умеренный образ жизни, старательно учиться… Судя по отзывам современников, Франц Савич вполне отвечал вышеупомянутым качествам, но при этом он из тех, что способны вести за собой, способны во имя высшей цели жертвовать всем. Во всяком случае, известен такой факт: когда Савичу нужно было отправиться на Волынь, чтобы связаться с известным революционером Канарским, для получения разрешение на отпуск он написал инспектору письмо от имени своей матери, которая якобы находится при смерти.
В каждой тайной организации рано или поздно находится предатель. На станции Крыжовка под Минском арестовали Канарского. Вскоре за решеткой оказались практически все члены организации…
За бунтовщиков взялись всерьез. Морили голодом, не давали спать, били палками. Возглавлял следствие князь Трубецкой, присланный из Санкт-Петербурга самим царем. Со звериным криком врывался князь в камеры, набрасывался на заключенных и избивал, пока узник не терял сознания. Однажды Савич, не выдержав, ударил сановного палача по лицу… За это Трубецкой приказал избить дерзкого палками так, что тот неделю не мог подняться. Измученный допросами, Савич решил покончить с собой. Но для этого в его камере не нашлось никаких приспособлений, кроме… кувшина с водой. Савич попытался, перевязав горло платком, залить гортань водой… Ему помешал сделать это Трубецкой, случайно зашедший в камеру ради очередного «вразумления» упрямого узника.
Юноши держались на удивление твердо. Так случилось, что отец самого младшего из заговорщиков был офицером жандармерии и вынужден был принимать участие в следствии, допрашивать собственного сына. «Молил его на коленях, плакал, целовал его ноги, обещал, что будет свободным, если только признает свою вину и выдаст друзей».
Юный Ясь никого не выдал и погиб в кавказской ссылке.
Савич просидел месяц в карцере, мокрой каменной яме: «От кандалов открылись мои раны, одежда сгнила и почти висела на мне, порванная на лохмотья. Высохший, почерневший, худой, с распухшими от укусов насекомых лицом и телом, я был похож более на привидение, чем на человека».
Суд был для узников скорее радостным событием после полутора лет «дикой тюрьмы». Савичу предстояло всю жизнь провести в качестве рядового солдата на Кавказе. «Я должен был стрелять черкесов, которые моему отечеству и мне не сделали ничего плохого, должен был защищать дело, которое противоречило моим убеждениям».
Мысли о побеге появились сразу же. За попытку побега Савича отправили на передовую, а потом в крепость на Каспии – Кизляр. Франца всегда выручал его талант врача – у него появлялось много пациентов-друзей в самых разных «прослойках», и среди криминальных авторитетов, и среди аристократии. В Кизляре он познакомился с семьей богатого армянского купца. Тот и помог подневольному доктору. Ведь бежать стало необходимо. У одного из арестованных в Одессе нашли компрометирующие Савича документы, рукописи его стихов. Царь приказал доставить Савича с Кавказа… Франц оставил на берегу реки свою одежду и прощальную записку, чтобы подумали, что он утонул. Так, кстати, и получилось.
Беглецу довелось пройти через степь. Он направлялся в Молдову, чтобы оттуда попасть в Румынию… И вот – граница… Сколько пережито, выстрадано дорогой… Но словно злой рок преследовал беглеца. Савича задержали крестьяне и отвезли в город Тирасполь, где он попал в тюрьму за бродяжничество. Полтора года просидел повстанец с бродягами, нищими и ворами в каталажке, а потом, согласно приказу Николая II, как человек неизвестного происхождения, был отдан в солдаты. Опять маршировка на плацу, опять казарменный быт… В очередной раз выручили лекарские способности. Савич взялся помогать военному лекарю, не особо смыслившему в медицине. В благодарность тот и помог Францу бежать.
Савич нанял возчика до Киева. И – опять злая звезда его судьбы! Возчик обокрал и бросил клиента. Пришлось идти пешком. В Киеве удалось найти помощь и двинуться дальше, в сторону Галиции, но возле местечка Янишполь Савич вывихнул ногу. Беглец поселился там под именем доктора Гельгега. Слава о добром докторе пошла по всей округе. Францу Савичу удалось раздобыть заграничный паспорт, но началась эпидемия холеры. Доктор мог уехать, но остался спасать людей. Как же иначе, ведь еще в Вильне они, юные романтики, сами написали в уставе своей организации о том, чтобы посвятят себя беззаветному служению обездоленным. Франц заразился холерой и умер. Было ему всего 31 год.
Перед смертью Савич передал свои мемуары польскому поэту Александру Грозе, то, что не успел записать – рассказал устно. Мемуары написаны на польском языке, но не подлежит сомнению, что Савич осознавал себя белорусом. Сохранились его письма, написанные на белорусском языке. А ведь в то время, если образованный человек пользовался «мужицким наречием», это была позиция, это была смелость! Сохранилось и стихотворение на белорусcком языке о восстании 1830 года «Там блізко Піньска на шыроком полю…”.
“Будущее наше будет светлым. Я до него не доживу, но умирать буду с этой мыслью, потому что столько жертв и терпения нужно только ради отпущения прошлых грехов. На весы вечности ложится история всех народов, справедливость Творца рассудит.” Так писал Франц Савич.
«Гет, Шылер, Кальдарон пакажуцца у нашым плаццi…»
Артем Верига-Даревский (1816-1884)
На Кальварийском кладбище Минска эти могилы замечаешь сразу—благородство и древность… Мрамор, тяжелые цепи. И фамилия, созвучная целой канувшей в вечность эпохе—с дуэлями и восстаниями, сюртуками и варшавскими шляпками с вуалью… Вериго-Даревские. В 1937-м году в Варшаве вышла роскошная монография «Род князей Вериг», изданная «иждивением комитета Вериг». В издании доказывалось, что этот род—один из самых древних, и его родоначальник—сын великого князя литовского Войшелк, который получил прозвище Вериго за оковы, которые носил в татарском плену. Впрочем, историки версию эту ставят под сомнение… Но никто не оспаривает факт, что родовое гнездо Вериго-Даревских—Беларусь.
Вот только самый известный для нас представитель этого рода, осознававший себя именно белорусом и много сделавший для белорусского культурного возрождения, похоронен далеко от родной земли. Где-то в Сибири его могила… Над которой мог бы стоять такой же аристократический мраморный памятник, окруженный тяжелыми цепями, с надписью: «Арцём Вярыга-Дарэўскi».
Это особенное поколение—ополяченные белорусские шляхтичи, с горячей любовью к своей земле в сердцах и литературным талантом… Они хотели отдать этот талант своему народу—но на белорусском языке возможностей реализовать себя не было. Нашли компромисс: писать по-польски, но о Беларуси, используя белорусскоязычные вставки. Потом стали появляться произведения, написанные на том языке, на котором говорил их народ…
Это был мужественный выбор. И сознательный. Быть белорусами. Сына поэта Винцеся Каратынского Бруно упрекали: «Какой же ты белорус, если родился в Варшаве?». А тот, воспитанный патриотом, отвечал: «Часамi здараецца, што чалавек нараджаецца ў стайнi. Але ж ад гэтага ён не становiцца канём».
Артем Вериго-Даревский называл себя литвином. То есть—белорусом. «Лiтвiнам, што запiсалiся ў мой альбом на развiтанне», «Лiтва—родная зямелька», «Чый гэта голас? Гэта словы нашы, браценькi-лiтоўцы»—это строки из его текстов.
О которых среднему нашему читателю что известно?
Не будет преувеличением сказать, что почти ничего.
В хрестоматии приводится несколько белорусскоязычных стихотворений, стилизованных под фольклор… Причем одно из них—отрывок из драматического произведения, другое восстановлено по памяти родственниками, третье—альбомное…
Но если над поверхностью пустынной эпохи осталась только вершина пирамиды, разве можно утверждать, что это—все, что было?
Он родился в пору поздней осени, в усадьбе Кубличи Витебской губернии. И получил при крещении два имени: Августин и Артем.
Именно второе имя—Артем—и осталось в истории белорусской литературы. Итак, еще одно достойное памяти имя, еще один миф… Попробуем разобрать знаки, оставленные над поверхностью забытья…
Кто из нас не вел альбомов, в которые вписывали свои пожелания одноклассники, однокурсники и т.п.? Вряд ли кому-то приходило в голову претендовать на историческую ценность этих записей. Ныне утрачено искусство светских альбомов, так же, как эпистолярное—а когда-то из писем составлялись целые романы! Да и альбомы, в которых делали записи гости, — отдельный, ценный для изучения жанр… В истории нашей литературы самый известный альбом, многие записи в котором сделаны на белорусском языке, принадлежал Артему Вериге-Даревскому. По свидетельству известного историка Геннадия Киселева, нашедшего считавшийся утраченным оригинал: «Альбом среднего размера в потемневшем кожаном переплете, который я только что вынул из кожаного футляра. Еще не погасло золото на обрезе… Но ярче золота подписи: Вл. Сырокомля, Винцент Мартинкевич… Тексты обращены к «Наддвинскому дударю». К «Артему».
Первые записи в альбоме были сделаны в 1858 году, когда писатель ездил из Витебска в Вильно. Еще не все они расшифрованы. Потому как кто-то подписался «Дзiвак з-пад Вiльнi», кто-то—криптонимом… Впрочем, современным ученым помог сам Вериго-Даревский, написав стихотворение «Лiтвiнам, запiсаўшымся ў мой альбом, на пажагнанне», где по очереди обращается к своим адресатам.
«Брат Рамуальд! Выбрась ты вон
З торбы (прадзедаў?) постацi:
А Гет, Шылер, Кальдарон
Пакажуцца ў нашым плаццi», — обращается Верига-Даревский к одному из своих друзей, выказывая этим главную идею их патриотического круга: ввести белорусскую культуру на равных в контекст всемирной, выявить в народе таланты, равные гениям прочих народов. Другой из адресатов, некто Эдвард Г. обращается к самому Вериго-Даревскому: «Ну, браточык! Прагукаў ты па-нашэму i гутэрку тваю спадабалi, дай божа табе здароўя, што ты i сябе паказаў i людзей паглядзеў».
Как пишет Геннадий Киселев, «В альбоме нет ни одной строчки, написанной самсим Веригой, и все-таки—удивительное дело! — от ознакомления с альбомом создается все же образ именно Вериги—писателя-демократа, деятеля освободительного движения, человека, к которому тянулись все поборники прогресса, знатоки и ценители белорусского слова».
В царской России все подчинялось строгой иерархии. Всякий соответствовал какой-то графе в табеле о рангах, от 1-го, высшего, класса, до 14-го… Вериго-Даревский был, согласно этой табели, губернским секретарем, что соответствовало 12-му классу, или чину поручика. Дунин-Марцинкевич считался коллежским регистратором—это низший, 14-й, класс. А вот Франтишек Богушевич стал надворным советником—а это 7-й класс, или подполковник. Александр Пушкин, для сравнения, был титулярным советником и камер-юнкером, что соответствовало 9-му классу. То есть по чину выше Артема Вериго-Даревского, но ниже Франтишка Богушевича…
Но независимо от чинов белорусские писатели, не имевшие возможности печататься на языке своего народа, стали повстанцами.
В 1863 году Артему Вериго-Даревскому было уже под пятьдесят… Он был женат, имел детей… Но жандармы еще до начала восстания считали Веригу подозрительным. Еще в 1850-е года он организовал в Витебске частную библиотеку для бедных. А 13 апреля 1862-го года витебский губернский жандармский штаб-офицер сообщал в Петербург: «… мне указывают как на очень вредного в Витебской губернии в политических отношениях на помещика Витебского уезда Артема Веригу, который живет за 17 верст от города в своем имении Стайки… Вериго отличается особым умом, образованностью, начитанностью и осторожностью в своих действиях…». Далее сообщалось, что у Вериго собираются подозрительные личности, что он, возможно, автор бунтовщических брошюр, а у учеников здешней гимназии есть какое-то произведение Артема Вериги на белорусском наречии.
Разумеется, Верига пинял участие в восстании.
Его приговорили к 8 годам каторги, потом каторгу заменили ссылкой в Восточную Сибирь. Жил в Иркутске, работал на золотых приисках. Пользовался большим авторитетом среди ссыльных. И там вел альбом, писал мемуары и художественные произведения… Дочь Габриеля напрасно пыталась добиться, чтобы отца перевели куда поближе… Вериго-Даревский умер и похоронен в Сибири…
Когда?
По некоторым сведениям, в 1884-м году, но сие недоказано.
Где могила?
По некоторым сведениям, в Иркутске. Но—не найдена…
Что же осталось? Как предупреждал в своей записи в знаменитом Вериговском альбоме Ялегий Прантиш Вуль,
Што табе, дудар, прыспела
Смелы песнi завадзiць?
Цi то лёгкае, брат, дзела
Нашу браццю прасвяцiць?
Крыкнуць на цябе паноўя,
Што ты шкоднiк i мiсцюк, —
Страцiш голас i здароўе
I дуду упусцiш з рук.
Но ведь Адам Киркор называл Вериго-Даревского самым плодовитым, после Дунина-Марцинкевича, писателем. Единственная его книга—стихотворная повесть «Сказ о земляке» была издана в 1858 в Могилеве под псевдонимом «Белорусская Дуда». Но после восстания 1863 года эту книгу о взрослении бедного юноши из трудовой семьи объявили преступной, и Геннадий Киселев с трудом нашел ее в хранилищах вильнюсской библиотеки. Известно, что Вериго написал пьесы, которые до нас не дошли—драму «Гордасць», комедию «Хцiвасць», комическую оперу «Грэх 4-ты—гнеў». Не имея возможности публиковаться на белорусском языке, Вериго под маркой фольклора напечатал отрывок из оперы, а также «Гiмн да абраза цудоўнай маткi боскай бялынiцкай» в варшавском журнале «Рух музычны»: «А можа, вам, браты надвiслянцы, цiкавай будзе паэзiя нашых наддзвiнскiх братоў, сялян Белай Русi? Змяшчаем тут узоры са шчырым пажаданнем, каб вы з iмi пазнаёмiлiся», — обращался к читателям автор публикации под псевдонимом «Беларуская дуда». Он же—автор поэмы «Ахульга» (так называлось селение, откуда родом легендарный Шамиль, предводитель борьбы горцев). Были и многочисленные стихотворения, баллады, публицистические произведения… Известно, что Вериго-Даревский перевел на белорусский язык поэму Адама Мицкевича «Конрад Валленрод». Кое-что ему, как автору, приписывали. Например, такое известное произведение, как «Тарас на Парнасе».
Местонахождение большинства рукописей Артема Вериго-Даревского неизвестно… Было мнение, что их конфисковала полиция и уничтожила—как в свое время исчезла тетрадка стихов «белорусского Бернса» Павлюка Багрима…. Однако Геннадий Киселев считает, что основную часть архива Вериго-Даревскому удалось спрятать. Так что возможны новые находки.
…На портрете, который наиболее часто помещается в энциклопедиях и хрестоматиях, мы видим уставшее доброе лицо… Несмотря на шляхетские усы и бородку—широковатое по-крестьянски… «Беларускi дудар» всматривается в нас, нынешних, не боящихся называть себя белорусами, имеющих свои энциклопедии, книги и журналы и свою страну, о чем он и его товарищи только мечтали…
Как и о том, что мы будем помнить их.
Перекрестки Каратынского
Винцесь Каратынский (1831-1891)
Когда–то Максим Горецкий создал образ белоруса с «двойной душой», чье сознание разрывается между Востоком и Западом, между культурами города и деревни, шляхтой и мужиками. Личность поэта XIX века Винцеся Каратынского, наверное, лучшая иллюстрация этого определения. Скажите честно, уважаемые читатели, ведь не много вы знаете об этом поэте, уроженце Новогрудского уезда, стоявшего у истоков белорусской литературы, из коих истоков мы все испивали согласно предписаниям школьной программы? А между тем жизненно–творческий путь Винцеся Каратынского весьма любопытен. Как всякий путь, изобилующий перекрестками, развилками, странными «петлями»…
Перекресток первый. Крепостной и шляхтянка
Противоречия начались с самого рождения — семья–то получилась уникальная. Отец — Александр Каратай, крепостной крестьянин из деревни Селищи, принадлежавшей Яну Залескому. Мать — шляхтянка, Юзафата из рода Далидовичей. Шляхтянка бедная — из так называемых однодворцев, то есть крепостных не имеющих. К тому же сирота, воспитанная в семье некоего Марка Татаровского — то ли дальний родственник, то ли сердобольный сосед. Но мезальянс все же был страшный. По тогдашним законам, женщина любого звания, даже какая–нибудь княгиня, выйдя замуж за крепостного, сама становилась рабыней. Но, видимо, существовало предварительное «соглашение заинтересованных сторон», потому что перед свадьбой помещик Ян Залеский дает своему крепостному вольную и тот получает облагороженную фамилию — Каратынский вместо Каратай.
В молодой семье один за другим рождаются дети. Винцесь, будущий поэт, затем Ян и Михал. Кстати, любопытно, что в новогрудском костеле не сохранилось записи о крещении первенца Каратынских — тоже факт вопиющий, поскольку такая запись была важным и часто единственным подтверждением личности. И когда спустя 27 лет Винцесь Каратынский захотел жениться, ему пришлось эту запись то ли восстанавливать, то ли подтверждать ее существование задним числом. Кстати, крестным Винцеся был уже упоминавшийся владелец Селищ Ян Залеский. Все это дает пищу для предположений в духе сентиментальных романов.
Хотя дети в семье Каратынских появлялись, вряд ли погоду в доме бывшего крепостного и пани можно назвать безоблачной. Поскольку однажды Александр Каратынский вышел из этого дома, чтобы утопиться в Немане. Тоже по тем временам поступок исключительный, ведь каждый верил, что самоубийством обрекает себя на вечные муки в мире ином.
Через какое–то время Юзафата вышла замуж за своего бывшего опекуна Марка Татаровского.
Перекресток второй. Самоучка и ученый
Не обучался Винцесь Каратынский ни в гимназиях, ни в университетах. Первое время его наставником был местный органист, потом Винцесь сам стал домашним учителем — вначале для своих младших братьев, потом по всей округе разошлась слава об ученом пареньке. Так странствовал он из усадьбы в усадьбу, от одной случайной библиотеки к другой — книги тогда были редкостью, даже в панских усадьбах библиотека могла насчитывать всего пару десятков томов. Переписывал книги от руки; известно, что переписал таким образом «Историю Польши» Лелевеля и «Демона» Лермонтова. Пока по рекомендации одного из случайных знакомых, бывшего униатского священника Давидовича, не попал на должность секретаря поэта Владислава Сырокомли, «лiрнiка вясковага». Библиотека Сырокомли в фольварке Залучье насчитывала почти 400 книг. Богатство неслыханное.
Вот, собственно, и все университеты Каратынского.
Между тем современники свидетельствуют, что знал он из языков белорусский, польский, русский, чешский, французский, немецкий. Плюс освоил латынь. Играл на скрипке. Работал редактором и корреспондентом варшавских и виленских изданий, входил в состав Виленской археологической комиссии и Статистического комитета, редактировал «Словарь польского языка» и т.д.
Перекресток третий. Поэт и секретарь
Каратынский стал секретарем Сырокомли, уже имея на своем счету первые поэтические пробы. Разумеется, личность уже известного, опытного литератора не могла не повлиять на молодого секретаря. Собственно говоря, так он и вошел в историю — как приближенный и последователь… Первая публикация Каратынского сопровождалась отеческим предисловием Сырокомли. И впоследствии «лiрнiк вясковы» не оставляет такого тона, отзываясь о подопечном: «Надзелены ад нараджэння здольнасцю, ад нас, можа, пераняў ён ахвоту да песнi. Пры нас, можа, развiў яе, але развiў самабытна». Хотелось ли Каратынскому когда–нибудь сбросить с себя звание литературного подмастерья? Кто знает… После смерти наставника в 1862 году Каратынский составил десятитомное собрание его поэзии. Труд, как вы понимаете, немалый и свидетельствующий об искреннем уважении.
Кстати, любопытно, что век спустя другой поэт, Александр Каратай («исходная» фамилия Каратынского!), известный под псевдонимом Максим Лужанин, стал секретарем другого «лiрнiка вясковага» — Якуба Коласа.
Перекресток четвертый. Литвин и белорус
Это был самый больной вопрос для талантов нашего Отечества. Понять, кто ты. Простого ответа не существовало, поскольку не существовало Беларуси как таковой. Были «крэсы ўсходнiя» Польши либо «Северо–Западный край» России. Лучшие из поколения понимали несправедливость происходящего. Они слышали вокруг себя «мужицкую» речь, прекрасные поэтические песни и легенды на ней… «Несуществующий» язык жил… Известны три стихотворения Винцеся Каратынского на белорусском языке. Причем одно из них написано к приезду российского царя Александра II и содержит призывы к торжественной встрече. Вот только дар царю предназначен какой–то странный: «жоўценькi пясочак». Не тот ли, из одноименного рассказа Василя Быкова, в который легли рядом расстрелянные белорус и русский, коммунист и белогвардеец, предатель и герой… Да и обращение к царю на запрещенном языке тоже необязательно было простодушием провинциала.
Винцесь Каратынский, как и Адам Мицкевич, называл себя литвином. Однако в альбом Целины Киркор он пишет пропольское патриотическое стихотворение. В альбом Вериги–Даревского — белорусское. В стихотворении, посвященном русскому царю, усматривали верноподданические мотивы. При этом поэту приписывается авторство двух антиправительственных произведений на белорусском языке — «Гутарка старога дзеда» и «Гутарка двух суседзяў». По свидетельству сына поэта, таких произведений имелся целый цикл. Да и оригинал самого крупного произведения Каратынского, поэмы «Тамила», возможно, был белорусский.
Разгром восстания 1863 года стал для Каратынского крахом надежд. Друзья, в том числе Вериго–Даревский, — на каторге, в тюрьмах. Самому Каратынскому удалось уцелеть. Он уехал в Варшаву и жил там до смерти, работая в местных изданиях. В 1864 году в белорусском стихотворении «Туга на чужой старане» он напишет:
Паглядаю праз аконца —
Чоран белы свет;
Усiм людзям свецiць сонца —
Мне прасветку нет.
Бо за мною, прада мною
Поўна божых сёл.
Усе ў грамадзе ды з раднёю —
Яадзiн, як кол.
Адарвалi сiрацiну
Ад сваёй зямлi,
Даўшы розум, харамiну,
Шчасця не далi…
Я не смею прытулiцца
Нi к яму, нi к ёй:
Харамiна — чужанiца.
Розум — вораг мой.
Это стихотворение стало песней, популярной в среде белорусской демократической интеллигенции. И еще одним Каратынский эту среду одарил. Именно он был одним из отцов–основателей «аплакваючай плынi» нашей литературы. То есть вечной тоски о бедных нивах, хатках, селянах и т.п., которая заставила в свое время Вацлава Ластовского развязать дискуссию о праве искусства на «чыстую красу», а молодого Максима Богдановича воскликнуть: «Кiнь вечны плач свой па старонцы!»
Каким же он был на самом деле? А был он, надо полагать, типичным белорусом. И стоит ли сейчас спорить, какая культура более имеет права на него и подобных — польская, белорусская? Тот, кто жил на своей земле, думал о ней, страдал ее печалями, достоин, чтобы называться ее сыном.
Странствующий нигилист
Войнислав Савич-Заблоцкий (1850-1893)
Однажды в Центральном историческом архиве УССР во Львове были обнаружены любопытные письма. Адресовались они известному украинскому ученому XIX века Драгоманову. Имя их автора звучало очень аристократично: Войнислав Савич-Заблоцкий. А любопытны письма тем, что написаны в 1886 – 1887 годах на белорусском языке.
И сегодня можно найти статьи, которые начинаются с печального «О В.К.Савич-Заблоцком известно немного». Называют его польским литератором и знают в основном по переписке – не только с Драгомановым, но и с этнографом Пыпиным, композитором Кюи, писательницей Марией Конопницкой.
Но прочитайте хотя бы перечень его псевдонимов: грамадзянiн з Белай Русi, граф Cулiма з Белай Русi, Павел Завiша, Гаврила Полоцкий. Согласитесь, даже не зная, о ком речь, можно предположить, что человек имел прямое отношение к Беларуси.
Его называют первым нашим нигилистом. А еще сравнивают с авантюристами XVIII века – во всяком случае, по характеру был он именно такой, мятежный любитель приключений и путешествий.
Интересно, что в истории белорусской литературы есть еще два персонажа с похожими именами: Франц Савич, осужденный повстанец, и поэт Тадеуш Лада-Заблоцкий. Наш герой как бы объединил их имена.
Впрочем, сам он называл себя еще более торжественно: «Войнислав Казимир Константинович Сулима-Савич-Заблоцкий». Не зря историк Геннадий Киселев писал: «Любiў ахутаць свой жыццяпiс вэлюмам фантазii i шматзначнасцi В.Савiч-Заблоцкi. Ён называў свой род графскiм, паводле яго слоў, мацi яго паходзiла з княжацкага роду. Гэта не знаходзiць пакуль пацвярджэння ў архiўных дакументах, звязаных з яго дзяцiнствам. У аўтабiяграфiчнай нататцы пiсьменнiк падае, здаецца, дакладную дату нараджэння – 3 сакавiка 1850 г., але паводле iншых матэрыялаў можна меркаваць, што ён быў, прынамсi, на год старэйшы».
Итак, Войнислав родился в имении Панчаны Дисненского уезда Виленской губернии. Он утверждал, что мать происходила из рода князей Святополк-Мирских, хотя называлась она в документах просто Станиславой Ивановной Мирской. Отец, Константин Викентьевич, слыл среди соседей опасным вольнодумцем – даже составлял планы по освобождению крепостных. Но помешала ранняя смерть.
Маленький Войнислав попал на воспитание к деду, Викентию Заблоцкому, в имение Николаево Городокского уезда. И все его детство прошло под знаком тяжб между матерью и дедом. Предметом раздора стал и сам мальчик – видимо, опекунство над ним было связано с имущественными правами. Борьба между родственниками шла с переменным успехом. И до воспитания малыша дела не было никому. Так что он рос, общаясь в основном с простыми людьми, дворней. Именно о белорусах Савич-Заблоцкий потом напишет в письме к Драгоманову: «…чорны люд наш, гэтая душа нашага цела, да самасвядомства прыходзiць, што гэты люд дзелаецца ўжо сiлай, што дзвiне мёртвую датоля масу нашу…»
Савич-Заблоцкий отправляется на учебу в Виленскую гимназию. А потом становится «вольным студентом», ездит по Европе. Конечно, красиво звучит перечисление городов, где он учился, – Прага, Лейпциг, Страсбург, но на самом деле речь идет о кратковременном обучении в статусе вольного слушателя: скорее всего, у юноши просто не было средств оплатить нормальную учебу.
Мы знаем, что в 1868 году, то есть в восемнадцатилетнем возрасте, Савич-Заблоцкий оказывается в Санкт-Петербурге. С этим связан важный эпизод истории белорусской литературы. Известен он со слов самого Заблоцкого. Тогда в Санкт-Петербурге был создан культурно-просветительский кружок «Крывiцкi вязок». В него входил, а возможно, был его создателем юный Войнислав. Цель кружка – издание книг, собирание фольклора, подготовка словаря белорусского языка.
Но в Российской империи, да еще после подавления нескольких восстаний, отношение к культурам «окраинных народов» было определенное… «Крывiцкi вязок» запретили, участников обвинили в «социализме и пропольских симпатиях».
За подобное могла последовать самая суровая кара. Но с Савич-Заблоцким обошлись довольно мягко. Он оказался в Варшаве, под наблюдением полиции. Видимо, «Крывiцкi вязок» просто не успел проявить себя какими-то существенными проектами.
До конца жизни Савич-Заблоцкий пытается заработать литературной деятельностью.
Но для нас самое важное – что Савич-Заблоцкий пишет на белорусском языке. Он посылает в редакцию петербургского журнала «Вестник Европы» три стихотворения: «З чужбiны», «У роднай зямлi» и «Да перапёлкi». «О брацця! Як смутна мне. Скажыце, прашу вас, цi гэта страна ёсць Русь наша Бела, цi не?» – вопрошает автор в одном из стихотворений. К поэзии прилагалась статья, в которой доказывалось, что белорусский язык имеет древнюю историю, что его нужно разрабатывать, придавать ему литературную форму.
К тому времени мать Савича-Заблоцкого растратила имущество, Войнислав остался без копейки…
И в духе авантюристов XVIII века отправился странствовать по Европе. Поначалу отъехал недалеко – во Львов, где свел знакомство с революционерами Б.Лимановским и А.Гилером, потом в Тарнуве редактировал польскую газету «Звезда»… Видимо, молодой человек просто не мог не нарываться на неприятности, потому что в 1876 году его уже высылают из Кракова «за социалистические происки».
Савич-Заблоцкий отправляется далее. Живет в Германии, во Франции, на Корсике, даже в Египте. Он, как велось у аристократов, свободно владел несколькими языками, поэтому хватается за любую журналистскую работу, читает лекции по истории славянских языков. Но еще и пишет. В Праге – поэму «Аповесць пра мае часы», в которой описывает Беларусь накануне восстания 1863 года. В Париже дарит поэту Б.Залесскому стихотворение «Беларуская пея» (то есть песня). В Познани печатает повесть «Арлалёты i Падканвойны, або Полацкая шляхта» (она была опубликована в переводе на белорусский язык в 2004 г. в журнале «Полымя»).
А вот о чем Савич-Заблоцкий сочиняет в Египте: «О Дзвiна, Дунай маёй Айчыны, самая дарагая рака на свеце! Табе я ўдзячны за рытмы маiх песняў!»
Но к 1887 году поэт, который в то время жил в Брюсселе, устал скитаться и нищенствовать. И Савич-Заблоцкий принимает решение: покаяться перед властями и вернуться на родину. Видимо, первым шагом стала брошюра под красноречивым названием «Еще Польша не погибла, пока жива Россия». Польская эмиграция была возмущена. Но Савич-Заблоцкому разрешили вернуться. Разумеется, под тайное наблюдение полиции.
Поначалу он даже получает работу – помощника редактора иностранного отдела газеты «Виленский вестник». Но если Савич и надеялся обустроиться на родине, то ошибся. Через год пришлось перебраться в имение тетки в Губно Лепельского уезда. Заблоцкий ведет активную переписку с учеными и чиновниками. Но характер у нашего героя по-прежнему нигилистический. Известно, что Савич-Заблоцкий гостил у белорусского ученого Наркевича-Йодко в имении Над-Неман. Наркевич-Йодко имел прозвище Ловец молний. Он изучал электричество, проводил уникальные и масштабные эксперименты, был, можно сказать, белорусским Николой Теслой. Савич-Заблоцкий с интересом осмотрел его метеорологическую станцию… Но общение кончилось крупной ссорой гостя и хозяина, сведения о чем даже попали в газету «Минский листок» за 11 октября 1891 г.
В 1891 году Савич-Заблоцкий перебирается в Петербург. Поселяется по адресу: Невский проспект, дом 51, квартира 503. Входит в Славянское благотворительное общество, сводит знакомство с историками К.Бестужевым-Рюминым, В.Бильбасовым, П.Батюшковым, редактором журнала «Русская старина» М.Семевским. И, наконец, переходит в православие, как он сам пишет, «з намерам далучыцца да праваслаўнай царквы, веравызнання яго беларускiх продкаў». Но и это не дает благополучия. В одном из писем, адресованных его покровителю, товарищу министра просвещения, бывшему попечителю Виленского учебного округа И.Корнилову, Савич-Заблоцкий пишет: «До сих пор у меня нет еще занятия, в котором я, лишенный материальных средств, нуждаюсь».Бывший диссидент начинает распродавать собранные им уникальные рукописи и документы, в том числе мемуары Тизделя, английского мореплавателя, служившего при Екатерине II. Журналистика особо не кормит. В 1892 году в журнале «Благовест» напечатали очерк Заблоцкого «Шчаслiвейшая Марыся» из серии «Белорусские очерки». Но в «Биржевых ведомостях» переведенный с польского языка текст «Петруша» печатать отказались – из-за нелитературности языка. Именно этот документ – письмо редактора «Биржевых новостей» М.Коншина от 3 февраля 1893 года и служит ориентировочной датой смерти Войнислава: он умер вскоре после этой даты.
Не ради славы иль расчета…
Ян Неслуховский (1851-1897)
История о поэте в пяти мифах
На Кальварийском кладбище обязательное место паломничества—скромная могила, на которой лежит черная гранитная плита с выбитыми буквами. Нас приводили туда еще школьниками, и было странно понимать, что тут, рядом с нашими «хрущевскими кварталами», под этими старыми клёнами, в кронах которых образовалась «воронья слободка», похоронен настоящий поэт… Родившийся здесь, в Минске, полтора века назад. Стихи из учебника—а тут запущенное городское кладбище, в то время как будто не имевшее истории.
История потихоньку возвращалась к нам. Вначале ее нужно было самостоятельно вычитывать между строк, потом начался информационный бум, и мы узнавали о забытых поэтах и философах, художниках и просветителях, живших на нашей земле, работавших во имя ее. Но о поэте, лежащем под гранитной плитой Кальварийского кладбища, до сих пор большинство знает предельно мало, почти до лаконичной строки на упомянутой плите: «поэт-демократ»…
Миф первый. Пан сохи и косы.
1886 год. На улицах Минска люди прямо на улицах обнимаются и плачут от радости, передавая друг другу какие-то странички… Нам, детям эпохи, болеющей несварением информации, трудно понять эту радость, потому что причиной ее было появление на свет новой газеты—«Минского листка». На первой странице—стихотворение, определяющее позицию издателей:
Не ради славы иль расчета
Предпринимаем мы «Листок»,
Святая истина—забота
И цель его печатных строк:
Служить стране, глухой, забитой,
Где мрак невежества царит,
В лачуге, где, соломой крытой,
Мужик печально дни влачит…
Автором стихотворения был потомственный минчанин, служащий технического бюро Либаво-Роменской железной дороги в Минске Иван Неслуховский. Вскоре в том же «Минском листке» было напечатано его стихотворение на белорусском языке. Поскольку писал Иван Неслуховский на трех языках—белорусском, русском, польском, кроме того, владел еще несколькими, так что переводил с оригинала Гомера и Гейне… Белорусские тексты он подписывал псевдонимом Янка Лучына, созвучным с иными именами возрождающейся национальной литературы: Карусь Каганец, Янка Купала, Якуб Колас… Однако на самом деле это производное от имени шляхетского рода Лучивко-Неслуховских.
Тех, кто вынес из школы представление об очередном «пане сахi i касы», удивит иной образ поэта: городской интеллигент в шляпе и очках, выпускник Петербургского университета, критикующий философию Шопенгауэра, известный театрал. Именно Ивану Неслуховскому поручалось приветствовать со сцены городского театра приезжающие на гастроли труппы от имени всех минчан. Неслуховские не были слишком богаты, но арендовали имение Мархачовщина под Столбцами. Имение, кстати, ранее арендовал отец поэта Сырокомли, а для Янки Лучины Сырокомля был настоящим кумиром.
Миф второй. Инвалид-симулянт.
Наверное, для минчан конца позапрошлого века Иван Неслуховский был фигурой такой же узнаваемой, как скульптура мальчика с лебедем фонтана Александровского сквера. Молодой, красивый, интеллигентный и… калека.
Это случилось то ли в 1879, то ли 1980-м. После посещения очередного концерта молодой инженер упал прямо на крыльце театра. Оказалось—паралич. Поэту было около тридцати лет. С тех пор он передвигался только на костылях, точнее, опираясь на две палки… Что, впрочем, не мешало ему проводить много времени в имении Мархачовщина, где он отнюдь не сидел в вольтерьянском кресле, но занимался охотой, рыбалкой, плавал в Немане… Что дало возможность некоторым критикам предполагать, что болезнь была… симуляцией.
Когда-то отец Янки Лучины, секретарь Минской палаты гражданского суда, находился под строгим надзором полиции—в доме Неслуховских по улице Юрьевской, 23 собиралась интеллигенция, звучали «крамольные» речи… Хозяина подозревали и в причастности к восстанию. Это не могло не отразиться на судьбах детей. В Петербурге Янка Лучина поддерживал связи с вольнодумцами, кстати, нередко вел беседы с Игнатом Гриневицким, совершившим покушение на царя. Не успев получить на руки диплом, попадает по распределению на работу в далекий Тифлис, в главные железнодорожные мастерские. Почему именно в Тифлис? Не исключено, что «закрепиться» в Минске мешала именно неблагонадежность семьи. Вот в один из приездов домой Ивана Неслуховского и разбивает паралич. Не потому ли, что не хотелось ехать назад, на чужбину? Ведь в Мархачовщине, на природе, больному хватало сил ходить на охоту… Гипотеза рискованная. Вряд ли можно принимать ее на веру однозначно. В конце концов, Неслуховский умер рано—в 46 лет, то есть здоровье было подорвано. Да и столько лет обманывать весь город?..
Миф третий. Знакомство с Максимом Горьким.
Собственно говоря, миф этот опирается только на записанную со слов свидетелей сцену. В поезде, на перегоне Минск-Негорелое Алексей Максимович расспрашивал попутчиков-белорусов о национальных писателях: как, мол, Максим Богданович поживает? Умер? Жалко… А Янка Лучина? Когда-то был лично с ним знаком… Тоже умер? Надо же…
Знакомство двух литераторов состояться могло—в то время, как Неслуховский работал в Тифлисе, там же, на железной дороге, в качестве пролетария подвизался и Алексей Пешков. Историю об этом «вытащили» на свет во времена господствующего соцреализма—благословение Максима Горького уподоблялось творческой индульгенции. До сих пор цитируют высказывание Горького о хороших белорусских хлопцах Купале, Колосе и др., пишущих просто, душевно… Правда, цитируя, опускают еще один произнесенный эпитет – «примитивно». Что ж, возможно, свежеиспеченный инженер и босяк-самородок действительно встречались. Но почему-то больше никаких свидетельств этому—ни у Горького, ни у Лучины, ни в воспоминаниях современников—нету.
Миф четвертый. Младший брат Франтишка Богушевича.
Именно так трактовали его советские литературоведы. Даже современники считали Лучину поэтом «второго ряда». Максим Горецкий утверждал, что в его поэзии нет «той выразнасцi матываў i таго багацця фарбаў, што ў Багушэвiча». В некрологе авторства Алексея Свентоховского из варшавской «Правды» говорится: «У Менску памёр чалавек, якога не ведала шырокая грамадскасць, якога гiсторыя лiтаратуры не ўвекавечыла на сваiх старонках, а пасля смерцi часопiсы не прысвяцiлi яму нават дробнай нататкi. Стоячы ўдалечынi, на ўзмежку, ён не быў фаварытам, не меў падтрымкi… Хаця ў сваёй душы ён хаваў i талент, i запал». Так ли все это? Да, стихи Лучины действительно несовершенны. Но вот литературовед Владимир Мархель так отзывается про образ старого лесника Гришки из белорусскоязычного варианта фрагмента поэмы «Паляўнiчыя акварэлькi з Палесся»: «Роўных яму паводле маштабу i ўзроўню мастацкага абагульнення… нi ў беларускай лiтаратуры, нi ў iншамоўнай лiтаратуры Беларусi другой паловы XIX ст. няма». Кстати, критик Сергей Дубовец считает, что оригинал этой польскоязычной поэмы был на белорусском языке. Многое из наследия Неслуховского до нас просто не дошло—например, поэмы на белорусском «Пятруся», «Вiялета», «Гануся», «Андрэй». Возможно, некоторые тексты до сих пор анонимны. Эссе «З крывавых дзён», ярко описывающее события в Минске времен восстания Калиновского, издано в Кракове в 1889 году, но только недавно Адамом Мальдисом установлено авторство Лучины. Именно из стихотворения Янки Лучины «Роднай старонцы» взят эпиграф к фундаментальному труду Ефима Карского «Белорусы». Есть версия, что в последней строфе стихотворения вместо слова «наука» должно было быть слово «свобода»:
«Сонца навукi скрозь хмары цёмныя
прагляне ясна над нашаю нiваю.
I будуць жыць дзеткi патомныя
Добраю доляй—доляй шчаслiваю».
Из этих строк рождены названия трех белорусских газет. Кроме того, был поэт—редкое явление! — по настоящему скромен. Например, писал Митрофану Довнар-Запольскому: «Мысль об издании моих белорусских стихоплётных начинаний особыми брошюрами давно уже приходила мне в голову, от многих моих знакомых я тоже слышал её неоднократно. В сущности однако, мне кажется, нет у меня ничего оригинального, что стоило бы особых затрат и хлопот на издание».
Миф пятый. Болгарский белорус.
Тем не менее книга была издана. Уже после смерти поэта, в 1903 году, в Петербурге, усилиями «Гуртка беларускай асветы». Средства на сборник собирались в Минске, на благотворительном вечере—там показывалась комедия Крапивницкого «Пашылiся ў дурнi». Но существование белорусского языка в Российской империи не признавалось. Более того—печатание на нем было под запретом. И издатели обозначили язык сборника как болгарский. И ничего—сборник «Вязанка» был опубликован. Среди отзывов имелись довольно злые—например, «Могилевский вестник» назвал книгу «псевдонародной литературой», которую никто не понимает. Но «Вязанка» под своей «болгарской» вывеской ходила из рук в руки, цитировалась, вызывала искренне восхищение и благодарность… В биографии поэта много белых пятен. Практически ничего не известно о его личной жизни, о том, жив ли кто-то из рода Неслуховских. В имении Мархачовщина—памятные знаки Лучине и Сырокомле, но колхоз носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Между тем белорусский ученый Александр Власов называет Янку Лучину в своих мемуарах «святой памяцi iнжынерам Янкай Неслухоўскiм», и вспоминает: «Калi я быў вучнем, вечнай памяцi пясняр гэты прыязджаў у м. Карлзберг да майго швагра археолага Андрэя Снiткi на паляванне». Не забудем и мы «вечнай памяцi песняра». Навестите поэта на Кальварийском кладбище. Его могила—возле дороги, ведущей влево от костела. Рядом—памятники других Неслуховских: отца, матери… Старинные, с железными крестами. Эти кресты когда-то сбили местные варвары… Теперь могилы, к счастью, не производят впечатления заброшенных. Ведь трудно уважать народ, который забывает своих поэтов.
Сказочник со Слутчины
Александр Сержпутовский (1864-1940)
Имя этого человека для меня — с привкусом тайны…
Почему? Биография его сухо и уверенно изложена в энциклопедии. Особыми трагедиями не отмечена. Дожил до возраста преклонного… А на фоне бурной эпохи это уже — благоприятствование судьбы.
Возможно, ощущение начинается с самой профессии Александра Казимировича — с тех томов белорусских сказок, легенд, преданий, поверий, записанных им… Помните повесть «Дзiкае паляванне караля Стаха», как главный герой, фольклорист Андрей Белорецкий, ездит по белорусской глуши, собирая легенды, как сталкивается с подозрительностью и непониманием, а с другой стороны — с настоящей мистикой и народными поэтическими сокровищами? Даже называться фольклористом опасается — потому что его часто принимали при этом за «мазурика». Так вот, Владимир Короткевич, когда выписывал образ талантливого разночинца Белорецкого, не мог не вспоминать и Казимира Сержпутовского… Который, как скупо сообщают исследователи, много путешествовал по труднодоступным местам Беларуси, среди болот, притоков Припяти… А с 1907 по 1917 год совершил 17 экспедиций не только по Беларуси — по Литве, Польше, Украине, Кавказу…
Наверное, Сержпутовский, как и Андрей Белорецкий, мог сказать о себе: «Паступова я зразумеў, хто я. Што прымусiла мяне зрабiць гэта?
Можа, цёплыя агнi вёсак, назвы якiх i дагэтуль нейкiм цёплым болем уваходзяць у маё сэрца: Лiпiчна, Сорак Татар, Бярозава Воля, урочышча Разбiты Рог, Памярэч, Дубрава, Вавёркi?
А можа, начлег на поплаве, калi дзецi баюць казкi i драма крадзецца да цябе праз кажух разам з холадам? Цi мурожны пах маладога сена i зоры праз прадзёртую страху адрыны?
Або нават i не яны, а проста хвойная iглiца ў чайнiку, дымныя чорныя хаты, дзе жанчыны ў андараках прадуць i пяюць бясконцую песню, падобную на стогн».
У семьи Сержпутовских и земли–то не было. Отец работал лесником, сплавщиком леса… Семья переезжала с хутора на хутор, в полесской глуши… Возможность почувствовать поэтичность своей земли была. К тому же Александр родился в 1864 году — в истории Белоруссии этот год отмечен разгромом восстания Кастуся Калиновского. Я не знаю, была ли связана с восстанием семья Сержпутовских, симпатизировали ли они инсургентам. Но эпоха не могла не отразиться и на их судьбе. После восстания были официально запрещены наименования «Белоруссия» и «белорусы», на наших землях не было никакой возможности получить высшее образование, а выезжать учиться за рубеж тоже запрещалось. Талантливые юноши ехали в Москву или Петербург. В Петербурге оказался и Казимир Сержпутовский… Но до этого ему пришлось долго выбиваться в люди. Ведь он был частью народа, культуру которого ему предстояло прославить. У Александра имелась уличная кличка — Шарпат, именно так он подписал впоследствии свою статью об открытии в Петрограде этнографического музея с богатыми белорусскими коллекциями, возможно, подчеркивая тем, что не отрекается от своих корней и в центре столичной науки. В городе на Неве в то время было много образованных «свядомых» белорусов, именно там печатались книги Янки Лучины и Франтишка Богушевича… Там Александр даже преподавал в белорусской школе для молодежи.
Итак, путь наверх… Талантливый юноша (уже в пять лет, кстати, он хорошо читал) окончил Вызненское народное училище и Несвижскую учительскую семинарию, в которой обучались многие белорусские «возрожденцы», в том числе Якуб Колас. Была работа сельским учителем, писарем… Потом Сержпутовский стал работать на Минском почтамте и одновременно учился в Петербургском археологическом институте и на высших юридических курсах… А с 1906 года и до пенсии занимал должности в этнографическом отделе Русского музея Петербурга, впоследствии Ленинграда.
Знаете, я думаю, что именно то, что Сержпутовский работал не в Минске, а в Ленинграде, и позволило ему пережить 30–е годы и уцелеть в пожаре сталинских репрессий… Старая профессура, коллеги Сержпутовского арестовывались, ссылались… Историк и этнограф Митрофан Довнар–Запольский, практически ровесник Сержпутовского, был обвинен в «нацдемовщине», лишился работы, уехал — и умер от сердечного приступа. Филолог Иван Замотин погиб в тюрьме. Историк Вацлав Ластовский расстрелян. Все названные были академиками. Впрочем, и президент Белорусской академии наук историк Всеволод Игнатовский после одного из допросов в ГПУ застрелился. В Ленинграде, конечно, тоже было неспокойно — академика Ефима Карского, автора фундаментального труда «Белорусы», сняли с должности директора института этнографии и фольклора… Но в Белоруссии Сержпутовскому легко могли «пришить» серьезное политическое дело. В среде творческой интеллигенции были очень популярны его сборники, сюжеты из них активно использовались. Владимир Дубовка, например, переосмыслил записанные Сержпутовским сказки белорусов–полешуков в своей поэме «Штурмуйце будучынi аванпосты». В сказку о черте и музыканте вложил весьма конкретный подтекст: в образе «музыкi», который уступает черту свою скрипку и в результате утрачивает дар музыки, выведен, по утверждениям критиков, не кто иной, как Якуб Колас, а в образе беса — те, кто убивает дух творчества…
Александр Казимирович дружил с Янкой Купалой, много его стихов знал наизусть. В журнале «Чырвоны шлях» сотрудничал с Якубом Коласом и Тишкой Гартным. Да и сам писал — например, серию статей «Малюнкi Беларусi» под псевдонимом Навум Смага о тяжелом быте белорусов.
Это только кажется, что собирательство фольклора — занятие столь же безобидное, как ловля бабочек.
Каждый сборник Сержпутовского доказывал: белорусы — удивительно талантливый и, главное, самобытный народ. Вот отрывок из книги «Прымхi i забабоны беларусаў–палешукоў», из главы «Установы грамадства»: «Хто з кiм таварышуе, той таго заве на вы, а не на ты… Праводзiць трэба на двор, а то аж за вароты — каб госць не абiджаўся; у гасцях не можна вельмi шмат есцi i пiць; калi хто пераначуе, то яго не можна выпускаць з хаты, пакуль не паснедае». Согласитесь, такой народный этикет никак не свидетельствует о «дикости нравов»… А всего у Сержпутовского было 45 фундаментальных работ, не считая статей. Сколько народных гениев повстречал фольклорист и сохранил для нас память о них! Например, Ивана Цимбалиста, который мог своей игрой заставить смеяться или плакать, или сказочника по фамилии Редкий из деревни Великий Рожан, прожившего 115 лет. Снова хочется процитировать Андрея Белорецкого: «Тады тут быў этнаграфiчны рай, хоць казка, а асаблiва легенда, як найбольш нетрывалыя прадукты народнай фантазii, пачалi забiрацца ўсё далей i далей, у мядзведжую глуш.
Я пабываў i там, у мяне былi маладыя ногi i маладая прага. I чаго мне толькi не даводзiлася бачыць!
Бачыў я цырымонiю з заломам, крапiўныя святкi, гульню ў забытага нават тады «яшчура». Але найбольш бачыў я апошнюю бульбу ў мiсе, чорны, як зямля, хлеб, соннае «а–а–а» над калыскай, вялiкiя выплаканыя вочы жанчын.
Гэта была вiзантыйская Беларусь!
Гэта быў край паляўнiчых i намадаў, чорных смалакураў, цiхага, такога прыемнага здалёк, звону забытых цэрквачак над дрыгвой, край лiрнiкаў i цемры».
Владимир Короткевич в эссе «Зямля пад белымi крыламi» упоминает «цiкавейшыя палескiя запiсы А.Сержпутоўскага, дзе кожная казка — дыямент, так што, чытаючы, i наплачашся i нарагочашся».
Самая печальная тайна Сержпутовского — судьба его рукописей. Многие из них были вывезены фашистскими оккупантами в Германию вместе с архивами Белорусской академии наук, и следы их потерялись. Не сохранился сборник «Песнi Магiлеўшчыны». Не уцелела самая большая работа Сержпутовского — «Быт беларусаў». Еще до революции Александр Казимирович был награжден малой золотой медалью отделения этнографии Русского географического общества за сборник белорусских пословиц со словарем. Текст состоял из 6.225 реестровых единиц на 260 страницах плюс 158 страниц словаря. Сохранились похвальные отзывы об этой работе… А рукописи нет! В конце 1918 года Сержпутовский передал в отделение русского языка и словесности АН СССР «Кароткi слоўнiк беларускай дзiцячай мовы». Словарь должен был выйти под редакцией академика Карского… Догадайтесь, какова судьба этого творения? Да, тоже полная неизвестность… Но когда вы читаете своим детям чудесную белорусскую сказку, возможно, в этом есть заслуга спасшего ее от забвения фольклориста Александра Сержпутовского.
Украденная Джоконда и фонарь Диогена.
Карусь Каганец (1868-1918) , Гийом Аполлинер (1880-1918)
1864 год. Восстание под предводительством Кастуся Калиновского разгромлено… Решаются судьбы уцелевших повстанцев, среди которых –шляхтичи Костровицкие. Двоих ссылают в Сибирь. Их родичу, Аполлинарию, удается эмигрировать в Италию.
У сосланного в Сибирь Кароля Костровицкого и его жены, Юлии из Свенторецких в 1868 году, в городе Тобольске рождается сын Казимир. Впоследствии он возьмет псевдоним Карусь Каганец.
Дочь эмигрировавшего в Италию Аполлинария Костровицкого Анжелика в 22 года временно свяжет судьбу с итальянским офицером Франческо д’Эспермоном. В 1880 г. у нее родится сын Вильгельм, впоследствии взявший псевдоним Гийом Аполлинер.
«Причудливо тасуется колода», — глубокомысленно произносил персонаж из «Мастера и Маргариты», намекая на переплетение судеб в истории рода. «Да, кровь…» – ответствовал другой персонаж. Поэтому, наверное, не стоит удивляться, что из одного и того же рода вышли классики французской и белорусской литератур…
Некая печать отверженности, неустроенности с самого начала возникла в судьбе маленького Гийома… Зарегистрирован он был как Дульчини, ребенок от неназванных родителей. Его мать, властная красавица Анжелика, пользовалась репутацией «красивой авантюристки». Она играла в казино в Ницце, в Монако, в Каннах, переводя маленького сына из лицея в лицей… Из пансионата бельгийского городка Ставло Гийому и его брату приходится по приказу матери ускользнуть тайно, не уплатив за проживание и обучение. Там же, в Ставло, вспыхнула первая несчастливая любовь Гийома – к француженке Мари Дюбуа, и появились его прекрасные лирические стихи…
Всю жизнь Гийом Аполлинер будет страдать от своего неопределенного статуса, будет отчаянно и безуспешно добиваться от окружающих любви, уважения, наконец – французского гражданства… Видимо, эта неопределенность породила любовь Гийома к мистификациям. Он распускал слухи о своем необыкновенном происхождении – то от Наполеона, то от папы римского. А как-то придумал мифическую поэтессу Луизу Лаллан, стихи которой авторства Аполлинера целый год будоражили публику…
В год, когда родился Гийом, его родственник, 12-летний Казимир Костровицкий, живет уже на Беларуси, в деревне Юцки возле Койданово. Получить образование сыну повстанца непросто. Но у Казимира прекрасные способности скульптора, художника… В 1890-х он поступает в Московское училище живописи, скульптуры и зодчества. Потом, по некоторых сведениях, учится в Петербурге…. Когда появляется своя семья, селится в урочище Лисьи Норы в Примогилье, подзарабатывает то в художественной мастерской в Риге, то на строительстве железной дороги в Лиде, то в минской чайной… Рисует, лепит, пишет…. Но дело его жизни – возрождение белорусской культуры. Не зря он взял себе такой псевдоним – Каганец… Маленький светильник, освещающий деревенскую хату. На снимках мы видим человека с острым профилем, грустным взглядом из-под прямых бровей… Лицо интеллигентное, нервное, с печатью внутреннего упорства… Преодолевать приходилось и собственные хвори. Еще в Тобольске, младенцем, Казимир упал с высокого окна и сильно покалечился. Потом, уже на Беларуси на него свалились тяжёлые ворота… У мальчика вырос горб. Вот как описывает Каганца белорусский ученый Степан Александрович: «Зiмою ён звычайна быў у жоўтым кажусе, падпяразаным поясам, у высокай аўчыннай шапцы, у юхтовых ботах. Паверх палатнянай кашулi насiў суконную свiтку, каб не так кiдаўся ў вока горб. З усiмi, нават панамi i падпанкамi, гаварыў ён толькі па-беларуску. Ва ўсёй яго постацi i ў аблiччы адчувалася моцная сiла чалавека працы, з глыбокiм перакананнем гаварыў ён любiмыя словы: “Беларусь трэба падымаць!”
Карусь Каганец участвует в создании «Беларускай сацыялiстычнай грамады», составляет «Беларускi лямантар», анонимно изданный в 1906 году в Петербурге, обрабатывает народные легенды и предания… Не зря про Каганца существовала легенда, что днями он ходил по улицам Минска с фонарем и, подобно Диогену, который так же искал с фонарем человека, отвечал, что ищет белоруса…
В 1905 году Каруся Каганца первый раз посадили в минский Пищаловский замок – за революционную агитацию среди крестьян Койданово.
В это время Гийома Аполлинера переполняют творческие замыслы, он мечтает о большой любви… Тем более облик Гийома идеально совпадает с обликом романтического героя: он крепкого, стройного сложения, «античный профиль, голова – как у императора позднего Рима»… Но англичанка Анни Плейден, гувернантка, которую Аполлинер полюбил в бытность свою учителем французского в замке графини Элеоноры Мильгау, убегает в Америку от странного кавалера… Не отвечает на чувства поэта и юная аристократка Линда Молина да Сильва. Если мы почитаем отзывы современников о характере Аполлинера, то в какой-то степени сможем оправдать жестокосердых дам его сердца. «Впечатлительный, наивный»; «тиран, самодур»; «внутренне чистый, простой»; «блестящий собеседник», «певец меланхолии»… Неизвестно, кому верить, но понятно, что характер непрост.
Аполлинер становится частью парижской богемы. Дружный «триумвират» – Пабло Пикассо, поэт Макс Жакоб и Аполлинер – в центре скандалов и журналистского внимания. В 1906 году Аполлинер начинает писать свой «Бестиарий» – сборник причудливых стихотворений о зверях из свиты Орфея. Но, чтобы прожить, занимается созданием порнографических романов типа «Одиннадцать тысяч розог».
1910-11 года для обоих Костровицких были успешными творчески и… трагическими. В Полоцке и Вильне Первая белорусская труппа Игната Буйницкого показывает водевиль Каруся Каганца «Модны шляхцюк»… Весной 1910 г. виленская судебная палата приговорила Каганца к году тюрьмы все за то же – революционная пропаганда. В Пищаловском замке Каганец оказывается вместе с Якубом Коласом и даже рисует иллюстрации к его произведениям… «Не ў багацтве шчасце, а ў чыстым сумленні. І лепей, што нашы дзеці разумецьмуць, што ё гора на свеце, нечага другім будуць спагадаць», — пишет Каганец из тюрьмы жене и четверым детям.
У Аполлинера выходит «Бестиарий». Цикл новелл «Ересиарх и К» выдвигают на Гонкуровскую премию… Но и Гийом, как его белорусский родственник, попадает за решетку. По подозрению в краже… «Джоконды» Леонардо Да Винчи.
21 августа 1911 года служители Лувра не обнаружили картину на месте… Скандал разгорелся невероятный. В преступлении подозревали и германского кайзера Вильгельма II, и американского миллиардера Моргана… Наконец пресса остановила внимание на зловредной группе авангардистов, не раз называвших музеи «гробницами искусства». Незадолго до этого секретарь Аполлинера, некий Пьере, украл для Пикассо из Лувра две первобытные статуэтки – Пикассо хотел иметь при себе источник вдохновения… Случай как-то замяли… Но теперь он всплыл. Под удар подставили чужака, не имеющего ни французского гражданства, ни законных родителей – Вильгельма Костровицкого… Месяцы в тюрьме были ужасны. Друзья отвернулись, брат уехал от позора в Мексику, мать открыто презирала сына, возлюбленная отказалась от него… Даже оправдательный приговор не смог изгладить из памяти эту рану. Как выяснилось, картину украл работавший в Лувре итальянский стекольщик Винченцо Перуджи. Спустя два года после кражи она была обнаружена в Италии – злоумышленник просто-напросто попытался ее продать в местный музей, объясняя свой поступок тем, что картина принадлежит Италии. Кстати, Перуджи отделался всего годом тюрьмы, да еще и гордился, что пострадал за патриотизм.
Когда в 1914 году Гийом Аполлинер вступает добровольцем во французскую армию, это не только идеализм, патриотизм и т.д., но и желание наконец утвердиться в статусе полноценного гражданина…
Какое-то время друзья Аполлинера увлекались эзотерикой. Случались пророчества, видения… Как-то художник Джорджо де Кирико рисует портрет Аполлинера под названием «Человек-мишень». На портрете отмечено то место, в которое Аполлинер будет тяжело ранен на фронте осколком.
После возвращения домой Аполлинер лихорадочно творит. Ставится его пьеса «Сосцы Тиресия», выходит книга иронической прозы «Убиенный поэт», сборник «Каллиграммы. Стихотворения мира и войны». Аполлинер женится на Луизе де Колиньи-Шатийон, из известного древнего рода. Желания сбываются… Поэту нет еще сорока, но… во Франции начинается эпидемия «испанки», смертельной формы гриппа. И поэт заболевает.
А Карусь Каганец после освобождения из тюрьмы долго не может найти работу. Наконец устраивается экономом в фольварке Жортай. По-прежнему пишет, рисует, занимается общественной деятельностью. В 1917 году председательствует на съезде белорусских национальных организаций. Но обостряется туберкулез… Последние дни Карусь Каганец провел в урочище Лисьи Норы в Примогилье…
Так случилось, что оба Костровицкие – Карусь Каганец и Гийом Аполлинер умерли в один год, 1918-й. Гийом Аполлинер – 9 ноября… Когда его гроб несли по улицам, происходил антивоенный митинг. Парижане, имея в виду кайзера Вильгельма, кричали «Долой Гийома»…
Карусь Каганец умер 20 мая. Сегодня в урочище Лисьи Норы от хатки, где поэт провел последние дни, не осталось и следа, колхоз построил на том месте зерноток… Зато остались произведения поэта, и строки, посвященные ему Максимом Богдановичем:
Змоўк пясняр, затаіў свае песні,
Ён іх болей ужо не пяе.
Але рвуцца яны, і калісь на прадвесні
Лёд халодны ў душы пад напорам іх трэсне,
І струёй лынуць вершы з яе.
Ядвигин Третий и единственный
Ядвигин Ш.(1869-1922)
Известный школьный анекдот: на уроке белорусской литературы недоросль, скосив глаза на подсунутую одноклассником шпаргалку, бойко называет имя отечественного писателя начала ХХ века: «Ядвигин Третий».
Действительно, разве можно сразу догадаться, что читать следует «Ядвигин Ш.»? Что это за «Ш.» такое?
Сразу скажу—откуда есть-пошел такой псевдоним, пока никто из литературоведов не объяснил. Загадка…
А между тем звучит современно… И не только имя. В Интернете распространяется цитирование практически не замечаемого по школьной программе Ядвигина Ш. Более всего любят цитировать впавшие в депрессию блоггеры его притчу «Раны» (и в оригинале, и в переводе):
«Бываюць раны большыя i меншыя. Меншыя—гояцца i па iх знаку няма.
Большыя гояцца, але па iх астаюцца рубцы.
Гэтак на целе.
Бываюць раны большыя i меншыя. Меншыя—гояцца, па iх астаюцца рубцы.
Большыя заўсёды крывавяцца.
Гэтак на сэрцы.
Бываюць раны большыя i меншыя. Меншыя—заўсёды крывавяцца. Большыя—залечвае толькi… смерць.
Гэтак на душы.»
Не правда ли, не хуже, чем любые психологические изыски нынешних поэтов?
Ядвигин Ш., как и все белорусские писатели его времени, считал долгом писать о «гаротным народзе». Однако его притчи, символические рассказы, которые Ефим Карский упрекал в излишней символизированности, читаются и сегодня. Например, рассказ о белорусском крестьянине, умирающем в больнице. Врачу надоело ждать, пока бедолага умрет. И он ставит наугад время смерти: девять вечера. Что ж, раз начальство предписало… Пациент послушно умирает ровно в девять.
Настоящее имя Ядвигина Ш.—Антон Левицкий. Благородное имя благородного шляхтича. Не их самых богатых—отец служил управляющим. Но все же было и родовое имение, и возможность получить образование…
Как мало образованных людей в то время, когда белорусская культура считалась исключительно «мужицкой», смогло признать ее своей.
Ядвигину Ш. это удалось.
«Белорусская ориентация» прослеживается просто. В 1870-х годах отец Антона Левицкого был лесничим графа Тышкевича и жил в Першаях нынешнего Воложинского района, неподалеку от усадьбы Дунина-Марцинкевича Люцинка. В то время находящийся под надзором полиции Винцент Дунин-Марцинкевич открыл школу для местных детей, где преподавал сам и его дочери. Вот как об этом вспоминает сам Ядвигин Ш.: «Шасцёра нас там было… я быў найменшым—гадкоў сем меў; вучылi нас розных навук, нават i музыки. Наша вучыцелька (вечны ёй ужо пакой!) i яе бацькi так умелi падахвочываць нас да навукi, што кожны з нас наперабой браўся да яе… памятаю цiкавыя апавяданнi аб роднай бацькаўшчыне i аб далёкiх халодных краях, куды злая доля заганяе шмат людзей… Збiўшыся ў кучку, слухаем мы гэтыя дзiвы, а нябожчыца, жонка песняра, цiхачом уцiрае слязiну; шчымелi нашы сэрцы, у грудзях нешта бунтавалася».
Разумеется, в такой школе трудно было вырасти заурядным человеком. Правда, Ядвигин Ш. в воспоминаниях удивлялся, что собственно белорусского языка и сведений по истории Беларуси они от своих учителей не слышали. Конечно, в условиях полицейского автор «Гапона» рисковать не решался—ему ведь и школу держать запрещали.
После Люцинки Антон Левицкий заканчивает минскую гимназию, далее—медицинский факультет Московского университета. Студенческие волнения, революционное настроение… В 1890-м будущий классик был исключен из университета и посажен в Бутырскую тюрьму. Именно там, в тюрьме, и начался отсчет литературной деятельности Ядвигина Ш.: он перевел на белорусский язык рассказ Всеволода Гаршина «Сигнал». Гаршин в революционной среде котировался высоко. Но в рассказе пафос очень даже гуманистический: живут по соседству два путевых обходчика. Один все правды добивается, другой терпит. Тот, что добивался—озлился, разобрал рельсы… Пущай буржуи кровью зальются. Терпеливый же пытается остановить поезд, за неимением другого сигнала—окрашивает тряпку своей кровью, чуть не умирает… За него сигнал подает раскаявшийся правдолюб, который сдается властям.
В тюрьме же произошло и приобщение к белорусчине, о чем Левицкий рассказал в своих воспоминаниях. Арестованных студентов—а всех было тысячи полторы—рассадили по огромных камерах. Заключенные разбились по землячествах и дали концерт: русские, кавказцы, литовцы, латыши, украинцы исполняли национальные песни и танцы… А белорусы молча смотрели. Как-то не задумывались они ранее о культуре своего народа. А тут, на фоне других, пришлось. И так им обидно стало за свое равнодушие, что собрались, стали вспоминать белорусские песни, и наконец решили создать кружок белорусской молодежи в Москве.
После революционных перипетий северной столицы Антон Левицкий возвращается на родину и работает в одной из минских аптек, пытаясь получить звание помощника провизора (ясно, что диплом врача «накрылся»). Потом переезжает в Радошковичи, где шесть лет работает в аптеке помощником аптекаря. Там же находит свое счастье—женится на местной швее Люцие Гнатовской. А потом переезжает в отцовскую усадьбу Карпиловка, что под Радошковичами. Именно это место и связывается у всех с именем Ядвигина Ш. Там и писал свои произведения, оттуда отправлялся в долгие путешествия по родному краю… Туда приходил к нему юный сосед, сын арендатора Доминика Луцевича по имени Иван. Который впоследствии (не без совета старшего друга Левицкого) возьмет себе псевдоним Янка Купала.
«Гэта была для мяне вялiкая падзея. Я ўпершыню сутыкнуўся з чалавекам, якi быў не толькi пiсьменнiкам, але i пiсаў па-беларуску. 3 iм я вельмi зблiзiўся. Ён мне шмат расказваў пра незнаёмыя мне дагэтуль пiсьменнiцкiя справы…», — писал Янка Купала.
Потом он, уже прославленный, станет крестным отцом внучек своего крестного отца в белорусской литературе.
Дочь Ядвигина Ш., Ванда Левицкая, вспоминала: «Купала прыходзiў да нас браць кнiгi. Чытаў тату свае вершы i ў хуткасцi стаў друкаваць iх у «Нашай нiве». 3 татам яны вялi доўгiя гутаркi…»
«Доўгiя гутаркi» вел Ядвигин Ш. и с Максимом Богдановичем. Это было в 1916-1917 годах. Антон Левицкий уже поработал секретарем и заведующим литературным отделом «Нашай нiвы» в Вильне, изведал прелести военного времени—разруха, ожесточенная политическая борьба, беженство… В комитете помощи беженцам и работали Максим Богданович, Ванда Левицкая и сам Ядвигин Ш.
Некоторые исследователи намекают, что между Максимом и Вандой, которые вели долгую переписку, могли возникнуть некие чувства… Но, похоже, увидев свою заочную собеседницу наяву, Максим Богданович остался ей просто другом. Одно ясно—Ядвигин Ш. действительно ценил молодого поэта (хотя произведения Богдановича были на его вкус слишком модернистскими, и поначалу он отправил их в редакционную корзину). Летом 1916 года Максим приехал в Карпиловку. А там Левицкие устроили приют для детей беженцев—их было более тридцати… Наверное, Богдановича впечатлила такая самоотверженность Левицких. Новый, 1917-й, год они встречали вместе. И, конечно, строили планы, надеялись…
Максим Богданович умрет менее чем через полгода, в Ялте…
Ядвигин Ш.—через пять лет, в Вильне.
Богданович посвятил Левицкому такой отзыв: «… З Ядвiгiна Ш. вырабiўся такi пiсьменьнiк, што не можна яго ставiць нiжэй крупных прадстаўнiкоў таго ж жанру ў iншых лiтаратурах: гляньце, напрыклад, на казкi Шчадрына або гэткiя ж апавяданнi Горкага, на байкi Ляманьскага, — няўжо ж Ядвiгiн Ш. горшы ад iх? А калi i горшы, дык цi нашмат?»
Уже после смерти Ядвигина Ш. семью Левицких раскулачили. Сыновей писателя расстреляли. Дочь, Ванда Левицкая, отправилась в ссылку за мужем, Язепом Лесиком, погибшим в 1940-м году в саратовской тюрьме. Внуки классика белорусской литературы были лишены возможности жить на родине. Жена, Люция, умерла в страшной бедности в 1945 году в Нежине, не было из чего даже сделать гроб.
Ядвигин Ш. оставил недописанный роман. Называется—«Золото». Сюжет подходит для сериала: демоническая Зося подговоривает влюбленного в нее юношу Василя убить Прузыну, на которой хотят женить Алексу, которого любит сама Зося. Прузыну бросают в колодец. Алекса, на которого падает подозрение, уезжает в Америку… И так далее. На филфаке сегодня дают студентам задание: дописать продолжение романа. Говорят, заковыристо получается…
Ядвигин Ш., кстати, писал любопытнейшую путевую прозу. Как и Язеп Дроздович, он много бродил по Беларуси. Вот, например, отрывок: «Трапiўшы ў Любчу, захацелася мне—ведама—глянуць зблiзку на белыя агромнiстыя муры дворных палацаў i на тамтэйшыя парадкi. Заўсёды чалавек спадзяецца ў такiх вялiкiх дварох угледзець што-колечы цiкавае i карыснае для сябе: мо дрэўка фруктовае iначай вядзецца, мо кусцiк якi новы з ягадамi, мо будынiна на новы лад пастаўлена, чы прылады якiя гаспадарскiя нязнаныя заведзены. Падходжу да брамы, ажно ўжо i навiна ёсць: вiсiць дошчачка, а на ёй напiсана: «Вход воспрещается». Здарылася мне, помню, некалiсь то быць каля Маладэчны; бачыў я там на адной дворнай браме доўгую, шырокую дошку з такiм надпiсам: «Мiласцi просiм!» Зразу знаць было, што там жыве i чалавек i наш брат-славянiн, сэрца каторага для госця, як адчыненая брама… А тут бог iх ведае, што за людзi!
Прызнаюся, зразу адпала ў мяне ахвота да гэтых «бранiраваных» палацаў».
Рассказы Ядвигина Ш. многие считали примитивными. В одном блоге встретила рассуждение о его притче про крестьянина и смерть, которая заканчивается просьбой героя: «Божа, усё я зведаў, усяго зазнаў, адна толькi рэч нязнаная мне асталася.
Бог i кажа:
— Чаго ж ты, чалавеча, хочаш?
— Смерцi, — адказвае чалавек. I Бог даў чалавеку Смерць».
Комментарий звучал так: «Апавяданне нагадала Камю, альбо Камю нагадвае мне Ядвiгiна Ш.»Вот вам и проверка временем.
«Белый» жених для Чужой Розы
Адам Гуринович (1869-1894)
Он прожил всего 25 лет. Шляхтич герба «Правдиц», молодой, умный, красивый… Одно перечисление имен сегодня пробивает на романтическую ностальгию: Адам Гиляри Каликстович Гуринович.
Литературовед Олег Лойка называл его «больш прадвесцем, чым з’явай».
Но он все же был явлением…
«Я могу быть и поэтом,
Хоть непризнан я злым светом», — написал он в одном из своих русскоязычных стихотворений. Писал, кстати, на польском, на русском, на белорусском. Много переводил.
При жизни ничего из его произведений напечатано не было.
А заслуживает ли внимания его судьба—судите сами.
Адам Гуринович родился в семье шляхтича Калликста Гуриновича, ведущего род от татар по фамилии Гурины, которые осели на Беларуси где-то в XVI веке. Мать, Элеонора из Сенявских—гетманского рода.
Вот только большим богатством родовитая семья не обладала. К тому же и Калликст, и его брат Абдон поддерживали восстание 1863 года, то есть на государственную карьеру рассчитывать не приходилось.
В семье было шестеро детей. Всех надлежало выучить… Старшего, Юзефа, отдали в юнкерскую школу, а Адама и Яна определили в реальное училище в Вильно. Там же семья купила небольшой домик. Вокруг него разбили чудесный сад…
Но Калликст умирает, оставив 28-летнюю вдову…
Реальное училище в Вильно—звучит красиво… Но, как свидетельствуют историки, в среде шляхты это училище с механико-техническим уклоном и русским языком обучения особой популярностью не пользовалось. Да и потом, когда Адам Гуринович поступил в Петербургский технологический университет, это тоже выглядело немного странно… В этом институте ковались кадры для работы на таких важных объектах, как железная дорога. Поэтому учащихся проверяли на лояльность. С другой стороны, именно в таких «режимных» заведениях и возникали наиболее мощные очаги сопротивления. Достаточно вспомнить, что в том же технологическом учился Игнат Гриневицкий, осуществивший смертный приговор царю.
Адам Гуринович блестяще сдал экзамены. Правда, не мог позволить себе даже новые ботинки, безуспешно просил у матери, чтобы выслала деньги… Простыл, попал в больницу. Пришлось вернуться домой, год пропустить. А потом снова за учебу…
Чтобы понять умонастроения Адама в это время, нужно знать, что он увлекался поэмой Адама Мицкевича «Конрад Валленрод». Даже перевел ее на белорусский язык.
Напомню сюжет поэмы: магистр могущественного тевтонского ордена Конрад Валленрод—на самом деле глубоко внедрившийся в стан врага литвин, желающий погубить орден, что ему и удается.
Адам Гуринович упорно осваивал учебный курс, экспериментировал с устройствами паровозов—ученые уверяют, что он был на пути к значительным изобретениям. А параллельно—руководил «Кружком молодежи польско-литовско-белорусской и малорусской». И писал историю восстания Кастуся Калиновского, особое внимание уделяя «валленродизму» его предводителей.
Можно, наверное, предположить, что Адам не собирался уходить в подполье, хотел строить карьеру—научную, творческую, дабы обратить ее в пользу революционных перемен.
А еще для него открылась культура его народа.
Он штудировал работы фольклористов Ивана Носовича и Петра Штейна. Увлекся творчеством Франтишка Богушевича, с которым познакомился и лично. Ему посвятил ставшее классическим стихотворение:
«Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею,
За тое, што ў сэрцы збудзiў ты надзею…
Дзякуй табе, браце, i за тыя словы,
Што ўспомнiлi звукi нашай роднай мовы.»
Увлекся этнографией. Записывал в окрестностях родительской усадьбы Кристинополь белорусские народные песни. Свои собрания отсылал знакомому этнографу Яну Карловичу в Варшаву. «Я сабраў яшчэ каля 200 розных песен, якiя хацеў, калi тое яшчэ мажлiва, надрукаваць разам з раней надасланымi. Дзе, як i на якiх умовах—усё роўна, бо мне як неафiту, першая апублiкаваная праца дадала б болей энергii i ахвоты да наступнай працы, якая, можа, вялiкай карысцi нiкому не прынясе, але i шкоды, з пэўнасцю, не зробiць. За найлепшыя лiчу амаль усе песенькi, запiсаныя ад пакаёўкi Кацярыны Смаленскай з вёскi Золькi, прыпеўкi ад Аляксандра Шляпы з Дзям’янавiч».
Карлович передал присланное в Краковскую академию, и через три года записи Гуриновича были опубликованы…
В этом же году молодого поэта арестовали.
Архиву Адама Гуриновича повезло—племянница поэта, доктор медицины Янине Гуринович, родившаяся в год смерти дяди, собрала его уцелевшие рукописи. Кое-что пропало, будучи конфискованным. Рукописи были на белорусском языке, жандармы попытались найти переводчика, но не нашли. Потому доклад начальника Минского губернского жандармского управления в Петербург звучал так: «…з 8 сшыткаў на беларускай гаворцы, адабраных у Гурыновiча, уважлiва разгледжаны толькi чатыры, якiя пры гэтым i прадстаўляюцца. У адным з iх, пазначаным мною №1, змешчаны артыкулы яўна рэвалюцыйнага зместу ў сэнсе польскага паўстання…».
Судьба упомянутых 8 тетрадей неизвестна. Кое-что уничтожили сами родственники, боявшиеся хранить крамолу. Но в Варшаве профессор Адам Мальдис обнаружил многое из архива Адама Гуриновича, в том числе его личную переписку.
На ее основе можно снимать сериал.
В жизни Адама было две девушки.
Одну звали Станислава. Точнее, Станислава-Мария-Агата Владиславовна Петкевич. Дочь коллежского асессора. Пламенная революционерка. Познакомились они, видимо, в Вильно. Станислава помогала с нелегальной литературой, вела разъяснительную работу среди виленских рабочих. «Больше всего меня волнует, наверное, как и вас, то дело, ради которого, если мне хватит сил, я буду работать всю жизнь». Ради этого дела Станислава и согласилась стать фиктивной невестой Адама. На то время—обычная практика среди революционеров. Это называлось—«белый» жених. Разумеется, молодые люди не могли остаться совершенно друг к другу равнодушными. «Если бы я верила в Бога, я молилась о счастье для вас!»—писала Станислава своему «белому» жениху.
Именно письмо к Станиславе в Цюрих, в котором Адам просил ее организовать доставку большой партии нелегальной литературы, и попало в руки полиции.
А вторую девушку звали Роза.
И она была невестой родного брата Адама, Казимира.
Роза Швайницкая… Подписывала она свои послания к Адаму – Чужая Роза.
Вот она-то рассуждала в письмах, что хочет полюбить так, чтобы «аж шалець».
Адам Мальдис отмечает, что письма ее—на каких-то обрывках, писанные среди ночи… И вообще: «Першыя пiсьмы Розы Швайнiцкай мне не спадабалiся. Называе Гурыновiча грызiпёркам, «паэтам, якi ашуквае правiнцыяльных гусак», папракае, што ён не прыслаў абяцаныя вершы, просiць, каб апiсаў ёй сваю кашулю, бо яна хоча такую ж вышыць нейкаму ненагляднаму хлопцу…»
Но постепенно из писем возникает образ эспансивной, но глубокой натуры. Роза была сиротой, закончила курсы в Варшаве, должна была жить у чужих людей.
Ну конечно, она тоже революционерка. Ее идеал—варшавянка Ядюня, которая отправилась в Сибирь за своим нареченным. В духе времени Роза рассуждает о гибнущих бедняках и бессердечных богатых, просит Адама сочинить ей эпитафию… Умирать ведь за правое дело собралась!
А ведь есть и официальный жених, Казимир Гуринович. Роза сравнивает его с Адамом, боится, что лет через десять Казимир превратится в местечкового обывателя, начнет играть в карты…
В Петропавловскую крепость Розу и Адама посадят одновременно.
Адама Гуриновича арестовали в Вильно—после перехваченного письма к Петкевич за обоими была установлена слежка. А нелегальную литературу, которую при обыске 16 июня найдут на квартире у Адама, помогала доставать Роза Швайницкая.
Преступников переправляют из Вильно в Петербург.
Итак, в Петропавловской крепости, мрачной цитадели, в которой умерла княжна Тараканова и убит сын Петра I царевич Алексей, где как раз отсиживала свой срок в одиночке легендарная народоволка Вера Фигнер, заключены Адам Гуринович, его брат Казимир и Роза Швайницкая.
У политзаключенных—свои способы общения и время провождения. Роза читала книги, учила революционные песни, познакомилась со многими интересными людьми… Иногда слышала на допросах голос Адама.
И сравнивала, сравнивала двух братьев, и пыталась разобраться в своих чувствах…
В одном из отправленных из тюрьмы писем она цитирует Франтишка Богушевича… То есть белорусские убеждения Адама Гуриновича перестали быть ей чужими.
А он сам? В письмах Чужая Роза начинает называть брата жениха на «ты».
Через полгода Розу Швайницкую выпускаю под надзор полиции.
Отпускают и Адама Гуриновича… Но не потому, что оправдан—в старой цитадели Адам заболевает неизлечимой болезнью: черной оспой.
Его привозят в Кристинополь.
Узнав об этом, Роза пишет Адаму отчаянное письмо: она не боится заразы, не боится, что осудит родня жениха—она выбрала. Поняла, что по-настоящему любит только Адама. Она готова приехать—и остаться…
«Каб ты толькi мог зразумець, што я цяпер думаю, што дзеецца ў душы…»
Пусть только ответит, что хочет ее видеть…
Пока письмо дошло до Кристинополя, Адам Гуринович умер.
Могила Адама Гуриновича какое-то время считалась утерянной. В 1997 году группа краеведов Вилейщины, в том числе Анатоль Рогач, написавший о поэте биографическую книгу, обследовала кладбище деревни Зольки, где могилы рода Гуриновичей. Кто-то из старожилов и указал возможное место захоронения—рядом с могилой бабушки Адама по материнской линии. Теперь там памятный знак. Впервые творческое наследие Адама Гуриновича донес до читателей Бронислав Тарашкевич в газете «Беларускi звон», через три десятка лет после смерти поэта.
Высшая несправедливость любви.
Леся Украинка (1871-1913) и Сергей Мержинский (1871 –1901)
Январь 1901 года. Минск. Угол улиц Михайловской и Широкой, дом госпожи Нарейко. Один из жильцов дома, скромный служащий Либаво-Роменской железной дороги, умирает от туберкулеза. Прискорбно, разумеется… Молодой, красивый, образованный, из старинного белорусского шляхетского рода… Счастье еще, есть кому за умирающим присматривать – из Киева приехала его подруга, сама, видимо, не совсем здоровая, но так больного любит! Дни и ночи просиживает у постели…
Для посвященных же печальная картина наполнялася еще более глубоким смыслом. Дело в том, что умирающий, Сергей Мержинский, был известным революционером, журналистом, одним из создателей минской социалистической организации и «Киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса». А ухаживала за ним талантливая поэтесса Леся Украинка, у которой уже вышло два поэтических сборника и о которой Иван Франко сказал: «Эта больная, слабая девушка – едва ли не единственный мужчина на Украине».
Да, мужества Лесе Украинке, Олесе Косач, было не занимать…
Хотя ничто не предвещало ей трудной жизни. Родилась в интеллигентной, обеспеченной семье, в собственном поместье на Волыни. Мать – украинская поэтесса, фольклорист Олена Пчилка. Дядя – известный ученый Михаил Драгоманов, знаком с Виктором Гюго, Иваном Тургеневым. Детям, которые росли в такой семье, было откуда «подпитываться» духовно. Леся рано стала читать, уже в пять лет сочиняла музыкальные пьесы. В девятнадцать лет, кстати, написала для сестер учебник «Древняя история восточных народов». Но уже в раннем возрасте началась ее «тридцатилетняя война» с болезнью… Костный туберкулёз. Рука искалечена – на музыке придется поставить крест. Остается –литература… И любовь к родной Украине. И…просто любовь.
Они познакомились в Крыму, в 1897 году. Место встречи не удивительно. Крым в то время—почти единственное лекарство от туберкулеза. После первой же встречи для Леси все было решено – большей любви у нее в жизни не будет. А для Сергея Мержинского?
Пытаться понять чужую историю любви всегда непросто. Нам свойственно верить в то, что нас наиболее трогает, что наиболее соответствует нашему идеалу любви. И не всегда хочется принять правду. Ну как можно представить возвышенную Дантовскую Беатриче многодетной матроной, озабоченной бытовыми проблемами, и знать не знающей о поэте, посвящающем ей вдохновенные строки?
Об отношениях Леси Украинки и Сергея Мержинского я читала разное. И версию о том, что они сразу полюбили друг друга, и о том, что для Леси это была «мучительная и безответная любовь». Ясно одно—Сергея Мержинского в качестве жениха в семье Косачей видеть не хотели. Поэтому даже дружеская переписка не поощрялась. Мать, властная, умная женщина, всегда хотела сама решать судьбу дочери. Она даже обучала Лесю сама, по своей программе. А тут еще – революционер…
Дело не в том, что родители Леси были консервативны. Скорее наоборот, семья слишком хорошо знала, как опасна борьба против деспотической империи. Преданность украинской культуре, демократические убеждения карались. Дядя, Михаил Драгоманов, скрываясь от преследований, был вынужден уехать за границу. Тетя, Елена Антоновна Косач, изведала ссылки и аресты. Брата Леси, Михаила, едва не выгнали из университета… А Сергей Мержинский – в постоянной опасности. Он, кстати, был одним из организаторов первого съезда РСДРП, того самого, что прошел в зеленом домике на набережной Свислочи.
Кроме того, в сравнении с Косачами-Драгоманскими, Мержинский беден. И болен. И даже демократические убеждения – не факт, что можно легко принять в семью «нищего»…
Насколько был Мержинский значительной личностью? И тут мнения расходятся. Иногда его представляют, как «человека ярчайшей духовной и физической красоты». Некоторые, наоборот, считают, что в сравнении с великой поэтессой он был фигура не слишком крупная. К тому же поклонники Леси Украинки, наверное, не могут простить ему, что он до самой своей смерти любил другую… И Леся это знала. Она была для Мержинского «другом его идей». Да, они были близки – духовно, между ними установились теплые, доверительные отношения, в письмах он называет подругу «Ларочка»… Леся приезжает к нему в Минск. Мержинский знакомит ее с социалистами, в том числе своим сослуживцем – известным демократическим писателем Чириковым, помогает печататься в санкт-петербургском журнале «Жизнь», пытается организовать постановку ее пьесы «Голубая роза». Для Леси он – герой. Ну а больше? Достаточно процитировать саму поэтессу: «Это ничего, что ты не обнимал меня никогда. Это ничего, что между нами не было и намека про поцелуи. Я приду к тебе из крепчайших объятий, от сладчайших поцелуев! Только с тобою я не одинока, только ты умеешь спасать меня от самой себя».
В начале 1901 года Леся узнала, что Сергей Мержинский умирает. И сразу приехала к нему. Три мучительных месяца – с 7 января по 5 марта – она самоотверженно ухаживала за любимым человеком. А он диктовал ей письма – к той, другой… Пытаясь перед смертью высказать свою любовь – не к Лесе… Можно предположить, что Леся писала эти письма к сопернице, вкладывая весь свой поэтический талант, и получились послания необыкновенно красивыми… Чего это стоило поэтессе – знала только она. Там же, в доме госпожи Нарейко, «отпраздновала» Леся свое тридцатилетие… Вряд ли это был веселый праздник…
«Любовь абсолютной справедливости не знает, но в том и высшая справедливость», — скажет впоследствии поэтесса.
Последние недели жизни Сергей Мержинский уже не мог говорить. У его постели, в ночь с 18 на 19 февраля, Леся написала одну из своих лучших поэм — «Одержимая». «Сознаюсь, что я писала в такую ночь, после которой долго буду жить, если уж тогда осталась в живых. И писала, даже не исчерпав скорби, а в самом ее апогее. Если бы меня кто-то спросил, как я из всего этого вышла живой, я бы могла ответить: «Я из этого сделала драму».
Сергея Мержинского, как он и просил, похоронили на Сторожевском кладбище, после отпевания в церкви Марии Магдалины. Увы – сегодня то кладбище уничтожено, как и многие старинные кладбища города. Думаю, минчане помнят, как это происходило, как валялись в беспорядке вывернутые могильные плиты, как приходилось обходить разрытые могилы (мародеры орудовали почти в открытую). Как возвели на костях Дом культуры работников торговли (в котором сегодня Молодежный театр)… Хорошо, хоть церковь вновь действует, и можно зайти и поставить свечку за раба Божия Сергея, чьей могилы больше не существует.
После смерти своего любимого Леся прожила еще двенадцать лет. Лучшие образцы ее лирики – это о нем. Поэтам дано грустное утешение в жизни – обретать вдохновение в своих муках.
Уста твердят: ушел он без возврата,
Нет, не покинул,– верит сердце свято.
Ты слышишь. как струна звенит и плачет?
Она звенит, дрожит слезой горячей.
Здесь, в глубине трепещет в лад со мною:
«Я здесь, я здесь всегда, всегда с тобою!»
Да, жизнь продолжалась. Через шесть лет Леся выйдет замуж за ученого-фольклориста Климента Квитка. Он младше ее на девять лет, к тому же небогат, но будет искренне любить и восхищаться ею. Мать станет забрасывать неразумную дочь письмами, в которых называет зятя «бесчестным человеком, женившимся на деньгах Косачей-Драгомановых».
Кто знает, возможно, именно такой «расклад» – быть возле знаменитой женщины, умной и волевой – и помешал в свое время Сергею Мержинскому принять Лесю в качестве большем, чем подруга.
Но память о Сергее Мержинском Леся сохранит навсегда. Ведь несчастную любовь помнишь гораздо острее счастливой.
Красивая история о любви двух революционеров… Когда в 1972 году режиссер Николай Мащенко снял фильм «Иду к тебе» о Лесе Украинке и Сергее Мержинском, главные роли исполнили «звезды» Алла Демидова и Николай Олялин. В Минске именами Сергея Мержинского и Леси Украинки названы улицы. Легенда живет. Благодаря тому, что есть люди, которые ее берегут. Открытие мемориальной доски на доме по улице Куйбышева, 10 было приурочено ко дню рождения поэтессы. Инициировали установку доски руководители Белорусской ассоциации украинистов доцент БГУ Татьяна Кобржицкая и профессор Вячеслав Рогойша. В тот же день, День Леси Украинки на Беларуси, состоялась презентация новой книги поэтессы в переводе на белорусский язык, литературно-музыкальная композиция в музее Янки Купалы…
Надеюсь, праздника не испортил тот факт, что на мемориальной доске, по свидетельствам знатоков, оказалось две грамматические ошибки в украинском тексте.«Скептичная умом – романтичная чувством» – так говорили про Лесю Украинку. Что ж в этом удивительного? Она была поэтесса, он была женщина… Она любила и умела жертвовать собой во имя любви. И подарила нашему городу еще одну красивую легенду.
Слонимский Чижик
Гальяш Левчик (1880-1944)
1939 год. Слоним. Западная Белоруссия только что присоединилась к БССР. Наконец-то разделенные границей родственники и друзья могут встретиться, съездить друг к другу в гости.
К маленькому домику над рекой Щара, похожему на будку станционного смотрителя, блестя черными лакированными боками подъезжает автомобиль. Приехавший на нем человек в дорогом черном пальто, с голубым галстуком, в серой шляпе, бросился к вышедшему из домика хозяину, своему давнему другу еще по «Нашай нiве». Как постарел… Поседел… Само собой вырвалось:
Якi ж ты, Гальяш, бландзiн зрабiўся!
Хозяин улыбнулся:
У Савецкiм Саюзе не сiвеюць!
Элегантно одетый гость обвел взглядом бедное жилье, непритязательный вид старого друга.
— Ну як жывеш, Гальяш?
— Бульба ёсць, запалка ёсць – вось так i жыву. Ну а ты?
— Вось як прыедзеш да мяне ў госцi, тады пабачыш. Выбачай, я спецыяльна ехаў з Беластока, каб цябе пабачыць. А сёння ўвечары мушу быць яшчэ на мiтынгу ў Мiнску.
О чем они говорили далее, история уже не сохранила. Поделиться было чем. И тому и другому довелось хлебнуть лиха. Хотя теперь положение у них было очень разное. Гость – народный поэт Беларуси Янка Купала, фигура важная для новой власти, хозяин – Илья Левкович, известный как поэт Гальяш Левчик, бывший чертежник варшавского магистрата, на карьеру при новой власти даже не рассчитывал. Он – человек глубоко верующий, не отказавшийся от возрожденческих идеалов «нашенивского» времени. И в Варшаве его деятельность в белорусском кружке, собирание белорусского архива вызывает только подозрения и нападки, и здесь, в уже советском Слониме, он «на отшибе»… Да и немолод он, скоро шестьдесят, куда уж встраиваться в пролетарскую поэзию…
Впрочем, Гальяшу Левчику все же повезло – его не затронула репрессивная машина. А то ведь мог разделить судьбу других «западников» – Владимира Жилки, Бронислава Тарашкевича, встретивших на «советской стороне», куда так стремились, подозрения, арест и мучительную смерть.
А началось все с того, что бедный крестьянин Михаил Левкович из деревни Шайпяки приехал в Слоним искать работу. Там в 1880-м и родился его сын Илья Левкович. Окончил церковно-приходскую школу, затем – уездную, в 16 лет устроился писарем к мировому судье, затем – к землемеру. В 1904-м приехал в Варшаву. Нашлась работа – чертежником в магистрате, параллельно были лекции в школе искусств.
Через несколько лет в газете «Наша нiва» появляются тексты Гальяша Левчика. Он активно включается в «белорусскую работу». В 1912 году выходит сборник «Чыжык Беларускi». Любопытно, что стихотворение из него «Хто адрокся сваiх, Хто стыдацца нас стаў I прылiп да чужых, – Каб ён свету не знаў!..» белорусские партизаны Великой Отечественной распространяли на листовках и в подпольных изданиях как партизанский фольклор.
Но до конца жизни Левчику будет суждено жить в Варшаве.
Гальяш не забывает родной Слоним, приезжает туда… Но и в Варшаве думает о белорусском деле. Зоська Верас вспоминает, что о «Варшаўскiм гуртку» белорусов более всего заботился Гальяш Левчик. Каждый день встречались в «белорусской» столовой, каждое воскресенье ездили в гости к семье Столыгвов, которые жили под Варшавой. А еще Левчик собирал архив белорусской истории и литературы – ведь он и Ивану Луцкевичу помогал создавать знаменитый белорусский музей в Вильно. Вот как описывают его квартиру: «Уявеце сабе пакой большых памераў, сцены якога даслоўна ад падлогi да столi пакрыты рознага роду кнiжкамi, часапiсамi i iншым падобным матэрыялам, многае з якога ўжо тады прадстаўляла сабою рэдкасць. З прычыны адсутнасцi месца, iншыя рэчы нацыянальнага значэння былi папрычэплiваны i прымацованыя да столi. Тое, што не змяшчалася на сценах, займала сабою падлогу, пакiдаючы гэтулькi яшчэ месца, каб зьмясцiлася ложка з маленькiм столiкам i сякi такi праход для аднаго чалавека».
Левчик был личностью разносторонней. Писал музыку, стихи, рисовал, интересовался теологией и философией, составлял духовные песенники, много переводил… Любил петь под гитару сочиненную песню:
Надыйдзе час, што людзкi род
Змагацца з цемрай будзе рад:
Багату веду будзе мець,
Зазiхацiць яго пагляд.
Его описывают как веселого кудрявого человека с живыми глазами, очень отзывчивого и доброго. Зоська Верас вспоминает, как Левчик заботился о ней, когда она приехала в Варшаву, помог ее больному отцу. Но поэзия Левчика печальна. Как пишет литературовед Владимир Колесник: «Патыхае жалобай, матывы гэтыя сiмвалiзуюць разлад лiрычнага героя, «малога чалавека», з вялiзным i чужым светам уцiску, крыўды i зла».
«Мне трэба умярцi – я жыў яшчэ так мала…
Мне трэба умярцi, а ў полi ўжо вясна!
Ужо пагода снег i лёд зусюль сагнала,
I радасна ў свет расходзiцца яна» – это стихотворение, посвященное Сергею Полуяну, стало известной песней.
В 1920 году, к своему 40-летию, Гальяш Левчик подготовил к печати 5 книг, среди них – сборник лирики «Беларускi жаўранак», сборник триолетов восточнославянской мудрости «Мудра прыгаворка – салодка i горка», сатирическая книга стихотворных памфлетов «Камплект дзеячоў», а также перевод поэмы Адама Мицкевича «Дзяды». Кстати, по «Дзядам» Левчик писал киносценарий, который собирался послать в Америку.
Но издавать это было негде. И впоследствии многие рукописи исчезли.
У Левчика хранилась цветная фотография, на которой был изображен он сам с красивой девушкой. Это была его первая и самая большая любовь. Но – не сложилось… Ему было 33, ей – 21… Да и социальное положение разное. Только в 40 с лишним лет Гальяш решился на женитьбу… Но состоялась она странным образом.
В 1932 году в одной варшавской газете было опубликовано обращение редактора к читателям. В нем рассказывалась трогательная история: в Слонимском уезде живет девушка, наделенная литературным талантом. Она написала повесть по мотивам белорусской жизни. Но издать не может, поскольку некому отредактировать и нет средств на издание. Редактор обращался к читателям с призывом поддержать талантливую провинциалку, причем были указаны ее имя и адрес.
Девушку звали Зося.
Гальяш Левчик был очень тронут этой историей. Конечно, ему сразу вообразилась поэтичная красавица с родственной душой. Особенно радовало, что девушка интересовалась жизнью белорусов. Левчик написал Зосе, получил ответ… И вскоре состоялось первое свидание…
Реальность оказалась не столь поэтической. Зося не так молода – за 30, истерична и не слишком заинтересована в белорусском вопросе. С одной стороны, все же возникла прочная связь, с другой – Гальяша пугает «анормальное» поведение начинающей писательницы, ее вздорный характер. Но он жалел свою новую знакомую, надеялся найти в ее лице помощницу.
И женился на ней.
Через год его друг Ян Петровский получил письмо, в котором Гальяш писал: «Ты прыпамiнаеш мамэнт, што мог бы ты мне адрадзiць маё жанiнства, але гэта было б немагчыма, таму што анi ты, анi я яе не зналi, нi яе характару, нi здароўя, анi таго, што яна ёсць тыпам фаталiсткi – хворым, кволым i збочаным умыслова… Пэўна, што i я, каб ведаў згары што будзе, – пэўна, што, не гледзячы нават на спачуццё да ейнага няшчасця i спагадання ёй, – не згадзiўся б нiколi на ахвяру свайго добрага становiшча духовага, на сваю пазiцыю ў беларускiм грамадстве i на пашану, якою дорыць мяне гэтае грамадзтва… бо гэта было б учынена для кабеты невялiкае цаны…»
Зося превращает жизнь мужа в ад. Он все чаще ездит в родной Слоним, живет в маленьком домике на берегу Щары… Чтобы не быть вместе, супруги меняются местами: она – в Слоним, он – в Варшаву, и назад… Зося знает слабости мужа, умеет его разжалобить своими несчастьями: «Дрэнна прыняў мяне Слонiм i тваё памешканне, проста чула панiчны страх перад Слонiмам, што спаткае мяне нешта страшэннае i не памылiлася я – калi бегла я па апошнi пакунак, нехта з абслугi цягнiку падаваў праз вакно вагону кош хлапцу i здарылася, што я праходзiла каля iх, як кош гэты сарваўся i ўпаў мне на галаву. Я ўпала, у вачох пацямнела, людзi паднялi мяне…» Конечно, это «небесная кара», и Зося просит прощения, уверяет, что изменит свое поведение, будет «верной, как собака…»
А потом снова приводит в дом знакомых, которые угрожают немолодому хозяину…Когда начались военные события, Левчик был в Слониме. Он отправляется в Варшаву. Там – жена, к тому же от магистрата Гальяш получал пенсию, которая была единственным источником существования. А жена из Варшавы отправляется в Слоним к мужу. В дороге Левковичи разминулись. А когда Левчик пришел к своему дому, дверь открыл незнакомый мужчина. В квартире жили другие люди, и бывшего хозяина в дом не пустили. Петровский думал, что Зося, предположив, что муж сгинул в военных вихрях, продала квартиру людям, которые понятия не имели о прежнем жильце, а «ненужные вещи», принадлежавшие ему, выбросили… Но, возможно, архив где-то и сохранился…
Гальяш Левчик умер в Варшаве в 1944-м. Ему было 64 года. Но ни обстоятельства смерти, ни место захоронения неизвестны. Он страдал от болезни печени, скорее всего, она и свела его в могилу. Его жену, по некоторым сведениям, расстреляли немцы в Слониме в 1942-м.
В 1980 году, к 100-летию Гальяша Левчика, была издана книга избранных произведений «Доля и хлеб».
Племянник слуцкого батлеечника
Язэп Дыло (1880-1973)
Этот человек прожил долгую жизнь. Если учитывать, что он оказался в центре событий, участники которых почти поголовно не дожили до седин, то это выглядит просто фантастическим везением…
Он изведал тяжелую борьбу за дорогую идею, торжество победы, жестокое разочарование… Он создал страну, из которой его изгнали.
Его звали Язэп Дыло.
Конец XIX века. Слуцк. В дом младшего почтового чиновника Леонида Дыло, отца маленького Язэпа (Осипа), приходит местный учитель, подрабатывающий репетиторством. Учитель называет себя графом Обуховичем-Бандинелли. Он действительно граф и еще недавно владел собственным имением. Но после того как изъявил желание раздать землю крестьянам, родня объявила его сумасшедшим…
Из уст этого человека маленький Осип впервые услышал стихотворение на белорусском языке. Этот момент Язэп Дыло запомнит на всю жизнь.
Альгерд Обухович-Бандинелли станет его учителем и откроет для него Беларусь так же, как и для многих других. Вокруг Обуховича создался кружок молодежи, для которых он был и наставником, и другом… Молодые люди собирались у него дома, выезжали вместе на природу, вели серьезные беседы и занимались спортом… Из этого окружения вышло несколько известных белорусских культурных и общественных деятелей.
Впрочем, любовь к белорусской культуре была заложена и семьей. Язэп Дыло вспоминал свою бабушку по материнской линии Доминику, которая «ведала мноства беларускiх песень i казак i ахвотна дзялiлася iмi». От нее Язэп услышал песню о том, как Слуцк защищался от татарского нашествия, по мотивам которой впоследствии написал историческую повесть «У iмя дзяцей». А двоюродный брат отца Ничипор Дыло, «апошнi слуцкi батлеечнiк», вместе с дочерью ходил по домам и показывал спектакли, в которых высмеивал местных чиновников, за что не раз попадал в каталажку…
После окончания Слуцкой гимназии Язэп поступает в Юрьевский (Тартуский) ветеринарный институт. Белорусов в Тарту было традиционно много. С 1896 по 1918 год в Тартуском университете их училось 245. Студенческие корпорации были запрещены, но белорусские студенты все же создали свои землячества – Минское, в руководство которого входил Дыло, Могилевское и Черниговское. Революционное «брожение умов» там происходило вовсю… Приходилось маскироваться. Язэп входил и в общество «Друг трезвости», которое организовала эстонская молодежь. Не знаю, насколько они были трезвенниками, но хор этого общества распевал революционные песни на сугубо нелегальных заседаниях, а руководил этим хором Язэп Дыло.
Разумеется, такая активность не могла остаться незамеченной – из университета отчислили всех руководителей землячеств, выгнали из ветеринарного института и Дыло. Причем без права поступления в другие учебные заведения.
Теперь «легальная» работа Язэпа – в редакции минской газеты «Северо-Западный край». Параллельно он ездит по деревням как революционный пропагандист, сближается с членами аграрной группы Минского комитета РСДРП. Перемены, казалось, так близки… Но революция 1905 года закончилась поражением. В Минске губернатор Курлов приказал расстрелять мирную демонстрацию (за что через год его попытается убить эсер Иван Пулихов). И Язэп Дыло перебирается в Петербург. Он возглавляет издательство журнала «Современный мир». Знакомится с Александром Куприным, Леонидом Андреевым, Александрой Коллонтай, Михаилом Арцыбашевым. В Петербурге в то время хватало и белорусов – Дыло сотрудничает с Тишкой Гартным (Жилуновичем), Янкой Купалой, Якубом Коласом… Утверждает себя как писатель – его литераторский дебют состоялся в 1912 году на страницах газеты «Наша нiва» зарисовкой «Перад ранiцаю» и стихотворением «Вечар ясны, цiхi…».
Когда в 1919 году в Москве создавалось Временное рабоче-крестьянское правительство Белоруссии, возглавляемое Жилуновичем, в качестве комиссара труда в него вошел Язэп Дыло. Комиссаром иностранных дел стал Всеволод Фальский, комиссаром по национальным делам – Фабиан Шантырь… 1 января 1919 года Временное рабоче-крестьянское правительство обнародовало Манифест об образовании Советской Белоруссии.
Жилунович, Дыло и другие комиссары-министры по дороге в Минск даже навестили в Смоленске Янку Купалу, порадовали новостью, что создано белорусское государство…
Но 8 – 10 февраля 1919 года члены нового правительства Дыло, Фальский и Шантырь были арестованы своей же, советской, властью. Комендант Минска посадил их в тюремный замок, знаменитый Пищаловский. Арестованным инкриминировали, как они сами писали в заявлении в Центральное бюро КП(б)Б: «1) что мы-де «борьбой» со старыми партийными товарищами старались подорвать их авторитет и 2) что желая якобы организовать независимую белорусскую ком. партию, мы тем самым подрывали советскую власть на Белоруссии».
Конечно, Язэп Дыло и его товарищи не скрывали своего белорусского патриотизма. В одном из выступлений Дыло говорил, что проблемы белорусов в том, что «уся наша iнтэлiгенцыя працуе ў чужых арганiзацыях. Беларусы былi пад уплывам расiйцаў i палякоў, пад уплывам чужых культур, i ўсе нашы лепшыя сiлы аддавалi сваю працу чужынцам. Да рэвалюцыi нас душылi, а цяпер нападаюць на нас i самыя чырвоныя. Перакiнчыкi-беларусы – лепшыя расiйцы цi палякi, як праўдзiвыя расiйцы цi палякi. Iншы, атрымаўшы адукацыю на бацькаўскiя грошы, не хоча гаварыць з бацькам i бэсцiць усё роднае».
Фабиан Шантырь, яркий публицист, поэт, был расстрелян в 1920 году. Всеволод Фальский, гениальный артист, исключен из партии большевиков – «Выбыў аўтаматычна з-за нязгоды па нацыянальным пытаннi». В 1921 году он на пару с руководителем Белорусского хора Теравским был приговорен к расстрелу, который заменили 5 годами тюрьмы. Фальский оказался в Киеве, и вернуться в Белоруссию ему так и не разрешили. Язэпу Дыло повезло. В 1921 году он приехал на родину и включился в работу.
Иначе о Язэпе Дыло и не скажешь… Он возглавлял Государственную плановую комиссию БССР и Комиссию по районированию территории республики, стал директором Первого Белорусского государственного театра (нынешний Купаловский). Он же – ученый секретарь Института белорусской культуры и заместитель заведующего Белгоскино по художественной части плюс инспектор Наркомпроса… Везде Дыло отстаивает свою позицию. В 1926 г. вместе с другими членами литературного объединения «Полымя» М.Зарецким и Д.Жилуновичем инициирует так называемую «кiнадыскусiю» – о белорусизации отечественного кино, которое часто только по названию было белорусским. Язэпу Дыло было поручено выявлять рукописи белорусских писателей. В 1926 году ему удалось найти в архивах Ленинграда пьесу Миколы Янчука. К сожалению, неизвестна судьба личного архива самого Дыло, еще в 1920-х годах переданного в Государственную библиотеку БССР…
Именно Язэп Дыло встречал на вокзале отца Максима Богдановича Адама Егоровича, который по приглашению белорусского правительства вез рукописи сына. 16 июня 1923 года в газете «Савецкая Беларусь» появляется статья за подписью «Наз. Бываеўскi» (это был псевдоним Язэпа Дыло), в которой описывается привезенное богатство. «Цэлыя сшыткi спроб накiдаў i выпрацаваных тэкстаў; дзесяткi лiстоў, чацвёртак, паўлiстоў i цэлых аркушаў паперы, занятых таксама радкамi вершаў». Папка стихов для нового сборника «Палын-трава», переводы белорусских поэтов, автобиографический очерк… И еще одна интересная деталь: «…З асаблiвай горыччу прыходзiцца тутака адзначыць, што маецца цэлая пачка (да 30 – 40 штук) чыставiкоў вершаў, якiя да прачытання пад павялiчваючым шклом прыйшлося пакуль што не рэгiстраваць, бо з краю пачка гэтых рукапiсаў настолькi абгарэла (скрынка ж з рукапiсамi хоць i была затоплена ў ваду, але потым вада выпарылася i верх абгарэў), так што магчыма адзiн толькi раз iх чытаць. Па першаму ж асцярожнаму азнаямленню гэтая пачка ў большасцi змяшчае якраз творы новыя, не друкованыя яшчэ…»
Наверное, при сегодняшних технологиях хоть что-то из той обгоревшей пачки стихов можно было бы прочитать… Вот только этот архив тоже исчез.
А вскоре сломалась судьба и самого Язэпа Дыло.
Его забрали по делу о вымышленном Союзе освобождения Белоруссии.
10 апреля 1931 года он был осужден за «вредительство и антисоветскую деятельность» на 5 лет ссылки в Кунгур Пермской области.
Больше в Белоруссию он не вернется. С 1931 года и до смерти проживет в Саратове. Здесь тоже оказалось немало белорусских репрессированных деятелей — Вацлав Ластовский, Осип Волк-Леванович…
В 1938 году Дыло арестуют еще раз, в 1939-м выпустят…
Даже когда в 1968 году с большой помпой праздновалось 50-летие БССР, последнего оставшегося в живых «отца БССР», участника исторического провозглашения страны, не привезли на родину… Даже не пригласили. Правда, к нему в Саратов съездил Адам Мальдис по заданию редакции журнала «Полымя», чтобы записать воспоминания.
Язэп Леонидович жил на Саперной улице вместе с приемной дочерью Анной – во время гражданской войны подобрал осиротевшую девочку на вокзале.
«Насустрач мне выйшаў бадзёры яшчэ, каржакаваты мужчына з акуратнай сiвой бародкай. Нягледзячы на восемдзесят восьмы год, у вачах свяцiўся багаты iнтэлект, жывая думка, досцiп».
Язэп Дыло поселил минского гостя у себя, поскольку сам не мог уже записывать. Диктовал… Эти записи в 1981 году выйдут в книге, изданной Адамом Мальдисом к 100-летию писателя.Все последние годы Язэп Дыло активно творил, печатал в белорусских изданиях статьи, воспоминания, художественные произведения. Самым известным считается его роман «На шляху з варагаў у грэкi», герои его – полочане IX века. «Пазбаўлены бацькаўшчыны, я мог звяртацца толькi да гiстарычных падзей, бо валодаў веданнем гiсторыi i яе культуры. Вось чаму напiсаў раман».
Отрывки из романа также были опубликованы в книге 1981 года, вместе с незавершенной драмой «Падуанскi студэнт», о Франциске Скорине.
А остальное… До сих пор в архивах фантастический роман «Альбiн I i апошнi», историческая повесть «Сена пана Гельмерсена», неопубликованные переводы, статьи, письма…
После того как 15 ноября 1957 г. Язэп Дыло был реабилитирован, друзья уговаривали его вернуться в Белоруссию.
Но он так и не приехал.
Умер 7 апреля 1973 года и был похоронен в Саратове…
Слушаю, как музыку…
Язеп Лёсик (1883-1940)
Как говорил Воланд в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», «причудливо тасуется колода». «Порода!» – глубокомысленно произносил тот же персонаж. В роду у Якуба Коласа и еще один известный деятель белорусской культуры, его дядя по матери, правда, по возрасту чуть младше племянника—Язеп Лесик, ученый, академик, просветитель… Кстати, даже если поставить рядом их портреты—Язепа Лесика и Якуба Коласа—заметно удивительное сходство…
Язеп Лесик был младшим из семи братьев. Поэтому его особенно любили и баловали. Хотя семья жил бедно, он даже не пас гусей—а в деревне это было обязательным занятием мальчишек. Старший брат Антон закончил учительскую семинарию, то есть в доме имелись книги—и уважительное отношение к образованности. Неудивительно, что Язеп вырос смелым, независимым, способным к самостоятельному мышлению… Именно таких и ждут по жизни настоящие испытания… Первое случилось, когда Язепа «срезали» на экзаменах в Несвижскую учительскую семинарию. Старший брат, Антон, считал себя виновником неудачи брата, поскольку успел «засветиться» как неблагонадежный: инспектор из Минска, проверявший его школу, записал в классном журнале: «Настаўнiк не толькi не папраўляў вучняў, калi яны гаварылi па-беларуску, але i сам гаварыў па-беларуску, як, прыкладам: «пяць», «чытаць», «хадзiць» i г. д.».
Пришлось Язепу поступать в Молодечненскую семинарию. Поступил-то легко, а вот с дисциплиной оказалось трудно… Со второго курса слишком бойкого семинариста отчислили. Вернулся в родную Николаевщину. Родители были в горе: что делать с любимцем? К сельской работе не приучен… Планировалось, что «в люди выйдет»… А теперь куда?
Но опять выручил брат, который к тому времени работал учителем в Новгороде Северском. И через положенное время Язеп оказался с дипломом новгород-северского училища, потом получил удостоверение народного учителя…
Разумеется, столь активный молодой человек не мог остаться в стороне от революционный веяний. Не зря вместе со своим племянником Константином Мицкевичем принимает участие в учительском съезде. Якуб Колас впоследствии выведет своего дядю-ровесника в романе «На ростанях» в качестве одного из персонажей.
Итак, Язепу 20 лет. Он работает учителем в поселке Гремяч Новгород- Северского уезда. Это считается территорией Украины, но крестьяне разговаривают на белорусском языке. А молодой учитель «разводит пропаганду», устраивает чтения нелегальной литературы. На дворе — 1905-й год. Властям не до церемоний с подозрительными лицами. И Язеп оказывается в тюрьме.
Режим был не очень строгий, с воли носили еду, книги… А крестьяне Гремяча между тем составляли план, как вызволить своего учителя. Собирались придти всем миром под стены тюрьмы, устроить митинг… Поскольку митинги в то время чаще всего кончались стрельбой, наверное, к счастью, что акция не состоялась.
Мать Язепа, узнав, что сын в тюрьме, была в ужасе. В Николаевщине «тюремщиков» отроду не бывало. Даже хаты на замок никто не закрывал… Видимо, от горя сердце старой крестьянки не выдержало…
Язепа Лесика везут в Стародуб на Черниговщине, где должен был состояться суд. Ему удается бежать.
Однако убежать—полдела, а куда деваться дальше? Видимо, серьезных связей с революционными организациями у юноши не было, потому что он рассчитывает в основном на помощь родни… Денег нет, паспорта нет… Братья помогают, как могут. Язеп два года живет у брата, который работает начальником станции Красновка на Украине. Занимается в основном тем, что читает книги, привезенные из Петербурга. Пока к подозрительному молодому человеку без определенных занятий не стали присматриваться местные жандармы. Пришлось перебираться к другому брату, опять в Новгород Северский… Но этот брат не в лучшем положении, крестьяне выбрали его депутатом в Думу, в результате он уволен с должности учителя, находится под надзором… Спрятать нелегального гостя в таких условиях тяжело. И Язепа снова арестовывают, на этот раз приговаривая к бессрочной ссылке в Сибирь.
Наверное, человек с более слабым характером мог сломаться… Но Язеп, как вы уже поняли, к таким не относится. Он продолжает делать то же, что делал в Новгород-Северской тюрьме, на станции Красновка, в родительском доме и в учительской семинарии—читать и заниматься самообразованием. В Сибири появились друзья—такие же «политические»… С одним из них, белорусским поэтом Алесем Гаруном, Язепа связала настоящая дружба. Живя в Сибири, подрабатывая как придется, Язеп сотрудничает с виленской «Нашай Нiвай», переписывается с белорусскими писателями и научными деятелями… Пытается организовать школу и учить детей…
Только после Февральской революции Лесик смог вернуться на родную Беларусь.
На родину вернулся уже не начинающий публицист и не безработный учитель—политический деятель и языковед, завоевавший немалый авторитет. Вступает в Белорусскую социалистическую громаду, редактирует газету «Вольная Беларусь», входит в Раду БНР… И встречает свою любовь—Ванду Левицкую, дочь писателя Ядвигина Ш. Ванда работала в Комитете помощи беженцам вместе с Зоськой Верас, была сотрудницей редакции «Вольнай Беларуси». У них с Язепом оказалось много общего… В том числе—преданная любовь к Беларуси. Лёсик, получивший образование фактически самостоятельно, пишет учебники и научные труды по белорусскому языку, читает лекции. Однажды он скажет брату: «Калi я праходжу па вулiцах Менску i чую беларускую мову, то слухаю яе, як музыку».
Его арестовали сразу после установления советской власти… Академик Игнатовский сказал: «Если посадите Лёсика, сажайте и меня». Сохранились свидетельства о том, как Язеп Лёсик читал свою первую лекцию в педтехникуме после того, как его выпустили из ЧК. Студенты ожидали его с огромным волнением, усадили на кресло, стали качать… Руководил чествованием молодой поэт Андрей Александрович. В будущем крупный литературный функционер, он напишет поэму «Тени на солнце», в которой среди прочих нацдемов изобличит и Язепа Лёсика… А потом и сам погибнет между шестеренок репрессивной машины.
Семью Ванды Левицкой раскулачили. Двух младших братьев вывезли в Сибирь. Мать поселилась у Лёсиков. Атмосфера подозрительности проникала везде… Однажды на лекции в педтехникуме Лёсик привел как пример употребления слова «апанавать» народное выражение «Апанавалi чэрцi святое месца». Тут же поднялся бдительный студент: «Дзядзька Лёсiк! Якiя чэрцi i якое святое месца вы маеце на ўвазе?» Бедный лектор не на шутку испугался…
Кстати, Лёсика никто не осмеливался называть «товарищем». Все так и обращались—«дзядзька».
Дом Лёсика находился неподалеку от дома Якуба Коласа. Дядю и племянника нередко можно было видеть прогуливающимися вместе по Госпитальной улице… Наверное, обсуждали они и страшные подробности времени.
Следующий раз Лесика арестовали его в 1930-м году, когда он отправился на лечение в Мацесту. Был привезен в Минск и без суда отправлен в ссылку. В дом на Госпитальной тут же вселили других людей, семья—Ванда с детьми и матерью—оказалась в одной проходной комнатке… Дочь Алеся вспоминала, как в школе раздавали материальную помощь бедным семьях, и как она тянула руку, мечтая получить талон на новые башмаки… А учительница подошла, опустила ее руку и с издевкой сказала: «Тебе все равно не дадут».
А еще Алеся вспоминала, что когда они ходили на свидание с отцом в ГПУ, у отца иногда были мокрые ботинки… Почему, на дворе ведь сухо? Тот уклончиво отвечал: «Непакорным бываю…» Имелись такие карцеры—на цементном полу слой холодной воды…
Вскоре семья в полном составе жила в российской глубинке, в Камышине… Только сына Юрку на год оставили в Минске—его приютила семья Якуба Коласа. Учились говорить по-русски, получили работу… А там и ссылка кончилась… Вот только вернуться на Беларусь не разрешили.Неблагонадежная семья моталась по России… На работу не брали. Пережили голод в Поволжье, тиф… Наконец Лесику удалось устроиться преподавателем в Актарске. Здесь он написал свою последнюю научную работу—учебник по русскому языку для педучилищ. Наступил 1938 год. Ночью семья проснулась от страшного грохота—в дверь ворвались четверо. Начался обыск…
Лёсика увезли в Саратов. Ни свиданий, ни передач на этот раз не было. Только через добрых людей удавалось передавать весточки родным. «Хвароба мая невылечная», «Болей да вас не вярнуся»… И—«Жывiце далей без мяне».
Он умер в Саратовской тюрьме в 1940 году. Родным сказали – от туберкулеза. Возможно, кое-что прояснит такой факт… Когда Ванде Левицкой отдали вещи мужа, то кожаные предметы оказались сгнившими. В каких же условиях находился белорусский академик?
Алеся с сестрой Люцией навестили Минск в 1941 году. Их тепло приняли семьи Купалы и Коласа—кстати, Купала был крестным детей Лёсика… Жена Купалы, тетя Владя, водила девочек в театр, на спектакль «Кремлевские куранты»… И тут началась война, бомбежки. На третий день войны они ушли из города.
Ванда Левицкая приехала в Минск в 1955 году. Все от нее шарахались… Только та же Купалиха приветила, обняла со слезами на глазах… На Беларуси семье Лёсика так и не удалось пожить. Ванда Левицкая умерла в 1968 году. Незадолго до смерти она написала подруге Зоське Верас: «Наша пакаленне зрабiла сваю справу. Заплацiла за ўсведамленне сябе беларусамi хто чым мог—моладасцю, дабрабытам, здароўем. А шмат хто—мукамi i кроўю, жыццём. Мабыць, так трэба—усё добрае не радзiцца без ахвяр… Асабiста я думаю, што жыццё i сiлы нашы былi аддадзены ў той час, калi былi патрэбны i калi яны ў нас былi. Няхай цяпер працуюць маладыя. У iх сiлы, асвета, навука—i няхай працуюць так, як патрабуе час i яго патрабаваннi».
Язепа Лесика реабилитировали в 1988-м—«з прычыны адсутнасцi складу злачынства».
Белорусский Верн
Янка Мавр (1883-1971)
Его называли белорусским Миклухо–Маклаем и Жюлем Верном в одном лице…
Он был известным эсперантистом, любил ездить на велосипеде и замечательно играл на скрипке…
Не был ни в каких далеких странах — но подарил нам чудесные экзотические истории, действие которых происходит в джунглях и на океанских островах…
А сегодня молодые поэты–постмодернисты с успехом разыгрывают постановку по его сказке «Падарожжа ў пекла» — о том, как юный пионер, попав в ад, произвел там революцию.
Художник М.Рыжиков когда–то нарисовал его графический портрет: в обличье бывалого капитана, на фоне парусов, мачт, волн и звезд… Да и сам он, отдыхая в Коктебеле, сфотографировался, специально отпустив бороду, взяв в зубы трубку, которую в реальности не курил, надев матросскую тельняшку…
Возможно, живи он в другое время и в другой стране, стал бы капитаном дальнего плавания, великим первопроходцем и открывателем…
Но он стал белорусским писателем, чья юность пришлась на революционные годы, а писательская карьера — на период соцреализма в литературе…
Мы знаем его под именем Янка Мавр.
А настоящее–то его имя было — Иван Федоров… Вам ничего не напоминает? Будущий Янка Мавр тоже знал, что он — тезка знаменитого русского первопечатника… Потому и взял псевдоним. Мавр — это отвечало его любви к далеким странствиям…
Вот только со странствиями была проблема… Исследователи любят подчеркивать — мол, никогда не был в краях далеких, но писал… Но все же детство и юность его прошли на территории нынешних Латвии и Литвы. Да, это недалеко… Но все же там был несколько иной уклад жизни. Родился Иван Федоров в древней Либаве, сегодняшней Лиепае. Учился в Паневежской учительской семинарии, откуда был исключен за участие в революционном кружке. Преподавал географию и историю вначале в школе под Паневежисом, потом в училище под Борисовом, потом в минских школах… Ученик Янки Мавра писатель Александр Миронов, посвятивший своему учителю книгу «Дзед Маўр», вспоминал, что на уроках географии «нiбы знiкалi сцены класа, i вакол, як кiнуць вокам, рассцiлалася бязмежная прастора мора з цёмнай палоскай яшчэ нiкiм не адкрытай зямлi на гарызонце…». Учитель специально для своих учеников сочинял научно–фантастические очерки… Из которых впоследствии и получились его первые повести.
Помните персонажа романа Жюля Верна Паганеля, географа, который мог рассказать о каждой горе и дороге на земном шаре, но никогда не выезжал за пределы родной Франции? Наверное, тут можно усмотреть сходство с минским учителем географии… Поэт Сергей Граховский так вспоминал о нем: «Янка Маўр быў выдатнейшым у рэспублiцы эсперантыстам i быў звязаны пры дапамозе гэтай унiверсальнай мовы бадай з усiм светам. Ён, як той Жуль Верн, нiдзе не быў, а ўсё ведаў да драбнiц — гадзiнамi мог расказваць пра Iнданезiю, Барнеа, Суматру, Новую Зеландыю цi Аўстралiю».
Жанр литературы для детей традиционно считается чем–то вторичным… Да, халтуру он просто притягивает, как пластмассовая расческа мелкие бумажные обрывки… Но он же и определяет, случается, судьбы целых поколений. Сегодня много говорят об инфантилизации культуры… Противопоставляя это явление — детскости. Литература инфантилизма — это когда читателю внушают, что за тебя все решат мудрые вожди или красавцы кумиры. А настоящая детская литература — это когда в ребенке воспитывается личность. Да, в произведениях Янки Мавра есть дань идеологии, книгу «Палескiя рабiнзоны» некоторые советуют изучать до 13–й главы, с которой начинается «адбiтак грамадскай атмасферы страху, падазронасцi i варожасцi». Но все же это литература, воспитывающая не винтик, а личность.
Когда–то белорусский критик Варлен Бечик назвал свою статью о детской литературе «Толькi без «сю–сю». Вот чего в произведениях Янки Мавра нет, так это пресловутого «сю–сю». Он всегда говорил о детях: «Хоць малыя, а чалавекi». Читала недавно интересный пример урока по «Палескiм рабiнзонам». Учитель должен обратить внимание детей на жестокое поведение Мирона и Виктора: «…стукнуў птушку галавой аб дрэва. Гэтак жа забiлi i зайца». Жах наводзiць i эпiзод, калi абодва юнакi паклалi яшчэ цёплых ахвяр сабе пад бок, каб сагрэцца».
Как пример «малагуманнасцi» Мавра приводят цитату о харакири из его статьи о Японии, напечатанной в «Вожыке»: «Заядлы самурай, не мiргнуўшы вокам, сапраўды распароў сабе трыбух. Блiзкiя глядзелi, як выплываюць яго кiшкi, i захаплялiся самурайскiм духам».
Если исходить из логики критиков, так и Жюля Верна нужно запретить — в «Пятнадцатилетнем капитане» герои китов истребляют, капитан Немо англичан топит, как муравьев, косаток винтом подводной лодки режет…
Помню, как в детстве, прочитав повесть «ТВТ», незаслуженно сегодня игнорируемую, кинулась чинить утюг, проводку, будильники… На всю жизнь впитав феминистический пафос книги: девочка, которая чинит сапоги и может заклепать сковородку, и мальчик, который может заштопать себе носок, — это нормально.
А ведь есть у Мавра и еще полезный пафос. Помните, как говорится о главных героях повести «Палескiя рабiнзоны»: «…чыталi шмат кнiжак, асаблiва прыгоднiцкiх — Жуля Верна, Майна Рыда, Купера i г.д. Цiкавiлi iх розныя далёкiя краiны, дзiкуны, iндзейцы, якiх цяпер бадай ужо зусiм няма. Захаплялiся рознымi прыгодамi з iх жыцця, што адбывалiся гадоў 60 — 80 назад. Марылi пра пальмы, джунглi. А не бачылi добрай пушчы, якая была за некалькi дзесяткаў кiламетраў ад iх. Уяўлялi сабе розныя паляваннi на тыграў, сланоў, iльвоў, а вавёркi на волi не бачылi. Марылi пра мора, караблi, а не бачылi вялiкага возера, якое ляжала за кiламетраў дваццаць ад iх».
В музее Якуба Коласа на стене висит скрипка… На самом деле она принадлежала не Коласу, который действительно любил играть на этом инструменте, а Янке Мавру… Это не удивительно и не случайно — писатели дружили. Оба учились в учительских семинариях, где давалось, помимо прочего, и музыкальное образование. Оба участвовали в учительском съезде, после которого Якуб Колас попал на отсидку в Пищаловский замок, а Иван Федоров отдан под надзор полиции и лишен права преподавать в школе. В трилогии Коласа «На ростанях» есть персонаж, прототипом которого был Янка Мавр, — это учитель Иван Тадорик (Имя Тодар, кстати, тот же Федор). Впоследствии классики породнились: сын Якуба Коласа Михась женился на дочке Янки Мавра Наталье. Которая, кстати, часто музицировала на пару с отцом: он — на скрипке, она — на фортепиано. Так что у Мавра и Коласа есть общие внуки и правнуки.
«Мвастер заковыристых реплик» — так характеризует Ивана Тадорика главный герой романа Лобанович.
Когда была напечатана разгромная рецензия на роман Ивана Мележа «Мiнскi напрамак», Мавр вступился и даже опубликовал в газете «Лiтаратура i мастацтва» большую статью «Цi так трэба падтрымлiваць?». А ведь это 1950 год, еще был жив Сталин… Не отвернулся Мавр от семьи репрессированного писателя Максима Горецкого… А Иван Шамякин вспоминал такую историю… Он отвечал за партийную работу с «писательским составом». Пришли две «проверяльщицы», которые не поверили, что работа ведется, как должно, и затребовали «очных ставок» с обучаемыми. Шамякин упросил Янку Мавра принять идеологических посетительниц.
«На столе лежали развернутая толстая книга и лист бумаги с несколькими написанными на нем и зачеркнутыми предложениями…
Учитесь, Иван Михайлович? — спросила Нина Георгиевна у 70–летнего старика, как у школьника.
— Ой, учусь, голубка. Всю жизнь учусь.
— Я имею в виду партийную учебу. Что вы изучаете?
Янка Мавр закрыл книгу — «Капитал».
— Да вот… «Капитал» грызу как репу. Уснуть без него не могу.
У Нины расширились глаза. Старшая сидела, понурившись, как незваная гостья.
— Ну и как это помогает вам в вашей писательской работе?— Ой, помогает, голубка. Ой, помогает! — развернул «Капитал», взял листок. — Раньше, когда не учился, сяду к столу, макну перо в чернила и пишу, и пишу. А теперь, когда стал учиться, напишу предложение и… зачеркну. Напишу и зачеркну… Вот как помогает!
Лицо Нины Георгиевны приобрело цвет свеклы. Я едва не сомлел. Ну и Мавр! Настоящий мавр! Больше вопросов у проверщиц не было…»
В старости Янка Мавр ослеп. Но характер его не изменился. Об этом свидетельствует удивительный случай. Писатель с семьей отдыхал на Черном море. Пятилетняя девочка рядом начала тонуть… 72–летний, уже слепой, Мавр бросился в море на крик и спас ребенка.
Виктор Гюго как–то соорудил себе кабинет в виде стеклянного фонаря, на скале, над морем.
Кабинет Александра Грина напоминал каюту корабля.
Янка Мавр на даче в деревне с итальянским названием Турин, неподалеку от Минска, соорудил на берегу Свислочи шалаш–кабинет из лозы. Импровизированный письменный стол стоял на мостках над рекой, так что писатель мог сочинять о дальних странах, свесив ноги в воду и воображая себя на берегу океана.
Государственную премию Янка Мавр получил посмертно… Да какое значение имеют звания, премии и количество прижизненно изданных томов? Были более отмеченные властями, более удачливые… Но сегодня именно Янка Мавр — в числе тех немногих, кого действительно читают и любят. Литературовед Маргарита Ефимова, лично знавшая Янку Мавра, говорила, что писатель так объяснял свой успех: «Чую бiццё чалавечага сэрца…»
Человек, который верил в волатов
Микола Касперович (1885-1937)
Он стоял и смотрел на курган. Это было величественное зрелище – словно из-под земли пытался встать кто-то невероятно огромный и могучий… Волат…
Сколько таких курганов, «валатовак» на родной Беларуси! Конечно, сказки о том, что в них похоронены могучие великаны, всего только сказки, кому, как не ему, этнографу, это понимать… Но человек разделял мнение Вацлава Ластовского о том, что волаты, возможно, древнее племя, от которого происходят белорусы, просто реальные сведения о них, как обычно и бывает, преобразились в мифы.
Но иметь такой миф – это прекрасно… Еще совсем юным он писал в путевых заметках: «Ледзь не ля кожнага хутара курган i маленькiя могiлкi – ўласныя. На крыжавых дарогах старыя крыжы, убраныя хвартушкамi, кавалкамi палатна. Чуецца старына, мiнулае. Што ў курганох? Што значаць вялiкiя каменнi ля iх? …Беларусь зусiм яшчэ не агледжана, i мы яе зусiм не ведаем; пазiраючы туды, – далей, мы тут нiчога не бачым».
Он посвятил жизнь тому, чтобы «агледзець Беларусь». И успел сделать невероятно много. Особенно если учесть, что полноценно заниматься научной деятельностью ему удалось на протяжении всего восьми лет, а многие его уникальные работы бесследно исчезли…
Судьба, в своем трагизме не особенная для истории белорусской культуры. Судьба, которая не должна быть забыта.
Человека, который верил в волатов, звали Микола Касперович.
Касперович родился в семье арендатора Игуменского уезда. Арендатором был, кстати, и отец Купалы… Стереотипное представление о всяком дореволюционном белорусском крестьянине, как забитом, неграмотном обитателе подслеповатой «хацiнкi» пора пересматривать. Да, хватало и страшной нищеты… Но вот семья поэта Владимира Жилки богатой не была, а когда они переезжали, целый воз нагрузили книгами и журналами из домашней библиотеки. Семья историка Николая Улащика – тоже крестьяне. Но «столыпинские», те, которые воспользовались земельной реформой и получили свой надел. В их деревне все ходили в церковь в шляпах и костюмах и выписывали газеты. И родители маленького Миколы Касперовича были уверены: сыну необходимо дать образование! Он окончил церковноприходскую школу, а в год революции поступил в Игуменское начальное училище.
Только представьте, какое это было время: Первая мировая война, революция, мощный подъем национального возрождения. Власти меняются – немцы, поляки, большевики… На взросление времени не было. А в белорусскую школу срочно нужны новые учителя – те, которые могли преподавать народу на его языке. В 17 лет Микола Касперович получает удостоверение народного учителя. Он присутствует на Первом Всебелорусском конгрессе, вступает в партию белорусских социал-революционеров. Преподает в Мирославской школе 1-й степени в Березинском районе, параллельно учится на литературно-художественном отделении Минского учительского института.
Голод на образованных «новых» людей был велик. Совсем юного Миколу посылают инструктором Белорусского отдела Народного комиссариата просвещения БССР в родной уезд. Эту работу юноша совмещает с нелегальной деятельностью эсера, и его увольняют. Однако за несколько месяцев Касперович успел сделать очень много для белорусской школы. Его преемник, Базыль Залуцкий, писал начальству: «Надта было б добра, каб быў прысланы даўнейшы iнструктар Каспяровiч, каторы i цяпер цэлую нядзелю саўсiм не адзеты ездзiў са мною па павеце, i ўсюды працаваў, i, як ён казаў, нават саўсiм без усялякай платы».
Но не слишком покорным характером отличался талантливый юноша, с начальством по жизни были у него проблемы. Пединститут ликвидировали, и Микола Касперович вместе с другими студентами, среди которых много начинающих писателей, перевелся в созданный Белгосуниверситет. Но в конце 1921 года его отчисляют как бывшего эсера.
Зато, по свидетельству друга Касперовича Миколы Улащика, тот имел «талент дзелавiтасцi»: «умеў неяк лёгка арганiзаваць, «прабiць» самую цяжкую справу». И в 1922 году в Слуцкий окружной отдел народного просвещения явился молодой человек с направлением в руках, выданным самим наркомом просвещения Всеволодом Игнатовским. Юноша назначался школьным инспектором.
Энергия у молодого человека феноменальная. Он организовывает белорусские школы, работает в комиссии белорусоведения, основывает в Слуцке краеведческий музей, пишет статьи… В 1923 году Касперович отправляется в экспедицию, чтобы собрать экспонаты для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. И что же это были за экспонаты? «Згоджан лiрнiк, якi, апрача сваiх духоўных вершаў, спявае i свецкiя песнi: беларускую «Марсельезу», «Жанiўся верабей» i гэтак далей. Рыхтуецца група валачобнiкаў, калядоўшчыкаў i iнш., адзежа касца, жняi i г.д. Усе экскурсанты са Случчыны маюць быць адзеты ў нацыянальныя вопраткi (беларускiя)».
В 24 года Миколу Касперовича назначают инспектором Витебского окружного отдела народного образования.
И здесь он проявляет свои разнообразные таланты. Кроме непосредственно школьных дел, инициирует создание филиала «Маладняка», Витебского окружного общества краеведения. В 1927 году Касперович напечатает в журнале «Маладняк» статью, в которой среди наиболее значительных творческих личностей в истории Витебска назовет Марка Шагала и посвятит ему более страницы текста. А ведь Шагал уже уехал в капиталистический Париж, кроме того, далеко не все на родине признавали и понимали его искусство. Но Микола Касперович уверен, что «М[арк] З[ахаравiч] з’яўляецца адным з найбольш яркiх прадстаўнiкоў экспрэсыянiзму i глыбокiм яўрэйскiм нацыянальным мастаком». Но самое большое достижение «витебского периода» Касперовича – он составляет «Вiцебскi краёвы слоўнiк», первый в серии белорусских региональных словарей, задуманной Институтом белоруской культуры.
Касперович был по природе своей учителем – вскоре он еще выдаст и брошюры «Як сабраць i ўкласцi слоўнiк мовы свайго раёна» и в соавторстве с Азбукиным «Як укласцi геаграфiчны слоўнiк». Составит даже «Узоры для лiтаратурных гурткоў пры «Маладняку» i гурткоў селькораў» – первое белоруское пособие для начинающих литераторов.
В 1926 году ценного работника забрали в Минск. Касперович – научный секретарь Центрального бюро краеведения Инбелкульта, секретарь журнала «Наш край». Одна за другой появляются научные работы: «Беларуска-расiйскi слоўнiк», «Слоўнiчак уласных найменняў», «Беларускае малярства ў Польшчы», «Асноўныя моманты гiсторыi беларускага дойлiдства»… Он исследует историю белорусского искусства, архитектуры и театра, составляет библиографию произведений Каруся Каганца, занимается переводами, в том числе переводит на белорусский язык собрание сочинений Ленина. Ездит в экспедиции – не только по Беларуси, но и в Украину, Грузию, Финляндию. В Сибири изучает жизнь белорусской диаспоры…
Вряд ли Касперович предполагал, что Сибирь вскоре станет его последним пристанищем и новой родиной для его семьи.
Этнографа арестовали в 1930 году по делу вымышленного «Саюза вызвалення Беларусi». «Дело» СВБ составляло 29 томов. К счастью, не удалось осуществить сценарий, согласно которому руководителями СВБ должны были быть признаны Янка Купала и Якуб Колас. Именно тогда Купала пытался покончить с собой, разрезав живот перочинным ножиком. Президент Академии наук БССР Всеволод Игнатовский, которому предлагали ту же роль, в ожидании ареста покончил с собой.Но это был еще не расстрельный 37-й.
Почти год шло следствие, приговор Касперовичу – пять лет исправительно-трудовых работ в городском поселке Осинки Кемеровской области.
Что ж, человек, который верил в волатов и составлял словари, поехал валить лес. Таких сосланных было много, и, наверное, многие верили, что после «перевоспитания» вернутся к нормальной жизни. Но дорога в Беларусь была заказана. После освобождения Микола Касперович поселяется в Новосибирске. С ним – его семья. Он преподает русский язык и литературу в техникуме связи, читает лекции по теории литературы в педагогическом институте.
Однажды попав между колес репрессивной машины, можно было не надеяться из нее освободиться. Волны арестов шли одна за другой, иногда давая людям несколько лет надежды. В 1937 году начались повторные аресты. На этот раз приговаривали не к ссылкам, а к огромным лагерным срокам и расстрелам.
Миколу Касперовича расстреляли 26 декабря 1937 года. Реабилитировали его дважды, по двум приговорам, в 1958-м и 1960-м.
Он успел написать 230 работ. Многие до сих пор не найдены, например монография о краеведении, просвещении и культуре Финляндии и прибалтийских стран, сборник очерков «На мастацкiм шляху», сборник очерков «На тэму асветнага краязнаўства», сборники критических статей и народных сказок…
В 2000 году в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства состоялась научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Миколы Касперовича. Из Новосибирска, где так и осталась жить вся семья, приезжал младший сын ученого, Алесь Николаевич Касперович, доктор технических наук, который поделился воспоминаниями об отце. Материалы конференции были изданы, они и послужили основным материалом для этой статьи.
Путь Психеи по раскаленным кирпичам
Змитрок Бядуля (1886-1941)
1941 год. Город Уральск в российской глубинке. Эшелоны с эвакуированными тянутся на восток. Вагоны переполнены, никто не знает, сколько поезд простоит, когда отойдет. Пассажиры бегают в поисках кипятка, продуктов…
Вот паровоз загудел, и люди ринулись занимать места в вагонах. Давка. Крики. Детский плач. Пожилой мужчина с некогда буйной черной шевелюрой, сейчас почти седой, схватился за поручни. Вскочил на ступеньки вагона… И тут же упал.
Оказалось, что его сердце разорвалось. Еще бы — столько боли оно вмещало… Не только своей, но и той «адвечнай крыўды», про которую говорили все белорусские писатели.
3 ноября 1941 года на маленькой станции под Уральском умер известный белорусский писатель Змитрок Бядуля. Вот и получилось, что его семья и семья Петруся Бровки, ехавшие в эвакуацию вместе, остались до конца войны в Уральске. Теперь в этом городе есть улица имени Змитрока Бядули и проводятся ежегодные бядулинские чтения. На могиле писателя — памятник. А рядом — еще один, на могиле той, чей образ стал главным в творчестве Бядули. Хана Лейзаровна Плавник, бедная швея из деревни Посадец Логойского района, не научилась писать ни по–русски, ни по–белорусски, но воспитала в своей большой семье даже не одного, а двух литераторов, вошедших в историю белорусской литературы: Самуила, известного нам как Змитрок Бядуля, и его младшего брата Израиля Плавника, поэта и переводчика, которого называли последователем Максима Богдановича и который был расстрелян фашистами в начале войны.
О своем детстве Самуил Плавник написал автобиографическую повесть «У дрымучых лясах». Нельзя сказать, что Хана Лейзаровна, швея, которая шила удивительные чепчики для женщин всей округи, — самая яркая героиня этой повести… Но ее присутствие в книге постоянно, как воздух. Вот она идет через лес с больным коклюшем сыном на руках от очередного «народного целителя»… Измученная, усталая, жалуется на капризы избалованного вниманием ребенка… И маленький Самуил пугается, что мать может оставить его здесь, в лесу.
«Я пачынаю горка плакаць. Я ў сэрцы каюся, што дома свавольнiчаў i часта наўмысне кашляў.
— Ды што ты, сынок мой… Што ты, родны… Ты ж глупства пляцеш. Я ж цябе нiколi не пакiну. Нiколi!
Яна тулiць мяне да сябе i плача разам са мною. Бярэ мяне на рукi i нясе далей. Яна доўга ўсхлiпвае…».
В той же повести зарисовка с натуры: урядник находит себе развлечение — предлагает мужикам за деньги пройтись босиком по ряду раскаленных кирпичей. Вызывается бедная вдова — ведь ее дети умирают с голоду. И тут срабатывает низкий инстинкт толпы, охочей до зрелища чужих мук: сельчане скидываются на пари: выдержит женщина или нет, чтобы даже не застонать… Вдова проходит свой мучительный путь, из ее обгоревших ног течет кровь… Но она зарабатывает деньги на муку для семьи. И только несколько местных детей, среди них — маленький Самуил Плавник, отчаянно рыдают, глядя на бесчеловечную несправедливость.
Сегодня, наверное, назвали бы Змитрока Бядулю феминистом. Говорили бы о его внимании к гендерным отношениям — тема, на которой «выезжают» многие модные писатели… Известно, что каждый писатель всю жизнь пишет про один и тот же образ женщины. В творчестве Змитрока Бядули чаще всего усматривают образ Мадонны. Но Мадонны Бядули не идеальны… Их покорность, их темнота тоже вызывают протест. В рассказе «Вялiкодныя яйкi» мать запрещает «пэцкалу»–сыну рисовать, потому что это ж баловство. И сын раскрашивает пасхальные яйца за неимением красок собственной кровью. В повести «Соловей» мать красавицы Зоси, убившей пристававшего к ней панского прислужника, сама сзывает людей, сама приносит веревки связать дочь–преступницу… А потом до изнеможения бежит по лесу за санями, чтобы надеть на дочь кожух… А вот рассказ о молодой крестьянке, которую побоями муж свел в могилу. Она искренне считает, что если муж ее будет бить, то хозяйство лучше пойдет… Муки женщины как бы оправданны ее вечной виной, ведь она — женщина, она всегда виновна. Хотя куда тоньше, чем мужчины, способна чувствовать и переживать.
Согласно теории Карла Густава Юнга в душе каждого из нас есть Анима и Анимус — женское духовное начало и мужское. И только в том случае, если они находятся в гармонии, человек гармоничен. К сожалению, люди стараются избавиться от того, что считают слабостью или, наоборот, грубостью. Поэтому нет равенства и понимания между мужчинами и женщинами. Ведь чем больше мужчина вытесняет из своего сознания женские черты, строит из себя мачо, тем больше внутри становится слаб, женствен… И за эту его слабость будет расплачиваться та, которая окажется с ним рядом, — на ней он будет доказывать свое превосходство, пытаясь избавиться от чувства внутренней несостоятельности. Именно на эту схему раскладываются многие рассказы Змитрока Бядули. Анима, Психея, Женщина в его творчестве пытается достучаться до коллективного сознания. Потому что Змитрок Бядуля благодаря своей матери обладал тайной душевной гармонии.
Поэт Микола Аврамчик вспоминает Змитрока Бядулю: «Штосьцi дэманiчнае было ўяго аблiччы з кучаравымi валасамi, вялiкiмi вачыма i губамi. Магчыма, такое ўражанне склалася ў мяне ад яго рамантычных i разам з тым нейкiх таямнiчых iмпрэсiй». Но оказалось, что этот «демонический облик» принадлежит человеку очень деликатному, даже беззащитному. «У яго характары было гэтулькi жаноцкасцi i сцiпласцi…» А Янка Скрыган пишет о необыкновенных «цiшынi i добрасцi», которые были в его глазах, и описывает семейную пару Бядулей: «Часам я бачыў Вас разам з Мар’яй Iсакаўнай i доўга глядзеў вам услед, бо ў Вашай лучнасцi было нешта не зусiм звычайнае: яна была высокая, стройная, прыгожая нейкаю нетутэйшаю, як бы пужлiваю прыгажосцю, i нястрымна iмклiвая. Пра ваша рамантычнае, як бы нетутэйшае каханне i сямейную ладнасць хадзiлi прыгожыя чуткi, i гэта яшчэ больш вылучала Вас з агульнай прывычнасцi».
Он отдал свой талант белорусской культуре. Хотя пришлось пережить многое… И угрозу погромов во время Первой мировой войны, когда евреи объявлялись немецкими шпионами, и трудности революционного времени, и ужас репрессий 30–х годов, когда приходилось присутствовать на многочасовых собраниях–чистках, на которых люди теряли сознание от страха и невыносимого напряжения. На Бядулю обрушилась вульгарная критика. Он много раз пытался переписывать свой роман «Язэп Крушынскi», выходило все хуже, с фальшью, которой чуткий художник не мог себе простить. Но Змитрок Бядуля не запятнал себя клеветой на товарищей, никогда не включался в общую травлю. И теперь мы вспоминаем его трагическую Психею и цитируем его строки:
Верш гручыць па сэрцы, б’е штораз мацней,
Яго мацi — воля, мацi — цвет палей.
След упавшей звезды
Сергей Полуян (1890-1910)
Среди мифов белорусской литературы этот—из самых ярких и трагических… Но если о судьбах рано угасших гениев Павлюка Багрима и Максима Богдановича знают многие, то имя Сергея Полуяна, родившегося в Брагине, все же менее «говорящее» для широкой публики… Разве что факты, что именно Полуяну посвящен сборник «Вянок» Максима Богдановича и поэма «Курган» Янки Купалы… Да еще врезается в память инфернальный образ из «Фантазii» Максима Горецкого: «Як непрытомны прыблiжаўся з Кiева празрыста-белы Сяргей Палуян з сiнiм шнуром на шыi»…
А ведь Сергей Полуян прожил всего 19 лет, в литературе активно участвовал около года… И—такое ему внимание?
«Усё кругом на мамент асвяцiць
I пагаснуць у цёмнай iмглi…—писал о Полуяне Максим Богданович. Образ жертвенного героя, излюбленный романтиками всех эпох… И, как ни странно, похоже, соответствующий истине.
Ну и нарекал уважаемый землевладелец Епифан Иванович Полуян на «няўдалага» сына… Ведь сколько труда стоило простому крестьянину, арендатору, самому стать хозяином, выйти в мещанское сословие, пристроить детей на учебу? Но Сергей уже в Мозырской прогимназии связался с революционерами. И даже, приезжая домой, «пропагандировал» крестьян… Младших братьев и сестер (в семье было восьмеро детей, Сергей—третий) собирал на дворе и учил петь «Варшавянку» и «Марсельезу»… И всегда и везде говорил на белорусском языке—хотя родители старались при важных гостях показать себя «панами», переходя на польский или русский. Послали в другую гимназию, в Митаву, где преподавали два его дяди, братья матери—и там проявил свое бунтарство.
1905 год, революция. Сергею—пятнадцать… Самый возраст для баррикадной романтики. Даже стал ходить в рубашке-косоворотке «революционного», красного, цвета… Пристав предупредил Епифана Ивановича, что если не заберет домой неуправляемого подростка—арестует…
Отец разобрался по-своему… Не идет учеба—работай на хозяйстве, продолжай отцовское дело. Но Сергей был поэтом… А еще—патриотом и романтиком. Не правда ли, типичная ситуация? И разрешилась тоже типично: после очередного «воспитательного момента» с применением силы Сергей Полуян ушел из дома. Навсегда.
Ему семнадцать лет. Голубоглазый, кудрявый, розовощекий юноша, красивый, но очень серьезный. Главными чертами его характера друзья называют правдивость, справедливость и настойчивость. Представьте себе этот «коктейль»—каково выжить с такими качествами и устремлениями, без копейки за душой, с белорусским патриотизмом—в годы столыпинской реакции?
Сергей Полуян едет в Киев, где живет еще один его дядя и двоюродный брат Иван Бахонка… Готовится в университет… Декорации представимы: снятая за гроши нищая комнатка, случайные заработки репетиторством и написанием сочинений за ленивых гимназистов, недоедание… И при этом юноша умудряется стать одной из центральных фигур белорусского возрождения, сотрудничает с «Нашай Нiвай», с украинскими изданиями… В конце концов перебирается в Вильно и делается сотрудником «Нашай Нiвы». За свою недолгую творческую жизнь Полуян смог каким-то чутьем угадать и проанализировать на будущее основные проблемы белорусов. Критическая статья «Беларуская лiтаратура ў 1909 гаду» стала образцом последующей белорусской критики. По сегодня актуальны статьи о национальной школе и театре. Кстати, национальное возрождение Полуян рассматривает как глобальное явление—на примере не только белорусов, но и украинцев, чувашей, якутов. «Трэба зраўнацца з людзьмi, працаваць так, каб усё ў нас было»… Именно Сергей Полуян извлек из редакционной корзины стихи ярославского гимназиста Максима Богдановича, отправленные туда опытным редактором Ядвигиным Ш., как безнадежная и никому не нужная «декадентщина». По свидетельству современников, Полуян сочинял стихотворения, рассказы, пьесы, составлял белорусскую хрестоматию, «Зборнiк цудоўных малюнкаў-сiмвалаў» для детей, писал большую работу по истории белоруской литературы… Много ждали от него. Вот как писатель Олег Лойка описывает встречу Янки Купалы и Сергея Полуяна в августе 1909 года: «Гэты юнак яму спадабаўся, — больш таго, улюбёнымi вачыма глядзеў на яго паэт, бачачы ў iм будучага беларускага Бялiнскага, проста цешачыся яго тэмпераментам, жыццялюбствам, высокай паставай, гаварлiвасцю…»
Тешились темпераментом Полуяна не все. Еще бы! Мальчишка, а поучает солидных людей, занимающихся добыванием денег, установлением полезных связей… В Киеве Сергей разошелся с местными революционерами по причине их несоответствия высоким идеалам… На Беларуси оказалось то же самое. Большую статью Полуяна, которую обещали выдать брошюрой при «Нашай Нiве», «потеряли»… Как пишут исследователи творчества Полуяна В.Рагойша и Т.Кобржицкая, «Ён, як i Янка Купала, не мог зразумець, як гэта ў iмя нейкай грашовай падачкi можна паступацца чысцiнёй iдэалаў—рэкламаваць iдэйна чужыя выданнi, «новейшие парижские изделия» и т.д.». Он готов был терпеть и далее голод и тяжелый труд, но не то, что считал изменой принципам.
Полуян бросает работу и возвращается в Киев. Теперь он уже не розовощекий юноша: худое лицо, глубоко запавшие глаза, пенсне… Ко всем проблемам добавилась еще одна: юноша узнал о своей неизлечимой болезни—чахотке.
«Хоць свет i людны, i шырокi, ты быў як месяц адзiнокi…»
Так напишет потом о Полуяне Максим Богданович.
В ночь с 7 на 8 марта в небольшой темной комнате в доме на Гоголевской, 37 Сергей Полуян создал страшный трагический миф белорусской литературы. Его нашли повешенным. Одному из знакомых украинцев он оставил письмо на белорусском языке:
«…Жыццё не вартае таго, каб жыць. У марах жыццё—казка, а спраўдзi—гнiццё раба i вечная незабяспечанасць. Але не думайце, што я дзеля незабяспечанасцi ўмiраю. Не. Жыць так, як жыву я, няма нiякай радасцi….Я так люблю жыццё, светласць i красу, ды не на маю долю выпала гэта. Прашчайце…Перадайце шчыры прывет беларусам. Багата я думаў зрабiць, ды не зрабiў нiчога. Шкода памiраць так марна, але трэба. Няхай… I яшчэ адна драбнiца: я ўмiраю «пошло», павесiўшыся. Бо не было змогi купiць рэвальвера…»
Смерть Полуяна всколыхнула всех. Похороны превратились в митинг. Один за другим литераторы Беларуси и Украины выказывают свою любовь к покойному, сожаление о его гибели.
«Для беларускiх грамадзян байцом, слугой
Так шчырым быў, а грамадзяне—
Эх! нiткаю к пятлi плацiлi не адной,Хоць колькi ўздоху ў час расстання…», — с горечью писал Янка Купала.
Полуяна похоронили на Байковом кладбище в Киеве. То, что перед этим состоялось отпевание—и сегодня порождает слухи. На фотографии ясно видно: на лбу мертвеца ритуальная лента с молитвой. А ведь по церковным канонам самоубийц не отпевают и не хоронят в освященной земле. Появилось предположение, что самоубийства не было. Подозрение выказывается на «революционных товарищей»—Полуян сотрудничал с «нелегалами». В таком случае, подозрение вызывает и «другая сторона». Дать вырасти «новому Белинскому», да еще «сепаратисту»—опасно… Сколько мог бы сделать Сергей Полуян, проживи хотя бы еще столько же, сколько Максим Богданович!
Отец, узнав о смерти сына, очень переживал. Ведь ни разу не помог тому в его нищете. Ночью, после похорон, Епифан Иванович вскочил и рвался бежать на кладбище, раскапывать могилу сына—ему почудилось, что тот не умер, а спит летаргическим сном. Мать плакала о Сергее до самой своей смерти, а умерла она от чахотки, в 1922 году. Из Киева привезла красную косоворотку Сергея и каждую ночь ложила под подушку: чтобы приснился.
Епифан Иванович поставил на могиле сына гранитный памятник с надписью: «Белорусский беллетрист Сергей Полуян». Но в материале украинского журналиста Валерия Дружбинского говорится о том, что «На могиле поставлен памятник в виде срубленного дерева и сделана надпись: «7 апреля 1910 года. Здесь покоится прах Сергея Епифановича Полуяна, который жил, писал и погиб в Киеве, но душой своей и сердцем был всегда в родной Беларуси. Аминь.» По сведениям Дружбинского, в начале 60-х годов памятник исчез, а в 1969 году на его месте сделано новое захоронение.
Смерть Сергея Полуяна, как комета, оставила свой зловещий след. Через четыре года, тоже весной, его близкий друг, двоюродный брат Иван Бахонка, «нежный, задумчивый хлопец, светлоокий и русоволосый, («Иван-Телесик», как называли его в украинском подполье)», в Мариинском парке в Киеве пустил себе пулю в сердце. Видимо, помня о том, как брат в предсмертной записке сожалел, что не может купить револьвер и вынужден умереть «пошло». «Яны згарэлi ў барацьбе падрыхтоўчага перыяду!»—констатировали советские исследователи.
Из художественных произведений Полуяна сохранилось фактически только два: рассказ «Вёска» и стихотворение в прозе «Хрыстос васкрос!». Первое—про умирание и распад, второе—про воскресение и надежду. С одинаковым мастерством и экспрессией юный поэт говорит о страхе смерти и о вечной жизни… « «Воцатам чужой культуры звiльжалi твае спячоныя смагай свету вусны…—писал поэт о родной Беларуси.—Але кожнага году па ўсёй Беларускай зямлi разносiцца клiч: –Хрыстос уваскрос!… I ты ўваскрэснеш, мой родны край!»
Биография Полуяна идеально подходила для «жертвы мракобесия». Но он не стал еще одним «красным апостолом» с портретами в учебниках. Возможно, потому, что в словосочетании «белорусский Белинский», которое пытались Полуяну навесить, ключевое слово—«белорусский».
Маринист из Копыля
Алесь Гурло (1892-1938)
В трехтомной антологии белорусской поэзии стихов этого поэта я не обнаружила. Не нашлось его книг на полках читального зала академической библиотеки… Еще несколько антологий и сборников, отражающих творчество белорусских поэтов 20-30-х годов прошлого века, без поэзии Алеся Гурло тоже обошлись… Да что ж такое? Он был бездарен?
Да нет, вот современные молодые литературоведы цитируют его произведения. Например, как образчик освоения звукописи в белорусской поэзии:
Загарэлiсь, ззяюць зоры,
Заплятаюцца ў вянкi,
Засцiлаюць высь прастору
Залатыя аганькi,
Сны снуюць са светлай сiнi,
Сочаць з высi за зямлёй;
Сны салодкiя дзяўчыне
Сняцца гэткаю парой…
Маладзiцца месяц марай,
Мне салодзiць мары ён,
Многа зычыць шчасця чараў…
Мае вочы гоняць сон!..
Называют его первым белорусским маринистом—писал стихи о море… Его публикации в газете «Наша Нiва» хвалил сам Янка Купала. Лет восемьдесят назад без упоминания о поэзии Алеся Гурло не обходилась ни одна панорамная рецензия.
Забыли, утратили интерес, списали на литературные издержки времени…
Ах, какая у него была замечательная биография! Любой работник фирмы «Геркулес» из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова отдал бы все свои нетрудовые сбережения за такую биографию! Маленький батрак из Копыля, чернорабочий на лесопилке, с 1909 года—член РСДРП… Участвовал в издании рукописных журналов социал-демократического направления. В 1911 году—рабочий на литейном заводе «Вулкан». А потом—Балтийский флот, крейсер «Богатырь», миноносец «Забияка»… Вот оттуда и появилась морская тема, экзотическая для нашей литературы. Участие в боях Первой мировой… Тяжелое ранение… Во время февральской революции Гурло—на баррикадах. Во время Октябрьской революции бьет юнкеров в Смольном, потом эсеров в Ярославле, воюет против колчаковцев…
Я штурмам браў палац i крэпасць,
Ламаў сцяну вiнтовак, пiк,
I, нiбы шкуматы, атрэп’е,
Нiзаў я юнкераў на штык.
Неудивительно, что столь заслуженная перед новой властью личность не могла остаться не у дел. Гурло работает в редакции газеты «Савецкая Беларусь», потом—в Терминологической комиссии Института белорусской культуры. В 1932 году вышел подготовленный им словарь «Тэхнiчная тэрмiналогiя». Составил Гурло и «Условный словарь портновского языка Копыля», и «Областной словарь Копыльского района»… Один за другим выходят поэтические сборники… Было ради чего сражаться с врагами революции!
Не просто так попал Алесь Гурло в революцию — а во многом благодаря земляку-поэту Тишке Гартному. Именно Гартный привлек его к подпольной работе в Копыле, устроил на завод «Вулкан», хвалил его революционную поэзию… Не забыл земляка, и когда стал при новой власти «большим человеком». Создалась уникальная ситуация, позволившая говорить о «капыльскай школе адраджэнства»—сразу несколько местных уроженцев стали поэтами, публицистами: Тишка Гартный, Хведар Чернышевич, Фабиан Шантырь, Алесь Гурло. Впоследствии появился еще один термин – «тишкизм», направление, заданное революционными стихами Тишки Гартного. К нему примыкал и Гурло… Но именно – «примыкал». Поскольку писал и лирические стихотворения, свободные от пафосной трескучести:
Звоны авадзёна
У паветры носяцца,
Над цвiтучай нiвай
Збожжа-ярыны,
I трава касiцца
Ў касавiцы просiцца,
Дзесь над канюшынай
Чутны кос званы…
А стихи для детей до сих пор разучивают в детских садиках и школах:
У нашым краi—Беларусi—
Ёсць буслы, сарокi, гусi,
Качкi, чыбiсы, саколкi,
Чаплi, совы, перапёлкi…
Вместе с Тишкой Гартным Алесь Гурло вошел в «Маладняк». Вместе с ним оказался в «Полымi»—литературной организации, которая должна была идейно противостоять также выросшему из «Маладняка» «Узвышшу». Правда, в перерыве Гурло успел побывать в группе «Проблiск»—«Пралетарска-сялянскай беларускай лiтаратурнай суполцы». В нее входили вместе с А.Гурло Н.Чернушевич, Я.Бобрик, А.Звонак, Т.Кляшторный, И.Плавник (брат Змитрока Бядули), Я. Тумилович и М. Хведорович. У «Проблicка» появился очень задиристый манифест… Однако, по мнению историков, не хватало яркого лидера. И «Проблiск» угас…
1930-й год. Со странным чувством читаешь хроники того времени. Волна арестов… Жестокие пытки «врагов народа»… Загоняют иголки под ногти. Лишают сна. Бьют до полусмерти. А рядом продолжают верить в светлое будущее товарищи арестованных, с которыми еще вчера вместе сидели на редакционном собрании. Кроме того, продолжаются споры, чья поредевшая литературная организация более правильная.
Вот в конце мая в Доме просвещения проходит юбилейный вечер Янки Купалы—в честь 25-летия его творчества. Выступает Лука Бенде, юбиляр молчит. Вот читаем, как в начале октября 1930 года «менская фiлiя БелАПП (Беларуская асацыяцыя пралетарскiх пiсьменнiкаў – Л.Р.) абвясцiла ўдарную дэкаду па арганiзацыi лiтаратурных гурткоў на прадпрыемствах». Вот той же осенью Валерий Моряков, Тишка Гартный и Станислав Шушкевич выступают перед рабочими кожевенного завода «Большевик». Вот в БГУ происходит встреча с писателями из РСФСР Ф. Гладковым и В.Кирилловым…
А уже с февраля в застенках появились первые жертвы—в частности, создатель недолговечного «Проблiска» Ничипор Чернушевич. После очередной волны арестов, прошедшей в конце июня, там же оказались «палымянец» Михайло Громыка, близкий к «Полымю» критик Владислав Дзержинский (Чаржинский), «узвышэнец» Владимир Жилка, больной туберкулезом, который был взят с высокой температурой прямо из постели. 24 июля арестованы «узвышэнцы» Владимир Дубовка, Язэп Пуща, Адам Бабарека, Антон Адамович, Василь Шашалевич и исключенный из «Узвышша» Феликс Купцевич. К ним добавились «палымянцы» Алесь Лежневич, Николай Байков, Алесь Дударь. Взяли и членов самой правильной организации, БелАППа, Сымона Хурсика и Алеся Городню. Прихватили и «стариков» – Максима Горецкого и Вацлава Ластовского. Это, разумеется, не полное перечисление.
25 июля был арестован и «палымянец» Алесь Гурло.
Ото всех пытались добиться признания в принадлежности к мифическому «Саюзу вызвалення Беларусi».
Кстати, оставшиеся на воле не просто делали вид, что ничего не замечают. Они… реагировали. С ноября в прессе начинают появляться изобличающие и покаянные материалы касательно «беларускай падпольнай кантррэвалюцыйнай арганiзацыi беларускiх нацдэмаў». С покаянными письмами выступили Якуб Колас и Змитрок Бедуля. «Узвышэнцы» 30 ноября приняли на общем собрании резолюцию «Патрабуем жорсткай кары агентам мiжнароднай буржуазii ў савецкай Беларусi—беларускiм кантррэвалюцыйным нацыянал-дэмакратам». «Узвышэнец» Максим Лужанин печатает стихотворение «Дзень гневу», «белаппавец» Виктор Козловский (впоследствии он сошел с ума от допросов) — стихотворение «Абвяшчаю я свой прыгавор», «палымянец» Михась Чарот—«Суровы прыгавор падпiсываю першы». Именно тогда Янка Купала, которого собирались объявить «идейным руководителем» «нацдемовской контрреволюции», и сделал себе «харакири»…
Конечно, Алесь Гурло, попав в застенки, как враг народа, не мог не испытывать острой обиды и растерянности.
«Ды хiба можна дапусцiць, каб я—чалавек, якi мае 20-гадовы рэвалюцыйны стаж, чалавек, якi быў непасрэдным удзельнiкам амаль усiх франтоў грамадзянскай вайны, барыкадных баёў Лютаўскай рэвалюцыi, чалавек, якi разам з маракамi «Аўроры», «Забiякi» i iнш. караблёў, а таксама плячо ў плячо з перадавымi рабочымi старога Пiцера штурмаваў апошнюю цытадэль рускага iмперыялiзму—Зiмнi палац, хiба я мог дапусцiць, каб я здрадзiў справе пралетарыяту?! Не i не!»—заявлял А.Гурло в своих показаниях от 2 ноября 1930 года. Впрочем, политику партии и правительства не осуждает, поскольку «усё несумленнае павiнна быць выкiнута за борт вялiзнейшага сацыялiстычнага карабля». Честно замечает, что «нацыянал-дэмакратычныя тэндэнцыi рэзка выявiлiся ў творах беларускiх пiсьменнiкаў М.Зарэцкага—«Крывiчы», «Падарожжа на новую зямлю», А.Дудара—«Вецер з Усходу», «Пасеклi край наш папалам», Ц.Гартнага—«Здарэнне з камiсарамi», У.Дубоўкi, Я.Пушчы i iнш.». Отмечает вредные научные работы в Академии наук, осуждает нехорошие дискуссии и Тишку Гартного… Кается и в собственных грехах: «недастаткова адлюстроўваў тэмпы так шырока разгорнутага сацыялiстычнага будаўнiцтва», «У сваiм прыватным жыццi ў сваiм дамашнiм быце я дапускаў нездаровае акружэнне». «За што мяне трэба пазбягаць, за што я сам сябе маральна павiнен бэсцiць? Гэта за маю маральную iнэртнасць, за маю абыякавасць, за маю мягкацеласць.[…]Праўда, усё гэта абумоўлена вядомымi прычынамi[…]вярнуўшыся 10 жнiўня 1921 г. у БССР з франтоў iмперыялiстычнай i грамадзянскай вайны фiзiчна стомлены, я не застаў у жывых бацькоў[…] двух братоў, забiтых на фронце грамадзянскай вайны, i сястры. Я застаўся амаль адiнокiм (з родных у жывых толькi адна сястра). Неабходна была кампенсацыя страчанага. Я пачаў шукаць сяброўства. Я пачаў шукаць маральнай падтрымкi. Харошых сяброў—я не ведаю, цi знайшоў я iх, але харошых выпiвох знаходзiў безумоўна. Гэта i ўцягнула мяне ў багему, у вынiку чаго я часова апусцiўся».
Тем не менее Алесь Гурло утверждал, что «не паддаўся варожым уплывам», и напрочь отрицает свою принадлежность к «Саюзу вызвалення Беларусi», говоря, что о такой организации ничего не слышал.
10 апреля 1931 года Алесь Гурло был осужден на пять лет ссылки в Самару, однако его освободили. Как он жил следующие семь лет—сведений мало. Книжки не выходили, однако в 1934-м году он, как и Тишка Гартный, стал членом Союза писателей СССР. Успел стать свидетелем самых страшных репрессий. В том числе—ареста своего друга и покровителя Тишки Гартного, который умер в 1937-м году в могилевской психиатрической лечебнице.
Алеся Гурло больше не трогали. Почему? Существуют разные версии.
В некрологе, опубликованном во втором номере журнала «Полымя рэвалюцыi» за 1938 год говорилось, что причиной смерти Алеся Гурло были туберкулез и ранения.
Что стоит за этой формулировкой на самом деле—мы не знаем.
Не гасiце агнёў! Хай гараць весялей,
Хай палаюць iскрыста ў цьме ночы…
Не гасiце агнёў! Хай праменнi ясней
Асвятляюць праспаныя вочы…
Тернистый путь Павлинки
Павлина Меделка (1893-1974)
Если представить нашу страну в некоем архетипическом образе, каков он будет? Какая героиня получится? Мне кажется, равные шансы имеют Алеся и Павлинка. Образы, кстати, обязаны своей популярностью литературе. Алеся—из песни на стихотворение Аркадия Кулешова, та самая, которую герой просит «останься со мною, как песня».
Ну а Павлинка—это знают все, она из пьесы Янки Купалы.
Обе героини подарили свои имена производственным фирмам, магазинам, конфетам и многочисленным белорусочкам, синеоким и нет.
Но все ли из вас, уважаемые читатели, знают, кто подарил свое имя купаловской Павлинке?
Странная это вещь—история. Нам только кажется, что мы знаем о том либо ином персонаже, был он герой либо предатель, злодей или гуманист. Но ведь на самом деле мы об этом просто прочитали. А ведь и летописи, и исторические романы писали люди, такие же, как и мы, подверженные тем же слабостям, со своими симпатиями и антипатиями…
И как тяжело разглядеть сквозь время настоящее лицо…
Впервые это имя—«Павлина Меделка»—я услышала в Москве, от земляка, соученика по Литературному институту. Да еще в каком жутком контексте: жила красавица, в которую был влюблен Янка Купала. Она ему отказала, а потом, когда поклонник прославился, пожалела—да поздно. Вот из мести и столкнула поэта в 1942 году в лестничный пролет московской гостиницы.
Чего только не принимаешь на веру в юности.
И вот сегодня читаю о таинственной Павлине Меделке в энциклопедии: «Заслужаны дзеяч культуры Беларусi…» «Значны уклад у развiцце беларускага тэатральнага мастацтва на этапе яго станаўлення…» «Сябравала з Я.Купалам»… «Пiсала вершы, паэмы, песнi, п’есы»…
И портрет красивой женщины с гордым, пристальным взглядом.
Кто же она такая, белорусская Павлинка?
Родилась Павлина Меделка 12 сентября 1893 года в Будславе, окончила Высшие коммерческие курсы в Петербурге. Именно там, в Петербурге, в 1913 году она и вошла навсегда в белорусскую историю, сыграв роль главной героини, да еще своей тезки, в премьерном спектакле по пьесе Янки Купалы на сцене рабочего клуба «Пальма». Тогда в северной столице было много студентов из Беларуси. Действовал «Белорусский литературно-научный кружок студентов Санкт-Петербургского университета». Янка Купала и сам занимался на знаменитых Черняевских курсах.
Впрочем, с Янкой Купалой Павлинка познакомилась еще раньше, в 1908 году, в Вильно. Совсем юная, она пришла к знакомым, а двери ей открыл незнакомый молодой мужчина, который стал шутить с хорошенькой гостьей, расспрашивать, много ли в Вильно красивых девчат и тому подобное. Девушка, узнав, что встретилась с поэтом Купалой, разочаровалась—«звычайны хлопец, якi вядзе такую несур’ёзную гутарку».
В Петербурге был уже не «хлопец»—известный поэт… Но сердце Павлины занято. Она упорно отвергает ухаживания знаменитости, прилюдно отчитывает за попытку поцеловать… Ни завоеванная уже популярность, ни грядущая слава не помогли Янке Купале завоевать сердце гордой красавицы.
Говорят, поэтам полезно переживать несчастную любовь. Якобы они даже в этом кровно заинтересованы. И Данте вполне мог бы ближе познакомиться с Беатриче, а Петрарка—с Лаурой, но… Но тогда бы не было восхитительных сонетов? или они были бы посвящены иным дамам, обладающим главным сокровищем—недоступностью.
Павлина Меделка становится женой организатора и идеолога партии белорусских эсеров Томаша Гриба. Они познакомились в Петербурге, встречались на земляческих вечерах. А потом, когда Беларусь находилась под властью поляков, пришлось вместе побывать в застенках. Павлину, которая была инспектором белорусских школ, редактор гродненской газеты «Родны край» попросил вычитать гранки… И газета вышла с «крамольной» передовицей. Автором статьи был Томаш Гриб. Его арестовали в Вильно, затем перевели в гродненскую тюрьму. Там же находилась и Павлина. Во время свидания Томаш передал девушке свой дневник… С историей своей любви к ней. При следующем свидании Павлина положила в карман Томашу письмо, в котором сообщала, что отныне он может считать ее своей женой.
Вот такая романтическая любовь гордой красавицы.
Революционная семья—в гуще событий. В Минске хозяйничают белополяки. На квартире Томаша Гриба и Павлины Меделки—явка повстанческой организации. Супругам грозил расстрел. Читая воспоминания Павлины о тех днях, ее послания из тюрьмы, ловишь себя на мысли, что подобное где-то читал—это был пафос поколения: «Так, жыццё я складаю на алтары Бацькаўшчыны. Ах, вянкоў нiякiх не патрэбна! Жыццём i смерцю сваей я хацела б збудзiць да чыну тых, якiя дрэмлюць яшчэ, хацела б вочы iх звярнуць да сонца праўды, у душах iх распалiць агонь гарачага кахання да Бацькаўшчыны…» и т.д. Героизм в чистом виде.
Но на расстрел Павлину и Томаша не повели. Посадили в товарняк и повезли на запад.
Так в начале 20-х они и расстались—навсегда. Даже в воспоминаниях Павлина избегала упоминать своего мечтательного «Тума»—на Беларуси он был сразу же объявлен «врагом народа». (Вроде бы Томаш несколько раз пытался увидеться с женой—но бесполезно.)
А покамест Павлина побывала в варшавской тюрьме, вронковском концлагере, попала на поселение в Лодзь, затем вернулась к семье, в Глубокое. Дороги тянутся и тянутся… Литва, потом—Лейпциг (Павлина по приглашению Тишки Гартного работала там корректором белорусских учебников), наконец—учительница белорусского языка и литературы в Латвии, в Двинске. Повсюду—гордая, активная, преданная делу белорусского возрождения… Как сообщает историк Владимир Колесник, в Гродно польская клерикальная газета назвала в свое время Павлину Меделку—Метелкой, которая выметает польский дух и насаждает белорусский.
В 1925 году состоялся суд над учителями Двинской белорусской гимназии по обвинению их в том, что они якобы «принимали участие в преступном сообществе в Латвии, которое ставило целью силой оторвать от латвийского государства территорию Двинского, Режицкого, Люцинского и частично Илушкентского уездов и присоединить их к белорусскому государству». Среди обвиняемых—Павлина Меделка.
К счастью, у “проклятых буржуев” случались справедливые суды, доказательств не нашлось, и учителей оправдали. Но из Латвии предстояло убраться… Куда?
Вот тут и начинается новая страница жизни Павлинки. Советское посольство выделяет ей 12 тысяч рублей помощи и оформляет визу. Так Павлинка оказывается в Стране Советов, процветающей под мудрым управлением вождя народов. Отсюда она уже не уедет никогда.
Трудно оценить, насколько искренне и полно описаны в воспоминаниях Павлины Меделки ее впечатления от преображенной родины и о царящих там порядках. Понятно, что Павлина пытается выжить, работает, куда направляет Наркомобраз, учительствует. Читает лекции, заводит дружбу с советскими функционерками. Можно только предполагать, на каких условиях ей, приехавшей с вражеской стороны, разрешили жить и работать в стране тотальной подозрительности.
Разумеется, состоялась и встреча с Янкой Купалой.
Произошло это, как описывает в своем романе-эссе Олег Лойко, в зале заседаний Инбелкульта 28 мая 1925 года, где торжественно праздновалось десятилетие со дня опубликования программного стихотворения Янки Купалы «Мужик» (охотно пародируемого сегодня отечественными постмодернистами). В скором времени ожидался день рождения поэта, и пресса уже пестрела поздравлениями. С трибуны звучали фундаментальные доклады о творчестве песняра, журналисты торопливо записывали о «товарищеской теплоте и вежливости в зале»… Это теперь исследователи находят в секретных архивах всевозможные доносы, свидетельства интриг и зависти в связи с этим заседанием…
Павлинка вошла через задние двери. Пробилась к юбиляру…
Купала не сразу узнал ее.
Еще в 1917 году поэт женился на подруге своей гордой Павлинки, учительнице Владиславе. Меделка, узнав об этом, не сдержала досады, подчеркнув в своих записях, что Купала еще недавно к Владе был равнодушен, а сох совсем по другой… Нынче Владислава сидела в президиуме рядом со знаменитым мужем. А красавица Меделка, пополневшая, постаревшая, стояла у стены.
Но вскоре Павлина Меделка… сделалась другом семьи. Приходила в гости, участвовала в откровеных разговорах. Жалела ли она о том, что отвергла любовь поэта, ревновала ли к подруге? В воспоминаниях есть намеки на это. Но—повторимся—воспоминания субъективны, и не все могла и хотела записывать автор. Особенно об обстоятельствах своей новой жизни, о том, насколько искренними были визиты в «дом под тополями», где жила семья поэта.
Аресты интеллигенции в Минске начались в июне 1930 года. Забрали и Павлину. Это был далеко не первый ее арест. Помните, как гордо она несла свой крест мученицы за освобождение народа? Но здесь… Владимир Колесник пишет: «Тое, што прайшла Паўлiна ў следчых турмах, было школай адвыхоўвання, спосабам вызвалення ў зняволенай душы адмоўных пачуццяў, без якiх не выжыць у аўтарытарным грамадстве. Паўлiну… падганялi пад стандарт савецкай грамадзянкi, апантанай са страху i пiльнасцi да ворагаў iстоты».
Десять дней беспрерывных допросов, без сна и отдыха… Пусть исследователи, имеющие доступ к архивам, опишут конкретнее, как и что происходило. Сама Павлина оправдывается: подписала все, что подсовывали, потому что была совершенно измучена, доведена почти до сумасшествия.После десяти месяцев заключения Павлина Меделка высылается в Казань. Потом некоторое время учительствует в образцовой школе Москвы (неплохо для «врага народа»?). Наконец—все-таки бдительность сотрудников превыше всего—возвращается в родной Будслав.
Когда погиб Янка Купала, Павлина Меделка также была в Москве (что и послужило, видимо, поводом к досужим сплетням о причастности к его гибели). О смерти поэта Павлина узнала из сообщения по радио. Когда прилетела из Казани Владислава, женщины попытались вместе разузнать тайну гибели Купалы. Многие сегодня строят свои версии на том, что записала в своих дневниках об узнанных фактах Павлина Меделка. Тайна эта не раскрыта до сих пор.
Итак, Павлина учительствовала в родном Будславе, организовала хор, драматический кружок… В 1966 году ей присвоили звание заслуженного деятеля культуры Беларуси.
Ее воспоминания «Сцежкамi жыцця» вышли в 1974 году. В том же году Павлинки не стало.
Часть воспоминаний Павлина Меделка завещала передать Максиму Танку, чтобы тот опубликовал их через 25 лет. Есть и такая часть воспоминаний, которая называется «Факты, якiя нiколi не могуць i не павiнны быць апублiкаваны». Именно там—о смерти Янки Купалы, о его похоронах в 1942 году в Москве и перезахоронении в 1962 году в Минске. Желающие могут ознакомиться с ними на страницах журнала «Полымя» №2 – 5 за 1993 год.
Когда вы, уважаемые читатели, пойдете в Купаловский театр и в очередной раз увидите бессмертную Павлинку на его сцене (только не говорите, что до сих пор не удосужились!), вспомните и Павлинку иную… Не уставшую от житейских передряг учительницу советской школы, а гордую юную девушку, в которую влюблен великий поэт. Девушку, вдохновившую его на прекрасные строки…
А может ли быть более возвышенная миссия в жизни, чем быть (хотя б какое-то время) музой поэта?
Розы для Леонилы
Леонила Чернявская (1893-1976)
Быть музой писателя—это, конечно, лестно… Быть при этом его женой, объединяя любовь земную и любовь небесную, мужественно разделяя тернистый земной путь, который обычно и выпадает на долю талантам—на это способны немногие.
18 лет счастья, перемежаемого тревогами—и 34 года горького одиночества, посвященного сохранению памяти любимого…
Леонила Чернявская, жена великого белорусского писателя Максима Горецкого, не зря была уважаема всеми, кто знал ее. Сам Максим однажды сказал дочке: «Запомни: она святая!», а в письмах называл ее «Цярплiвая ласка».
…Вильня, 1919 год. В газете «Беларуская думка» опубликован роман Максима Горецкого «Дзве душы». Страстный и необычайно смелый рассказ о белорусской идее, о пути белорусов на сквозняках эпохи.
«Я не ведаю, хто мне свой i хто чужы. Я дзяржуся дзiкога неўтралiтэту i ашукваю тых i гэтых i самога сябе…
I адна палова яго, каторая разумела белых, маўчала, знямела.
I другая палова яго, каторая разумела чырвоных, вымагала…»
В этом же году выходит сборник рассказов для детей молодой преподавательницы Виленской белорусской гимназии Леонилы Чернявской «Дзiцячыя гульнi». А поскольку в белорусской среде кипела вдохновенная возрожденческая работа, Леонила взялась за составление «дзiцячай чытанкi», хрестоматии для начальной школы «Родны край».
Максим Горецкий в то время тоже оказался в Вильне, вместе с редакцией газеты «Звязда». Его заинтересовало известие о том, что молодая учительница готовит «чытанку». Он узнал адрес и… пришел.
Так началась история долгой и прекрасной любви.
Через какое-то время Максим Горецкий носил Леониле розы, не обращая внимания на пули, которые «пасвiствалi i ў яе двары». Что ж, Горецкий был недавний фронтовик, пули его не пугали…
16 июля 1919 года они обвенчались.
Как гласит «формула истинной любви», и ложе, и радость, и горе—одни на двоих.
Максима Горецкого будут арестовывать трижды.
Первый раз—через три года после их встречи, в ночь с 19 на 20 января 1922 года. К тому времени у Горецких была маленькая дочь, а Леонила ждала второго ребенка. Власти панской Польши обвинили Горецкого в том, что он принадлежит к партии коммунистов и помогает в организации тайных боевых дружин.
Это было серьезное обвинение, за которое могли приговорить к смертной казни. Леонила Чернявская не могла этого не знать. В ночь с 3 на 4 февраля мужа привели к ней из тюрьмы на короткое свидание. Этот эпизод Горецкий впоследствии описал в своей «Комаровской хронике», где в главных героях угадываются он сам и Леонила:
«Развiтанне было балючае, тым болей што Мiла была на пятым месяцы цяжарнасцi. Трымалася яна добра, каб падбадрыць Кузьму, але ёй уроiлася, што яго могуць павесцi i расстраляць, i Кузьма пасля шмат разоў думаў, як яна перанясе хвiлiны гэтых страшных перажыванняў».
Тем не менее Леонила не позволила полицейским увидеть свое отчаяние и слезы. Любовь и мужество находятся рядом.
Тогда обошлось без суда, Горецкого просто выслали из Вильни. В 1923 году он оказался в БССР.
Второй раз Максима Горецкого арестовывала уже другая власть. Но тем же способом—ночью. С 18 на 19 июля 1930 года.
Между этими двумя арестами вместилось много тревожного и радостного. И, наверное, самые счастливые годы жизни. Теперь у Горецких было двое детей—дочь Галя и сын Леонид. В 1926 году Горецкого пригласили возглавить кафедру белорусского языка и литературы в Горках, в знаменитой сельскохозяйственной академии. Прекрасная природа, дендрологический парк, в котором Максим Горецкий любил гулять вместе с детьми. Цветы росли не только в парке, но и в доме—Леонила Горецкая любила их выращивать. А еще прекрасно вышивала, и все ее близкие носили украшенную ее искусными руками одежду. А еще у нее был прекрасный голос—сопрано… К тому же она была не просто домохозяйкой, но продолжала творческую работу. Писала рассказы, переводила с русского, французского, польского… Конечно, помогала мужу—кому же еще показать написанное, как не «домашнему редактору»? В 1928 году вернулись в Минск… На глазах рождалась новая Беларусь. Национальный университет, институты, издания, творческие организации… Максим Горецкий занимается исследованиями в Институте белоруской культуры, в Академии наук, читает лекции на рабфаке. Его произведения известны и популярны… Он, фактически, признан классиком… Но атмосфера уже изменилась. 1 октября 1928 года было объявлено о начале первой пятилетки. Отменялся НЭП, начиналось «великое наступление коммунизма». Национальная белорусская интеллигенция уже мешает осуществлению тоталитарных планов новой власти. На XII съезде КП(б)Б было объявлено о необходимости «весцi рашучую барацьбу з усякай праявай нацыянал-дэмакратызму». Литератор Антон Адамович утверждает, что в пик кампании против «нацдемовщины» Максим Горецкий обратился к Якубу Коласу и Янке Купале с предложением выступить против разгрома белорусской национальной культуры, призывал их отказаться от званий народных писателей, а когда те не согласились, вернул им их книжки с автографами.
В 1930-м начались аресты. Максима Горецкого сослали в Вятку.
Леонила Чернявская сразу же начинает хлопотать, чтобы поехать за мужем. Она не рассуждает, не сомневается, ее не смущает, что на руках двое маленьких детей. В переписке Леонилы и Максима столько нежности, тревоги друг за друга, столько любви… К мужу Леонила приехала в 1931-м, а в следующем году семья воссоединилась… В проходной комнатке в девять квадратных метров.
Бывший академик и известный белорусский писатель работает чертежником, техником… Леонила—воспитательницей в детском саду. Конечно, семья не роскошествовала. Но они были вместе! После отбытия срока переехали в поселок Песочня Смоленской области, где Горецкий получил возможность работать учителем русского языка… Были и прогулки к местным храмам, и разговоры о звездах, и семейные музицирования…
Но и этого счастья оказалось слишком много…
В 1937-м, «черном», году, опять в ночь, с 3 на 4 ноября, Максима Горецкого арестовали в третий раз.
Это был последний арест. И в последний раз Леонила видела любимого мужа—когда его переправляли в Вязьму, 21 декабря. В 1990 году в журнале «Полымя» были напечатаны воспоминания Леонилы Чернявской:
«Ён цалаваў мае рукi, прасiў прабачэння за свой нервовы характар. Клапацiўся, што будзе з намi, як будзем жыць далей. Я з выгляду была спакойная… Так i застаўся ў маёй памяцi Максiм Iванавiч з хатыльком за плячыма, валенцамi пад пахай.»
Она даст волю слезам только тогда, когда вернется домой, к детям. Не просто расплачется—заголосит, как делают испокон веков женщины из народа, прощаясь навсегда со своими любимыми…
Впрочем, надежда оставалась. Леонила была сильной, она ждала и готова была ехать за мужем, куда придется. Хотя уже существовал АЛЖИР—Акмолинский лагерь для жен изменников родины, хотя многие предпочитали вычеркнуть из жизни «заклейменых» близких. Она же слала мужу переводы, посылки, письма, но ответов не получала. Более того—ей не говорили, где он находится. Леонила обивала пороги «контор»… 1 ноября 1939 года ей сообщили, что ее муж умер в глухом поселке Коми АССР.
Только после смерти Леонилы стала известна ужасная подробность—ей цинично врали. Еще когда писала полные надежды письма, собирала из последнего посылки, ее любимый был уже мертв. Максима Горецкого, гордость белорусской литературы, расстреляли 10 февраля 1938 года в Вязьме. Сегодня там установлен памятник жертвам сталинских репрессий, на котором имеется надпись: «Предположительно на этом месте, где похоронены сотни известных и неизвестных людей, жертв репрессий, находится прах известного белорусского писателя, ученого и педагога Максима Ивановича Горецкого».Леонила Чернявская видит смысл своей жизни в том, чтобы добиться реабилитации мужа, возвращения его духовного наследия. А ведь придется еще пережить смерть сына Лени. По странному совпадению, он погибнет на фронте в день рождения своего отца — 18 февраля 1944 г.
Трогательно читать переписку Леонилы Чернявской с деверем, братом Максима Горецкого Гаврилой Горецким, видным ученым-геологом, который, как и брат, был репрессирован и жил в ссылке. Леонила с дочерью Галиной в то время оказались в Ленинграде.
«20.ХII.48 г. Перад табою, любая Лёля, вялiкае заданне – прывесцi Максiмаву лiтаратурную спадчыну ў парадак. Нiдзе нельга гэтага лепш зрабiць, як у Ленiнградзе, бо пад бокам тут вялiзарныя кнiгасховы, бiблiятэкi. I нiхто гэтага ня можа лепш за цябе зрабiць, дарагая Лёля!
У iмя светлых вобразаў Максiма i Лёнi, у iмя моцы iх духу, збяры ж i ты, любая мая сястрынька, усе свае сiлы, усю сваю волю, усе свае вялiкiя прыродныя здольнасцi! Пачнi вялiкую справу. Упарадкуй спадчыну i напiшы ўспамiны. Калi ж не зможаш пiсаць сама, паклiч на дапамогу Галю. Яна мае добрыя вочы i залатыя рукi—яна табе дапаможа… Працуйце разам у iмя Максiма. Няхай упарадкаванне яго лiтаратурнай спадчыны будзе галоўнай мэтай надыходзячага Новага Году. Мы будзем старацца дапамагчы Вам, у меры хоць якой-небудзь спрыяючай падзеi.»
Леонила исполнила все. Именно благодаря ей сохранился архив Максима Горецкого, который она свято хранила, перепрятывала много лет, конечно же, рискуя. Но, как пишет исследовательница биографии Леонилы Чернявской Татьяна Дасаева, Леонила Чернявская была «Сялянка па паходжаннi… Арыстакратка па духу. Верная дачка сваёй Бацькаўшчыны. Асветнiца. Пiсьменнiца. А яшчэ—жонка Максiма Гарэцкага».
Уже незадолго до смерти Чернявская напишет: «Николi, нi разу не пашкадавала, што выйшла замуж за Максiма, хоць i нялёгкiм аказаўся мой лёс…»
Умерла Леонила Чернявская в 1976 году Санкт-Петербурге, там и похоронена. В 1957-м ее муж был реабилитирован. 1993 год ЮНЕСКО объявило годом Максима Горецкого.
Витаизм кровавых звезд
Адам Бабареко (1899-1938)
Можете ли вы представить молодого писателя, который в 26 лет, издав первую книгу рассказов, после первого успеха вдруг объявляет, что эта книга будет и последней—и больше ни стихов, ни рассказов он писать не станет, а полностью переключится на критику и литературоведение? Человек, о котором мы сегодня поговорим, сделал именно так—и сдержал слово.
Это не было кокетством вундеркинда.
Не было и испугом графомана—никто не ставил под сомнение литературную одаренность этого молодого автора.
Но именно в качестве критика он стал классиком белорусской литературы. Его называли белорусским Белинским.
Сегодня его имя мало кому что-то говорит.
Звали его Адам Бабареко.
Адам родился в семье безземельного крестьянина в деревне Слобода-Кучинка, что на Копыльщине. Рано остался без отца, поступил учиться в слуцкую бурсу, потом в Минскую духовную семинарию… Неизвестно, кем бы он стал, если бы время его юности не пришлось на эпоху белорусского возрождения. В 1917 году Адам Бабареко вошел в культурно-просветительский кружок «Зарнiца»—такие создавались по всей Беларуси. В кружок входила молодежь из двух деревень. Среди пунктов программы «Зарнiцы» значилось: «Усе сябрукi гуртка павiнны высока дзяржаць свой беларускi гонар: мы маем выдатную гiстарычную мiнуўшчыну i слаўную будучыню… Усе сябрукi павiнны гаварыць мiж сабою i ўсюды па-беларуску; выпiсваць беларускiя газеты, часопiсы i кнiжкi, якiя выходзяць на роднай мове i шырыць беларускую лiтаратуру».
В 1918 году Адам уже пробует себя, как литератор… Но—очередные политические перемены, и Слутчина оказывается на территории панской Польши. Адам включается в подпольную борьбу…
…Годы спустя учитель из советского Минска Адам Бабареко поведет своих школьников на экскурсию по революционному маршруту—домик I съезда РСДРП, Пищаловский замок, на воротах которого повесили народовольца Пулихова, место Курловского расстрела возле вокзала… И ученики заметят, что сквозь белую рубашку учителя просвечивают две красные звезды. Он, стесняясь, объяснит, что это последствие допросов в дефензиве… Избивали плетьми, вырезали звезды на спине… Он вообще не любил рассказывать о своем героическом прошлом. Дочь Алеся вспоминает: «Ужо была я большанькая i аднойчы, як былi на пляжы, упершыню заўважыла на бацькавай спiне якiясь дзве вялiкiя ўзрытыя плямы. Формай i выглядам яны мне нагадалi велiзарныя восьпiны, што прывiваюць дзецям… Дык я i спытала ў бацькi, чаму яму прывiвалi воспу на спiне. Ён мне неяк разгублена адказаў, што так вось здарылася. Мама нiчога да таго не дадала».
Дочь только много лет спустя узнала, через какие пытки пришлось пройти отцу в плену у пилсудчиков.
Однако новая власть к старым шрамам добавила еще…
Знакомые вспоминают Адама Бабареко, как человека чрезвычайно деликатного и доброго. Оппоненты прозвали его «Гераклитом Темным», поскольку «обладал затрудненной речью», то есть путано и долго излагал мысли. Зато в его статьях блистал публицистический талант. Одни становились его врагами, другие—единомышленниками. Каждый четверг на квартире Бабареко велись дискуссии, читались стихи… Он активно выступает в печати, полюбуйтесь на перечисление псевдонимов: «А.Б.; А.Ч.; А-м Б-а; А. Б-ка; А. Б-рэка; Адам Гаротны; Я. Калiна; Якiм Калiна; Малады настаўнiк; А.Рэка; Чырвоны; А.Чырвоны; Адам Чырвоны; А.Чэмер».
Именно Адам Бабареко расставлял «акценты» в литераторской иерархии, исходя из таланта, а не идеологических заслуг. Оцените несколько фраз из его блокнота, которые цитирует в своей статье историк Алексей Кавка: «У наш век людзi энергiчна ўзялiся за ўладжванне свайго матэрыяльнага дабрабыту. Проста, як глянеш навокал, дык ледзь не «стервенеешь». Усе думкi, усе помыслы зведзеныя на зямлю[…] i ў гэтай […]плясцы людзi патапталi нагамi ўсё святое. I пачаў чалавек вучыцца i прылаўчацца, як найлепей уладзiцца на гэтай зямлi, пачаў думаць, як замацаваць сваё панаванне на вырваным з зубоў другога месцы, пачаў клапацiцца, каб забяспечыць гэтае месца сваiм нашчадкам. I жыццё абярнулася ў дзiкую гульню, якая завецца «барацьбой класаў».
Ничего себе образ мыслей в то время, когда «барацьба класаў» считалась единственно правильным критерием оценки не только в политике, но и в искусстве!
Адам Бабареко был основателем объединений «Маладняк « и «Узвышша», придумал принципы «витаизма» и «аквитизма» в белорусской литературе… Витаизм—это от латинского «жизнь». Жизнетворческая сущность искусства, «сiнтэз, стройная сугучнасць рамантызму жыцця з яго рэалiзмам». «Аквитизм»—«живая вода», «iмклiвасць, якой прасякаецца мастацкi твор у сваiм iдэале».
Молодые белорусские литераторы—а их тогда, в конце 20-х насчитывалось сотни—искали, спорили, надеялись…
Но в 1930-м году многие «узвышэнцы» оказались в тюрьме… Грянул процесс по вымышленному «Саюзу вызвалення Беларусi». Адам Бабареко проходил как член «молодежной секции» этой организации.
Знали ли узники, что оставшиеся на свободе тут же поспешили «отмежеваться» от арестованных товарищей? 30 ноября 1930 года уцелевшие «узвышэнцы» приняли резолюцию «Патрабуем жорсткай кары агентам мiжнароднай буржуазii ў Савецкай Беларусi—беларускiм контррэвалюцыйным нацыянал-дэмакратам». Пошла волна «покаянных писем» в прессе.
Тридцатилетний Адам Бабареко после года в минской тюрьме оказался в положении ссыльного «врага народа». Сослали его на пять лет на Вятчину, в поселок Слободское. К счастью, заключение было не столь горьким, как у иных—к Адаму приехала верная жена, Анна Ивановна, с двумя маленькими дочерьми, Ларисой и Алесей.
Тогда судьба не казалась совсем беспросветной: тысячи сосланных на советские окраины писателей, ученых, общественных деятелей считали года до окончания сроков—три, пять, десять лет, и верили, что вернутся к нормальной жизни, «искупив» вину или разъяснив «недоразумение». Хотя Бабареки поселились далеко не в шикарных условиях, но у них было свое счастье. Адам Антонович работал бухгалтером, Анна Ивановна преподавала русский язык в школе. Дочь Алеся вспоминает, как они проводили вечера: садились всей семьей на диван, не зажигая лампы, и пели белорусские песни—«Зорку Венеру», «А ў полi вярба», «У бубны дахаў вецер б’е»… Особенно красиво Бабареко пел своим баритональным тенором песню «Не загаснуць зоркi ў небе» на слова Янки Купалы:
Ночка цёмная на свеце
Вечна не начуе;
Зерне, кiнутае ў нiву,
Ўсходзiць ды красуе.
Наша зерне—нашы думкi—
Не загiнуць свету, —
Блiснуць краскай непаблеклай
Вечных агняцветаў.
3 добрых думак, што мы кiнем
На сваiм дзiрване,
Будзе ўнукам нашым жнiва—
Доля, панаванне.
Через несколько лет в Кирове, на третьем сроке ссылки—срок все продляли и продляли, в комнате, где перегородки были уже слишком тонки, чтобы петь, Бабареко читал с дочерьми стихи Купалы, Коласа, Богдановича, повести Змитрока Бядули, Кузьмы Чорного. А еще Алеся Адамовна вспоминает, как отец переводил им с листа сказку Гете «Рейнеке Лис», читал отрывки из неадаптированного «Дон-Кихота», Киплинга… Сам был неприхотлив в одежде и еде. Зато любил, чтобы жена была в красивом платье… Купит ей, она жалеет носить при печке, а он: «Пойдзем, другую такую купiм—адну ў хаце насi, другую сабе шануй на свята».
В ссылке оказалось много белорусских литераторов, конечно, они общались, ходили в гости к Адаму Антоновичу… Как пишет Алеся Бабареко, «Нам здавалася, што ў яго прысутнасцi людзi неяк мягчэлi, што ён i на другiх кiдаў водблiск свае дабраты. Не памятаю, каб бацька калi-небудзь павышаў голас». Невероятно, но Бабареко, живя с семьей в ссылке, тем не менее находил возможность регулярно посылать деньги своей матери в деревню, помогать семье старшего брата Антона.
А между тем «враг народа» должен был регулярно отмечаться, проходить проверки. Не мог Адам Бабареко не знать, что о нем постоянно пишутся отчеты… В том числе кем-то из своих. Однажды случилось и вовсе страшное—со шкафа, из закрытой на ключ комнаты, пропал портфель с казенными деньгами. Стали собирать по людям, чтобы покрыть недостачу… А портфель вдруг объявился на том самом месте, со всем содержимым.
В ответном письме к Язепу Пуще Бабареко пишет: «Якая радасць, Язэп, чытаць тут, у краiне голаду й холаду для духу, лiст, што падобен цiхаму променю вясны ў цьме маўклiвага выгнання».
Начался очередной, самый страшный «хапун». 25 июля 1937-го года за Адамом Бабареко пришли.
Целый год родные не знали, где он. Только в начале июня 1938-го года Адам Антонович смог передать семье письмо на кусочках картона, оторванных от коробочки из-под зубного порошка.
Его письма к родным полны искренней любви… Он пишет по-русски, потому что опасается, что письмо на незнакомом языке не пропустят на волю… Но все время сбивается на родную мову: «И духом и телом я остался непарушны и чисты, как и был им всегда…»
И вот—приговор… 10 лет лагерей.
«Да что и говорить, и мне, и вам цалкам зразумелы ўвесь жах нашага цяперашняга стану. Аднаго тольки, любыя, не павинна быть в наших переживаниях—это роспачи, будем надеяться, что мы еще доживем до счастливого дня нашего спаткання и нашага супольного жытия (орфография оригинала – Л.Р.)»—пишет осужденный родным.
Адам Бабареко оказался на строительстве железной дороги возле Княж–Погоста в Коми. Копал канавы, снимал мох, корчевал пни, возил тачки… А здоровье было и так подорвано… Неудивительно, что вскоре в письмах появляются просьбы прислать лекарства от фурункулов, малокровия, вазелин для израненных рук… Письма от родных не доходили. Жена безуспешно пыталась добиться свидания, даже съездила в Котлас, но мужа увидеть не удалось. В конце концов Бабареко попадает в лагерную больницу. Он весь опух, не может ходить… Его мысли — о нежно любимых дочерях и жене… 10 октября 1938 года белорусский Белинский умер, не дожив до 39–летия. Его реабилитировали в 1957 году. Разговорам о том, что надо обязательно издать собрание сочинений Бабареко, хотя бы сборник статей, — тоже не один год…
Адам Бабареко столько сделал в свое время для популяризации белорусской книги… Он раскручивал авторов, открывал новые имена, бесстрашно вступал в спор с литературными вульгаризаторами… Он заслужил, чтобы заново открыли и его.
Завещание уржумского ссыльного
Владимир Жилка (1900-1933)
В 1983 году сибирский писатель-краевед Евгений Петряев писал в Минск Алесю Адамовичу: «В Уржуме умер белорусский поэт Владимир Жилка. Прошло уже полвека. Никто ничего не знает о нем». Несколько ранее историк Микола Улащик заметил: «Сярод адкiнутых i забытых Жылка быў, напэўна, самым адкiнутым i забытым».
В 1925 году Владимир Жилка записал в своем дневнике: «Смерць саўсiм не страшыць, нават больш: яна жаданая госця. Пужае жах жыцця – жорсткi i няўломны, няўмольны. Я баюся пустаты i хаосу, а яны паўнаўладны… Ах! Як цяжка жыццё, якi велiзарны цяжар. Б’ешся ў iм, як муха ў павучэннi, i, мiтусячыся, толькi больш заблытваешся…»
Очень типичное рассуждение для романтического поэта. Жилка словно сконцентрировал в себе все черты этого образа. Бедный талантливый юноша, революционер, смертельно больной чахоткой, преданный своей возлюбленной, несправедливо осужденный и замученный…
Родился Жилка в неимущей крестьянской семье. Но при этом из своего поэтического поколения он выделялся «еўрапейскай адукацыяй», тем, что, прежде чем попасть в объятия соцреализма, пожил в Латвии, Чехии, Литве, Польше… Да и детские впечатления – не только голод. По воспоминаниям брата поэта Бориса Жилки, «Колькi я помню, то Уладзiк вельмi любiў чытаць. Матка часта адбiрала ў яго кнiжкi i выпраўляла гуляць, але нiчога не памагала, ён збiраўся iсцi гуляць, але браў другую кнiжку за пазуху i зашываўся туды, дзе б яго не турбавалi. Бацькi не шкадавалi грошай на набыццё кнiжак, i iх у нас назбiралася шмат. Падчас пераезду адна падвода была цалкам загружана кнiжкамi – Пушкiн, Лермантаў, Гогаль, Цютчаў, Фет, Надсан, усе прылажэннi да журналаў. Былi ў нас i ўсе кнiжкi беларускiя, якiя толькi выйшлi да 1914 года…»
В 14 лет Жилка окончил Мирское училище. Жил возле древних замковых стен, впитывал атмосферу старинного местечка… В том же году семья переехала в Минск, где отец получил место продавца в церковном магазине.
Началась Первая мировая война. Миллионы белорусов отправились в беженство. Среди них и семья Жилки. Будущий поэт оказывается в России. А когда возвращается в Белоруссию, там уже – революция… Шестнадцатилетний юноша захвачен ее романтикой, становится членом эсеровской партии, присутствует на Первом Всебелорусском конгрессе… Начинающий поэт подружился со многими известными писателями – Ядвигиным Ш., Змитроком Бядулей, Игнатом Дворчаниным, Янкой Купалой. Купала не раз бывал у него в гостях, они гуляли по минским улицам. По воспоминаниям Бориса Жилки, «Уладзiк расказваў, што зайшлi на скверык, што процi губернатарскага дома на Саборнай плошчы. Там стаяў сляпы жабрак з лерай. Вось яны з iм пагутарылi, далi яму грошай, а пасля сталi прасiць, каб ён зайграў «Лявонiху». Лернiк доўга аднекваўся, але пасля таго, як Купала раскашэлiўся, сыграў «Лявонiху», а пасля i польку. Засталiся ўсе вельмi задаволеныя – i жабрак, i Купала з братам». На какое-то время Жилка становится агрономом в конфискованном имении под Минском, причем ездит туда на пару с уполномоченным – поэтом Михасем Чаротом.
Но в феврале 1919 года Жилка узнал, что смертельно болен. Доктора не могли помочь, шла горлом кровь… Поехал на свежий воздух, к родственникам в деревню. А потом – «пасеклi наш край папалам…». И Жилка оказался на территории Западной Белоруссии, отрезанный от семьи. Поселяется в Вильно… Он называет этот город «Крывiцкая Мекка». Никто из белорусских поэтов, наверное, не любил так этот город, где «малiцвенна ўзносiць готыка да неба тонкiя шпiлi». Жилка начинает публиковаться, приходит первая слава. Но для польских властей белорусский поэт – персона подозрительная. Жилка уезжает из Вильно в Ковно, затем пытается окончить белорусскую гимназию в Двинске. Он живет там на квартире у директора гимназии И.Красковского – знакомство с этой семьей перерастет в долгую дружбу.
В 1923 году Жилку посылают на учебу в Карлов университет в Праге. В то время там образовалась целая диаспора белорусских студентов – чехи давали стипендию талантливым бедным юношам, представителям «паняволеных народаў». В Праге Жилка редактирует газету «Перавясла», затем журнал «Прамень», организовывает литературные вечера… Его почитают, как «абраннiка Апалона». Поэт продолжает романтическую линию Максима Богдановича, восхищается Блоком: «Але аб Блоку лепш маўчаць: такi ён вялiкi, такi вялiкi, што каля яго чуеш сябе нiякавата». Жилка утверждает, что спасение – в красоте… «Душа чалавечая, што прыходзiць у свет падзiвiцца з яго хараства… павiнна чуць сваё права жыць i тварыць, як кажа яе сумленне…». Стихи полны то мучительного философского размышления о тайнах жизни и смерти, то просто чистой красы.
Каханню нiчога не трэба,
Каханне нiчога не просе, –
Так радуе сiняе неба,
Так цешыць валошка ў калоссi…
Но болезнь периодически обостряется. Один раз Жилка даже переживает клиническую смерть – доктора с удивлением обнаружили, что один из покойников еще жив. Поэт записывает в дневнике: «Такiм чынам, я зноў саджуся пiсаць. Балiць i гарыць галава, баляць грудзi. Дактары кажуць, што ў мяне вельмi сур’ёзна ў лёгкiх, трэба лячыцца… Няможна ж так жыць: заўсёды хворы, заўсёды павышаная тэмпература, безна-дзейнасць, бяссiлле. Душыць i самотнасць — нi родных, нi блiзкiх сяброў i прыяцеляў».
В 1926 году Жилку пригласили в советскую Белоруссию на академическую конференцию по реформе белорусской орфографии и азбуки. Поэт знал, что останется там. На родине, с семьей.
Конечно, о власти большевиков ходили страшные слухи… Кое-кто отговаривал Владимира уезжать. Но тот отвечал, что едет, чтобы умереть на родной земле. Жилка не был ни контрреволюционером, ни представителем «бывшего» сословия. Брат прислал ему вырезку из газеты «Савецкая Беларусь», где Жилку называли одним из лучших молодых белорусских поэтов. Радужных надежд не имелось, но и особой боязни тоже. Что могут сделать с человеком, который едет умирать?
Для начала он не мог не почувствовать, какой экзотикой оказался для земляков даже его внешний вид: шляпа, каких давно в советском Минске не носили, заграничные костюмы… Еще хуже было с его взглядами и творчеством.
То, что он пишет, называют идейно чуждым, архаичным, эстетским… Жилка вступает в «Маладняк», затем переходит в «Узвышша». В письме к Людмиле Красковской, дочери директора Двинской гимназии, также переехавшего в Минск, поэт пишет: «Я поўны роспачы, што мне не ўдаюцца грамадскiя матывы: столькi ёсць у галаве такога, што мусiла б вылiцца ў песнi».
Душа мая тужлiвая –
Лiлея мiж балот.
Яна ўзрасла, маўклiвая,
Мiж багны сонных вод.
Но случилось то, на что смертельно больной Жилка, наверное, и не надеялся… Поэт преподавал литературу в музыкальном техникуме. Там он встретился с преподавательницей музыки Риммой Маневич, и вскоре они поженились. Через год родилась дочь Беата. Жилка счастлив. Он пишет Людмиле Красковской: «Ведаеш – я закахаўся ўжо месяцаў са тры, i, здаецца, па самюськiя вушы. Яна маленькая, рыжая i злюшчая, язычлiвая. Мяне кахае».
И добавляет: «Здароўе маё паганае. Мо ўжо к канцу iдзе, а мо… чорт яго знае, але настрой псуе хвароба… Высылаю табе свае «стишки» – iх лаюць».
Ругают не только Жилку… В «Звязде» про «Узвышша» пишут: «Звiхнулiся яны ў бок iдэалiстычнасцi (чыстае хараство як антытэза казённай радасцi)».
Владимир едет подальше от нападок, в «рай чахоточных» – Ялту, где от той же болезни умер почитаемый им Максим Богданович. Переносит пневмоторакс – сложную операцию, во время которой пробивают пораженное легкое. По возвращении он – инвалид…
Но арестовать его это не помешало.
Жилку взяли 18 июля 1930 года одним из первых. По делу вымышленного Союза освобождения Белоруссии. Однако вскоре палачи вынуждены были выпустить больного заключенного под домашний арест. Но как только поэт немного окреп, его осудили на пять лет ссылки в Уржуме Кировской области.
С собой в ссылку Владимир Жилка взял погремушку и перевязанную ленточкой прядь волос дочери.
Харкающему кровью поэту разрешили добираться до Уржума самостоятельно, с еще несколькими ссыльными писателями. Ехали иногда на телегах, иногда на лодках… Пока товарищи гребли, изнеможенный Жилка лежал в лодке и читал вслух стихи, в том числе поэму «Тастамент» – свое стихотворное завещание, написанное в заключении. Он мечтал о Вильно, о родной земле, в которой ему не дали упокоиться.
1 марта 1933 года в Уржуме Владимир Жилка умер. За неделю до его смерти к нему приходили энкавэдисты, предлагали поехать в санаторий – возможно, сказались хлопоты друзей…
А вот что касается его собственной семьи… К сожалению, из Риммы Маневич декабристки не вышло. Она приезжала к сосланному мужу летом 1932 года только для того, чтобы объявить, что расстаются навсегда. Дочь она тоже оставила и встретилась с ней только спустя 35 лет. Сохранился черновик письма поэта Феликса Купцевича к Янке Купале с просьбой посодействовать, чтобы Жилке разрешили перебраться в другой город, ближе к друзьям: «У дадатак да хваробы, якая, вiдаць зусiм дабiвае яго, ён застаецца абсалютна адзiн. Няма каму нават падаць шклянку вады. Жонка яшчэ летам уцякла, адмовiлася ад яго, кiнуўшы на волю лёсу хворага i непрыдатнага да работы».
А вот воспитанная бабушкой Татьяной дочь поэта Беата или, как она себя называла, Наталья, и ее дядя, Борис Жилка, всю жизнь пытались восстановить справедливость в отношении погибшего отца и брата, сохранить о нем память.
Владимир Жилка похоронен на городском кладбище в Уржуме. Его полностью реабилитировали в 1960 году.
В 1977 году вышла книга о нем «Ветразi Адысея» В.Колесника.
На зломе дзвюх эпох злавесных,
У неспрыяльным ветры злым
Сваё жыццё прайшоў я чэсна:
Пясняр, змагар, бядняк праз век –
Быў перш за ўсё я чалавек!
»Беражы, Надзянятка, мой раман…»
Cымон Барановых (1900-1942)
Не могу спокойно смотреть на это изображение… Фото из личного дела «врага народа», сделанное в 1936 году в минской тюрьме. Анфас, профиль… Конечно, тюремщики старались, чтобы на таких фотографиях подследственный выглядел более-менее прилично. Но этот узник так избит и измучен, что скрыть это невозможно…
А ведь недавно молодой поэт, приехавший из провинции, увидел этого человека таким: «Ага, вось выйшаў з Дому пiсьменнiка чалавек у белым вясеннiм касцюме, з пухлай, трохi звiслай набок шчакой, блiснуў пры ўсмешцы залатым зубам, мне сказалi – гэта Сымон Баранавых, рэдактар часапiса «Беларусь калгасная». Я прачытаў ужо ягоную аповесць «Чужая зямля», i мне яна спадабалася. Я ўжо абагаўляю яго».
Да, Сымон Барановых был авторитетом, хотя кое в чем молодой поэт ошибся – работал не редактором, а ответственным секретарем журнала. В свое время и он приехал из деревни – простой паренек, бывший батрак, одаренный талантом… Для таких в новой советской стране были открыты все возможности. После службы в Красной Армии – пришлось повоевать с белополяками – Сымон стал председателем сельсовета, заведующим избой-читальней, потом – рабфак… Заявление о приеме выглядело так: «Я сын селянiна, служыў тры гады ў Чырвонай Армii, цяпер у пераменным складзе 2-й дывiзii, пастаянна працую на гаспадарцы свайго бацькi, у якога гаспадарка складаецца з сямi дзесяцiн зямлi, аднаго каня, трох штук дробнай жывёлы. Усяго членаў сям’i сем чалавек.
Прашу камiсiю ВНУ звярнуць на маю просьбу належную ўвагу як сапраўднаму бедняку, якi iмкнецца прынесцi плады карысцi для нашага Саюза, для якога я шчыра хацеў бы iсцi наперад…» Поэт Микола Хведорович, который тоже учился на рабфаке, вспоминал: «Як сёння, бачу Сымона Баранавых у палiнялай гiмнасцёрцы, на якой яшчэ не паспелi выцвiсцi чырвонаармейскiя пятлiцы, у доўгiм кавалерыйскiм шынялi, якi ён надзяваў пры любым надвор’i».
Сымон активно включается в культурную жизнь. Интересно, что многие прочили ему карьеру артиста, – так здорово выступал. Но главным стала литература. Барановых поступает на литературно-лингвистическое отделение педфака БГУ… Вместе с Сымоном учились Кондрат Крапива, Анатоль Вольный, Петрусь Бровка, Петро Глебка, Ян Скрыган, Кузьма Чорный, Максим Лужанин, Сергей Дорожный, Алесь Дудар, Алесь Звонак и другие – молодые, талантливые… Новая жизнь казалась сказкой, несмотря на голод и разруху. В своем рассказе «Бора Нохiмчык» Сымон Барановых так опишет картинку этого нового мира: «Над галовамi тысяч людзей адыходзiлi то ўперад, то назад – аэрапланы. Яны зусiм лёгка i бесклапотна давалi нырца ў шкляным i глыбокiм паветры: кулём кулялiся цераз галаву – як качка цi гусь – пакiдаючы на сваiм пер’i кроплi крыштальнай расы».
И фамилия была новая… Изначально-то Сымон был, как и предки, – Баран. Во время службы в армии фамилия стала более благозвучной: Баранов. Но когда Сымон собрался в писатели, решил фамилию изменить на более оригинальную… Пришел к другу, Яну Скрыгану, который с юности отличался тончим чувством языка. Скрыган посоветовал:
– Хiба ты забыўся, як у вас на сяле гавораць? Ты цяпер вучышся ў Мiнску. А калi прыедзеш дадому, то суседзi скажуць: «У Якава Баранавых сын жа ў госцi прыехаў». Так цi не? Гэта значыць, не хто прыехаў, а чый сын прыехаў. У аснове прозвiшча ляжыць сям’я, гняздо, зборнасць, гурт.
Сымон согласился, так и появился в белорусской литературе прозаик Барановых. Любопытно, что, когда в 1935 году его рассказ «Прысады» напечатал виленский журнал «Калосьсе», редакция сопроводила публикацию предисловием: «Хоць iдэолёгiя калгаснага ладу, выражаная ў «Прысадах», ёсьць нам чужая, друкуем тут гэты твор дзеля яго мастацкае вартасьцi i пазнаямленьня чытача з даволi выдатным беларускiм пiсьменьнiкам». Особенно популярной была повесть Сымона Барановых для детей «Пастка». Не был чужд писатель и экспериментов: тогда многие «маладнякоўцы» пытались достичь необыкновенной образности. Как вам: «Месяц глыбей запусцiў у чорнае неба свае клыкi, больш сярдзiтым зрабiўся. Як дзiкi кабан, наставiўшы хiб, хацеў рынуцца i распароць адвiслы жывот чорназорнаму небу – парадзiсе ваўчынцы, хацеў ранiць яго аж да самай крывi».
Потом подобные эксперименты назовут упадничеством и буржуазным влиянием. Но Барановых, по свидетельству критиков, «болезни литераторского роста» преодолел, по уровню таланта его ставят вровень с Мележем… И тема у них была одна. Вот только своих «Людзей на балоце» Барановых дописать не успел.
Чтобы понять, чем жили писатели того времени, достаточно почитать хронику событий…
1932 год. Выходит первый номер журнала «Беларусь калгасная» – Барановых в редколлегии. В октябре бригада писателей – Я.Купала, М.Лыньков, С.Барановых и другие присутствуют на торжественном открытии Днепровской электростанции. А 1 января 1933 года в газете «Лiтаратура i мастацтва» появляется статья Н.Кабакова «Агонь па праявах буржуазнага нацыяналiзму», огонь ведется по импрессии С.Барановых «Матчын сын». 6 февраля состоялось расширенное заседание оргкомитета Союза писателей, посвященное рассмотрению националистических ошибок в литературе. 10 февраля в «ЛiМе» публикуется статья корреспондента «Правды» А.Давидюка «Пад фальшыва-нацыяналiстычным сцягам» (вылазкi нацыяналiстычных элементаў у лiтаратуры – «Сын мацеры» (видимо, тот же «Матчын сын». – Л.Р.) С.Баранавых, «Журавiны» I.Нiкановiча)». 10 февраля выходит постановление оргкомитета ССП БССР «Аб класава-варожых выпадках на фронце беларускай савецкай лiтаратуры», и в тот же день в «ЛiМе» – покаянная статья С.Барановых «Пра маю вялiкую памылку».
Писатель Рыгор Релес рассказывал о писательских собраниях: «Помню, как один «пiсьменьнiк» говорил на полном серьезе: «Ну, хлопцы, давайце будзем ворагаў раскрываць!» И, что самое ужасное, – раскрывали ведь! Планомерно, по разнарядке: сколько надо – столько и раскрывали.Вспоминается в связи с этим случай, когда в качестве «новой жертвы» был выбран поэт Сымон Баранавых. Его начали за что-то там клеймить, называть врагом народа, абсолютно не обращая внимания на оправдания. Но тут за него заступился Купала: «Таварышы, давайце апошнi раз паслухаем, што скажа Баранавых. Мне падаецца, што зараз ён павiнен сказаць праўду!» Сымон Баранавых еще раз повторил то, что говорил до сих пор. Тогда снова поднялся Янка Купала: «Вось бачыце, ён сказаў праўду!» В тот раз Барановых оправдали.
Купала и Барановых были близкими друзьями. В «Докладных записках о состоянии и положении литературы и искусства» за ноябрь 1932 – февраль 1933 гг., составленных Л.Бенде, излагается о националистических настроениях творческой интеллигенции, выявившихся в ходе подготовки к 50-летнему юбилею Купалы: (орфография оригинала. – Л.Р.) «Баючыся, што пiсьменнiкi-камунiсты юбiлей «зкомкаюць», – пiсьменнiкi Баранавых i Броўка – узялi iнiцыятыву арганiзацыi юбiлею на сябе i яе з уздымам ажыцьцяўлялi: хадзiлi па рэдакцыях газэт, дагаварвалiся пра асьвятленьне юбiлею ў друку, заказвалi артыкулы i г.д. Уся ж соль шкоднасьцi ў тым, што i Баранавых, i Броўка кожнае мерапрыемства «пагоджвалi» з Купалай, заяўляючы: «мы, бачыце, вас шануем» – хай каму i не ўпадабаецца, а ваш юбiлей Беларусь адствяткуе».
Но сломали и Янку Купалу… И в 1933 году ему пришлось публично выступить с критикой злополучной импрессии «Матчын сын» своего друга… А ведь импрессия была о нем, о Купале, написана к его юбилею!
25 марта 1937 года на писательском партсобрании заместитель председателя Союза писателей Андрей Александрович заявляет: «Жылуновiч – Цiшка Гартны – гэта закончаны, закляты вораг беларускага народа; Зарэцкi працягваў тыя ж самыя iдэi, што i Жылуновiч. Сымон Баранавых – кулак, юродзiвы бандыт…»
Никто не мог уйти от судьбы. Барановых арестовали 4 ноября 1936 года, по одному ордеру с Валерием Моряковым, Михасем Зарецким и Анатолем Вольным. По иронии судьбы он попал в одну камеру с Тишкой Гартным и Мойсеем Седневым, тем самым юным поэтом, который когда-то у входа в Дом писателей рассматривал мэтра Барановых и почти обожествлял его. Как вспоминал Седнев, «на допыты цягаюць дзень i ноч, i б’юць… Ц.Гартны звар’яцеў. Вяртаючыся iз допытаў, ён хаваўся пад лаўку й цiха, спалохана шаптаў: «Божа мой!.. Я хацеў забiць Сталiна?».
Сымон Барановых надеялся, что власти примут во внимание его творческий потенциал. В письме к жене он пишет: «Шкада маладых год жыцця, шкада дарагой свабоды… I за што гэтыя пакуты? Не сумуй, што так далёка заеду ад цябе». И там же, в расчете на «постороннего читателя»: «На Калыме, кажуць, жывуць не дрэнна… Я да гэтага часу не ведаю, каму «трэба» было арыштоўваць чалавека, якi горла перагрызе любому ворагу за маю, дарагую мне, савецкую ўладу… Тое, што я спазнаў у жыццi, – нiхто не раскажа, нi адна кнiга… Калi б я мог вярнуцца да сваёй лiтаратурнай працы – я мог бы напiсаць эпапею…»
Собственно говоря, Барановых «повезло» – его не расстреляли, как Морякова, Зарецкого и Вольного. «Всего лишь» осудили на 10 лет лагерей.
Барановых особенно беспокоится о недописанном романе «Калi ўзыходзiла сонца». Уже с Колымы он шлет жене Надежде Ивановне письмо: «Напiшы, як жывуць Пятрусь, Якуб, Янка, Кузьма? Што новага напiсалi яны? Якiя п’есы iдуць у тэатрах?.. Беражы, Надзянятка, мой раман. Я калi-небудзь яго дапiшу. У мяне вельмi многа задум».
Сымон Барановых умер на Колыме в 1942 году. Обстоятельства его смерти неизвестны.
Рукопись недописанного романа чудом уцелела. Надежде Ивановне удалось ее сохранить во время оккупации, и роман был напечатан в 1957 году, после того как Сымон Барановых был реабилитирован.
Бездны Зарецкого
Михась Зарецкий (1901-1937)
…Когда его расстреляли, ему было всего 35 лет. Но нам не приходится гадать о месте этого писателя в литературе, поскольку классиком его признали еще при жизни. «Зарэцкi iдзе!» — слышался шепот в коридорах университета, все умолкали и восторженно наблюдали, как «у канцы калiдора паяўляўся цёмна–шэры капялюш i над усiмi галовамi праплываў у гардэроб».
А ведь обладатель шляпы был таким же студентом, как и его поклонники.
Его творческое наследие — романы, повести, рассказы, публицистические статьи — вскормит еще не одно поколение литературоведов и даст материал не одному поколению режиссеров. А трагическая судьба, мучительные поиски истины, душевные метания и немалое мужество могут быть материалом для романа…
Когда писатель Ян Скрыган впервые увидел Михася Зарецкого — а было это в конце ноября 1925 года на первом съезде литературного объединения «Маладняк», — то описал его как «самого военного изо всех военных»: «Падкрэслена элегантны, акуратны, пачынаючы ад абмотак i канчаючы тугiм рамянём i яркiмi нашыўкамi на пятлiцах гiмнасцёркi, — быў парадны, як адшлiфаваны». И вместе с тем в облике Зарецкого поражало и иное: некая раздвоенность. Несоответствие внешнего вида и внутреннего состояния, манера держаться и свободно, и вместе с тем скованно. Эта же неоднозначность была в его облике и тогда, когда стал одеваться «чыста па–еўрапейску: самае моднае элегантнае пальто, блiшчастыя пальчаткi i капялюш». Ян Скрыган объясняет это удивительной судьбой: «Гадаванец духоўнай семiнарыi — i чырвонаармеец, сын дзяка — i камунiст, спявак тонкiх пакут кахання, душэўнага разладу — i камiсар».
Действительно, Михась Зарецкий, или по–настоящему Михаил Косенков, выходец из духовного сословия — его отец, деревенский дьяк, был человеком с характером, музыкально одаренным. И для сына готовил тоже духовное поприще. В 10 лет тот поступил в Оршанское духовное училище, потом два года учился в Могилевской духовной семинарии.
Революция изменила все — и всех. Михась Зарецкий душой принял новые идеи… Но духовное воспитание сформировало его характер — и придало особую психологическую глубину творениям, и определило его рискованные поступки. Не было покоя в его сердце и искусственной прямоты в судьбах его героев, потому что никому еще не удавалось примирить общечеловеческие и тоталитарные ценности. «Вам парадак трэба, а не жыццё… Ваш парадак не вечны… Я — асоба! Я — чалавек! Разумееш? Якi вам клопат да мяне! Хто даў вам права цiснуць мяне ў цесны мундзiр, калi я ў сарочку хачу… голы хачу хадзiць… га?» — провозглашал герой романа «Сцежкi–дарожкi». Герой отрицательный… Но вместе с тем, как определили бдительные критики, ему была «передана трибуна»: именно Зарецкому была приписана опасная честь изобретения приема «перададзенай трыбуны», то есть когда в произведении советского писателя получает голос враг.
Еще будучи студентом университета, Зарецкий совершает первый серьезный проступок перед властью: он стал одним из инициаторов «кiнодыскусii», когда вместе с Язепом Дылой и Змитером Жилуновичем поднял проблему «белорусизации» кино. Потом — как бы в продолжение темы — были «тэатральная дыскусiя» и «лiст сямёх», среди авторов — снова Зарецкий. Предлагалось обсудить пути развития белорусского театра, засилие «общереволюционных» переводных пьес в ущерб национальному репертуару…
«Лiст сямёх» был расценен как вражеская вылазка.
А потом был «Лiст трох» — в письме студенты возмущались порядками в университете, в частности, шельмованием писателей, которое там допускалось. И опять среди авторов — Михась Зарецкий.
Нет, не вписывался он в благостные рамки. Даже сам предложил идею «активного романтизма», или «эмоционального романтизма». Во время поездки для выступлений в Гомель создал группу «гомельскiх рамантыкаў», куда «завербовал» Максима Лужанина, Тодара Кляшторного, Алеся Звонака и Миколу Хведоровича… Правда, новообразование оказалось эфемерным: стоило молодым писателям вернуться в Минск, с каждым из них провели разъяснительную работу и запретили заниматься подобными «диверсиями».
Но в это время Михась Зарецкий пишет рассказ «Максiмалiст», в котором изображает современное ему партийное руководство под видом… пионерского отряда. Во всяком случае, в «самом важном в отряде» пионере Вовочке Пенкине опознавали… первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии Вильгельма Кнорина. «Вовачка нават умее рабiць на сваiм белазорым твары асаблiвую нейкую спагадлiва–насцярожаную ўсмешку, якраз такую, якую ён бачыў у аднаго з важных палiтычных правадыроў». Кроме того, Зарецкий высказывает устами героя романа «Крывiчы» крамольную мысль, что проводимая «белорусизация» не более чем «палiтыка гандляроў з рынку, якiя… звяртаюцца заўсёды да сялян у роднай iхняй мове, каб… лягчэй абдурыць iх…»
Только не надо производить Михася Зарецкого в идейных антисоветчиков. Он, как и его друзья, верил, что речь идет о перегибах, о чьей–то злой воле — не об идее или системе вообще. Перерабатывает свои произведения по требованию цензоров, перераспределяет оценки… В рассказе «Максiмалiст» появляется новый персонаж — некий справедливый товарищ «сверху», который разрешает конфликт. Даже в личном разговоре с Яном Скрыганом, младшим своим коллегой, Зарецкий кается: «Мяне многа крытыкавалi, i часта гэта было правiльна, нiчога не скажаш. Мая бяда ў тым, што я паказваю iнтэлiгентаў, якiм прыйшлося самiм разбiрацца ў рэвалюцыi i або ад яе гiнуць, або прыйсцi да прызнання яе… Але ж я мастак i не маю права выбiраць, што выгадна цi нявыгадна, не зважаючы на гiстарычную праўду. Нарэшце, трагiчнае заўсёды давала найлепшыя i самыя велiчныя ўзоры мастацтва… Можна прыгадаць хаця б Шэкспiра, Пушкiна, Талстога…».
Нетрудно понять, что в контексте времени заставляло подобным образом «откровенничать». То же самое, что заставило Зарецкого, критически относившегося к коллективизации, позже стать ее воспевателем. Не зря во всем своем творчестве Зарецкий показывает, как в столь специфических условиях несвободы трансформируется личность.Очень любопытно в этом плане вспомнить рассказ, который, кстати, иногда приводится как пример «правоверной» революционной прозы, — «Кветка пажоўклая».
Вспомним сюжет, очень, кстати говоря, напоминающий сочинения Алексея Толстого, которого также мучили вопросы «психологии», связанной с гражданской войной… Итак, партийный деятель Буланович встречает привлекательную женщину Марину Гарнову, бывшую чекистку, от которой еще недавно дрожал весь город. Сегодня она работает в детском саду и переживает жуткую депрессию. Завязывается роман, выясняется, что в тоску революционную даму вогнало ее прошлое: она отправила на расстрел собственного брата, отец проклял ее. Постепенно партиец начинает тяготиться сплином подруги. Боится, что и сам «раскиселится»… Но вроде и помочь товарищу надо, вдруг еще пользу революции принесет? Ко всеобщему облегчению Гарнова разрешает проблему, бросившись под поезд.
Мораль: кто не смог избавиться от «гнiлых карэнняў», сам виноват. Старое отброшено, проклинаемо и непринимаемо. Причем нужно учитывать, что для Зарецкого, бывшего семинариста, самоубийство не могло не восприниматься куда более страшно, чем для иных. Герои рассказа и жалеют «кветку пажоўклую», и досадливо осуждают ее за нереволюционный «разлом душэўны»… Но вместе с тем остается невысказанное понимание того, что этот разлом правомерен, что Гарнова действительно заслужила наказание, погубила себя… Не зря товарищи, пребывающие в «творчай радаснай сумятнi», боятся Гарнову, словно заразную больную, боятся заглянуть в то душевное «бяздонне», которое перед ней открылось… Из–за инстинктивного понимания: нельзя совершать поступки, подобные тем, что совершила Гарнова, безнаказанно. Только не задумываясь, не копаясь в собственной душе, забывая прошлое в искусственно создаваемой суете, можно жить дальше… Иначе «зацягне, завалачэ ў багну бязволля… сам тады прападзеш…»
Где выход? Повесть «Сцежкi–дарожкi», в которой рассказывается о такой же «пажоўклай кветцы» Лидочке и ее альтернативе — Нине, заканчивается фразой: «А Нiна вучыла палiтэканомiю»… Они, молодые, искали ответ в политэкономии, философии. Жизнь оказалась шире книжных представлений…
Увы, не спасала политэкономия ни от душевной боли, ни от вихря надвигающихся репрессий. Вот названия критических статей на произведения Зарецкого конца 1920–х годов: «Вораг у доме», «Новыя «откровения» Зарэцкага», «Супраць буржуазнай рэакцыi ў мастацкай лiтаратуры».
В 1935 году критики уже вовсю клеймят Зарецкого: «Яго асноўным улюбёным вобразам быў вобраз рамантычнага «шукальнiка хараства» — хараства, процiпастаўленага савецкiм будням. Гэта «хараство» аўтар шукаў у анархiствуючых iнтэлiгентах, у эратычных сiтуацыях, у нацдэмаўскiх iдэалах хутарызацыi».
3 ноября 1936 года. Выдержка из ордера на арест N 703.
«Начальник 3–го отдела НКВД БССР Шлифенсон нашел, что лит. работники Моряков В.Д., Зарецкий М.Е., Вольный–Ажгирей А.И., Барановых С.Я. являются активными участниками контрнацдем. организации, а посему постановил: арестовать этих литературных работников».
Михася Зарецкого расстреляли ночью 29 октября 1937 года.
К сожалению, мы не можем принести цветы на его могилу. Поскольку местонахождение ее, как и могил десятков других талантов, загубленных в ту страшную ночь, неизвестно. Старшего лейтенанта ГБ Шлифенсона, кстати, расстреляли «исполнители» НКВД в такую же октябрьскую ночь 1938 года… Возможно, их останки лежат в одной яме…
Вольный и неволя
Анатоль Вольный (1902-1937)
Вы когда-нибудь слышали о газете «Юный пахарь»? Сегодня, наверное, так мог бы называться постмодернистский журнал… Но ваши догадки, скорее всего, правильны. Выходила такая малоформатная газета в Белоруссии в 20-х годах прошлого века для сельской молодежи… Выпускалась она в основном на энтузиазме главного редактора, молодого поэта Анатоля Вольного, в действительности – Ажгирея. Было ему 22 года, но за плечами – немалый опыт. Анатоль Ажгирей родился в 1902 году на станции Пуховичи в семье служащего, окончил Игуменскую гимназию. И очень рано увлекся революционной романтикой. Как он писал в автобиографии: «З 14 гадоў не быў дома. Сталеў i рос у камсамоле».
В 1920-м Анатоль пошел добровольцем в Красную Армию, был ранен, потом поступил в университет… И стал работать в ЦК ЛКСМБ.
Биография на зависть… Но для поэта ли? Бесконечные комсомольские собрания, регламентация всего и вся. Для советского человека не существовало ничего отдельного от коллектива. Заседания посвящались даже изобличению вредных привычек комсомольцев – вроде курения или лузгания семечек. Самого Вольного критиковали за плохую организацию его рабочего времени. Несомненно, поэта это тяготило. Он отличался действительно «вольной натурой». Писал блестящие пародии и фельетоны под псевдонимом Алеша: «Ганарар беларускiх паэтаў найбольш малы, нягледзячы на тое, што жываты ўсiх пiсьменнiкаў лепей пераварваюць страву, чым няўмiручасць». Был «майстрам кантррэвалюцыйных анекдотаў». А еще, как вспоминали о нем сотрудники: «Ён вельмi любiў газету, якую рабiў. У iм было нешта ясенiнскае, ён быў няроўны, здзiўляюча iнтуiтыўны, несумненна таленавiты, добра ведаў вёску i пiсаў галоўным чынам аб жыццi-быццi вясковай моладзi».
Именно в небольшой комнатке отдела ЦК комсомола собрались молодые поэты, среди них Анатоль Вольный, чтобы договориться о создании литературного объединения «Маладняк». Любопытная деталь: те исторические «посиделки» проходили при свечах, потому что в городе были перебои с электричеством. Так что романтики хватало и в истории нашей литературы!
Потом Анатоль Вольный стал редактором журнала «Маладняк», создавал филиалы объединения в провинции…
Имя поэта Анатоля Вольного связывают с именем знаменитой белорусской подпольщицы Веры Хоружей. Они вместе работали в упомянутой газете «Юный пахарь» (которая потом стала называться «Малады араты»). Наверное, тогда и возникли между ними особые отношения… В то время поэт выглядел так: «У яго былi блакiтныя вочы, светлыя валасы, якiя завiвалiся. Невысокага росту хлопец у кашулi-касаваротцы, Ажгiрэй быў гумарыст, весяльчак, любiў сяброўскiя кпiны». О том, что Вера Хоружая была влюблена в молодого кудрявого поэта, говорят многие историки. Но с пламенной подпольщицей поэт свою судьбу не связал. А Вера Хоружая его жизнью очень интересовалась… Даже когда сидела в тюрьме, осужденная властями панской Польши, все время спрашивала о нем, эмоционально реагировала на изменения в его судьбе. В письмах она называла Анатоля Вольного «адным з самых дарагiх, самых блiзкiх».
Помните фильм «Неуловимые мстители»? Книгу, по которой он поставлен, помнят меньше, но и она была популярной. Это повесть Павла Бляхина «Красные дьяволята», написанная в 1921 году. Такие произведения, предлагающие детям и подросткам советский идеал для подражания, были необходимы новой власти.
Однажды в ЦК комсомола Белоруссии собрали трех талантливых молодых писателей – Андрея Александровича, Алеся Дудара и Анатоля Вольного – и предложили им создать захватывающую приключенческую повесть о героике гражданской войны, о подвигах юных партизан.
Что ж? За поручение взялись с энтузиазмом. Особенно изощренной фантазией отличался Анатоль Вольный. Юные партизаны Степка и Алесь бесстрашно боролись с польскими оккупантами, проявляя чудеса храбрости и изобретательности.
Повесть зачитывалась до дыр. Того же плана получились написанные Вольным повесть «Два», по которой впоследствии был снят фильм «Хвоi гамоняць», и повесть «Антон Савiцкi».
Критики пренебрежительно отзываются об этих первых попытках создания белорусской приключенческой литературы для детей. Но составить свое мнение нам трудно, ведь эти очень популярные в свое время произведения теперь не переиздаются. Может быть, и зря…
То, что соавтором Анатоля Вольного стал Алесь Дудар, не случайно: они очень дружили. Вот воспоминания Янки Скрыгана о первом съезде «Маладняка»:
«А вось, моргаючы вачыма (у яго такая прывычка, цi што, – штораз моцна зажмурвацца), у скураной тужурцы дзелавiта прабягае Алесь Дудар. За iм, у пярэстай кепцы, збiтай на самую патылiцу, увесь нейкi румяна-празрысты i агнiста-кучаравы Анатоль Вольны. Яны вечна ўдваiх, гэтыя два чалавекi. Я ўжо заўважыў, i вечна некуды спяшаюцца: Дудар паперадзе, а Вольны ззаду».
А со вторым соавтором, Андреем Александровичем, Вольному довелось во время студенческой юности делить одну комнату. Не исключено, что именно Анатоль Вольный, сам работавший в ЦК, и предложил этих соавторов.
Мог Анатоль Вольный создать и «белорусского Чапаева».
19 декабря 1935 года состоялось заседание бюро ЦК КП(б)Б, на котором было принято решение согласно поступившему из Москвы заданию: «В 15-дневный срок рассмотреть вопросы, связанные с созданием фильма, посвященного белорусскому Чапаеву. А вместе с этим определиться с кандидатурой на роль главного героя, автора сценария, режиссера-постановщика и других исполнителей».
Ученые, партийные деятели, кинематографисты и писатели изучали биографии потенциальных героев, опрашивали боевых командиров, ездили в командировки с целью выявления «Чапаева»…
И подходящий герой был найден: Алесь Соловей, сын крестьянина из полесской глубинки, основавший на оккупированной немцами территории знаменитую «Рудобельскую республику» и погибший в бою с белогвардейцами в 1920 году, причем вражеская кавалерия «порубила Соловья и его лошадь на мелкие кусочки».Стали искать сценариста… Но маститые литераторы один за другим отказывались. Говорят, среди них был «красный граф» Алексей Толстой.
Тогда обратились к молодым литераторам, уже имевшим кинодраматургический опыт: Анатолю Вольному и Григорию Кобецу.
Соавторы с энтузиазмом взялись за дело… Но чем далее шла работа над сценарием, тем больше критики он вызывал. Предполагаемый фильм обсуждался на заседаниях Союза писателей, в прессе: отход от исторической правды, слишком бурная фантазия авторов… Но надежда на постановку оставалась, ведь картина была заказана на самом высоком уровне, о проекте знал сам Сталин! Руководители республики Гикало и Голодед даже просили о личной встрече с вождем, чтобы проконсультироваться по поводу эпохального героя… Возможно, именно потому, что чувствовали грядущую бурю. Есть версия: Сталина задело, что с ним не советовались изначально и в сценарии не был упомянут он сам.
Между тем уже определили и того, кто сыграет роль «белорусского Чапаева», – талантливый артист Владимир Крылович. Для последней доработки Анатоль Вольный и Григорий Кобец поехали в Дом творчества под Пуховичами. Вернулись…
В тот же день, точнее ночь, Анатоля Вольного арестовали – на глазах у жены и ребенка. Пришли за ним домой по адресу: ул. Максима Горького, 4, квартира 6.
Анатоль Вольный провинился перед советской властью не больше и не меньше, чем его собратья по объединениям «Маладняк» и «Полымя», чем вся национальная интеллигенция. Он ведь искренне верил в эту власть, служил ей как мог… Но при этом был белорусским поэтом, любил «кабацкого» Есенина и поэтические эксперименты.
Вот фрагмент из ордера на арест № 703 от 3 ноября 1936 г.:
«Начальник 3-го отдела НКВД БССР Шлифенсон нашел, что лит. работники Моряков В.Д., Зарецкий М.Е., Вольный-Ажгирей А.У., Барановых С.Я. являются участниками контрнацдем. организации, а посему постановил: арестовать этих литературных работников».
Началось бесчеловечное следствие. Поэты и писатели, гордость белорусского народа, были замучены, подвергшись пыткам, так, что почти поголовно подписывали все, что им подсовывали. Собрался компромат и на Анатоля Вольного. Якобы он был в мифической «академической бригаде», которая занималась «созданием контрреволюционных кадров для борьбы с советской властью», а также идеализацией буржуазной литературы, компрометацией вождей партии и так далее… Протоколы тех допросов забрызганы кровью, поэтому не стоит судить тех, из кого выбивали подобные показания.
Анатоль Вольный был расстрелян в «черную ночь» белорусской литературы, 29 октября 1937 года, вместе со своим другом Алесем Дударом и почти двумя десятками других потенциальных классиков. Где их могила – до сих пор неизвестно.
Успамінаць мяне не варта…
Язеп Пуща (1902-1964)
Не правда ли, песни напоминают людей? У каждой – своя судьба, счастливая либо трагическая. Иногда песни умирают… Иногда – возрождаются из забвения. И у каждой – своя история.
«Ой ты Стася, смуглявая Стася»… Песня, полюбившая всем… Лирика, нежность… Что тут таинственного? Но добавим немножко детектива. Вот перед нами диск ансамбля «Белорусские песняры» под названием «35,5» 2004 г. выпуска. Авторство песни «Стася» обозначено как «музыка О. Молчана, слова А. Легчилова». А вот на вышедшем в том же году диске Валерия Дайнеко «Белорусский альбом», где тоже присутствует песня «Стася», автором слов назван Олег Лойко… По радио и со сцен авторство слов объявляли то так, то этак… То… никак.
Скажем сразу: уважаемые поэты Олег Лойко и Александр Легчилов к этой путанице никакого отношения не имеют. Так же, как и не претендуют на стихотворение, которое легло в основу песни.
Каханне, залатое каханне!
Я стаю, пахіліўшы чало!
Не спаткаў я цябе пры кургане,
Не сустрэў у завейных палёх /…/
Разгадаць мне хацелася ўсмешку
Адной зоранькі яснай, як дзень.
Ружавела каліна на ўзмежку,
Я прыціснуў яе да грудзей.
Застануся з табою, красуня!
Я не ведаў уцехі ў жыцці.
Мне расслухаць хацелася ў шуме,
Аб чым ліст да ліста шапаціць.
Яна слоў мне тады не казала,
Толькі вусны палілі мой твар.
Не было, не было ў песні жалю,
Толькі кідала сэрца у жар.
А што далей? У ветра спытайся.
Пакахаў, як ніхто, пакахаў.
Ой ты Стася, смуглявая Стася,
Ўзгадаваў цябе Случчыны гай!
Ты расла там адна. Сіратою,
Вочы карымі сталі ад слёз.
Вось кахаю цябе мо за тое,
Што і сам я ў самоце узрос.
Стихотворение это написано в 1926 году белорусским поэтом Язэпом Пущей (в действительности – Иосифом Плащинским). И посвящено оно конкретной женщине, той самой Стасе, оставившей нам свои воспоминания (они напечатаны в собрании сочинений Язэпа Пущи) и историю удивительной любви, устоявшей перед всеми испытаниями времени…
…1925 год. Солнечные сентябрьские дни. В Слуцк приехали с выступлением молодые белорусские писатели Кузьма Чорный и Язэп Пуща. Оба были уже довольно известны. Пуща подготовил свой первый поэтический сборник «Раніца рыкае», в котором отчаянно экспериментировал, стараясь согласно любимой имажинистской школе Мариенгофа и Шершеневича «як мага глыбей усадзіць у далоні чытацкага ўспрымання стрэмку вобраза”. Даже термин для своего поэтического мировосприятия нашел – витаизм, от слова “вита”, жизнь. Оба писателя не знали, что в Слуцке их ждет судьба… Одного – счастливая, другого – несчастливая… Восемнадцатилетняя случчанка Станислава со своей подругой, поэтессой Идой Чырвань отправились в Дом культуры на литературный диспут. К тому времени руки Станиславы добивался знаменитый футурист Павлюк Шукайло, красивый, представительный… Но первая же встреча Стаси с Язэпом Пущей стала определяющей для обоих… Уже на следующий день знакомства Пуща принес красавице посвященное ей стихотворение, написанное за ночь… А вскоре обе подруги отправились в Минск, к женихам. Ида – к Кузьме Чорному, Станислава – к Язэпу Пуще. Влюбленных литераторов не смущало, что невесты такие бедные, что не могли купить себе даже подвенечных платьев. В 1926 году у Иосифа и Станиславы Плащинских родилась первая дочь. Жили душа в душу… А вот Ида, попав из провинции в столичную богемную среду, испытания не выдержала… Чорный даже пытался из-за нее покончить с собой. Что ж, красота должна быть прежде всего внутренней. “Смуглявая Стася”, когда в нее влюбился знаменитый украинский поэт Сосюра, с самого начала повела себя достойно… Дружеское, но безоговорочное письмо к украинскому классику отправилось за двумя подписями – Пущи и его жены. В 1927 году Язэп Пуща переводится из белорусского университета в ленинградский. Семья, разумеется, рядом… В 1929 году рождается вторая дочь – Валерия, Лялея. За первым сборником – выходят другие… Теперь видно всем – это поэт большого таланта, не подвластного никаким рамкам. Появляются знаменитые “Лісты да сабакі”, в которых поэт пишет другу Джеку о том, что “паэт, які не ведае агоній, не здолее уславіць Беларусь”… В стихотворениях Пущи звучат есенинские интонации, цитируется мировая классика, пестрят латинские выражения… “Панская хвароба ў нашай мужыцкай дагэтуль паэзіі!” – беспокоится Максим Горецкий. А вульгарная критика и вовсе не стесняется в выражениях. Деградация, упадничество, буржуазные вылазки!
Язэпа Пущу арестовали одним из первых, в 1930 году. Он был у своего отца в Королищевичах, вычитывал корректуру нового сборника поэзии «Грэшная кніга» (он собирался переназвать ее «Садамі вятроў», видимо, пытаясь избежать новых обвинений в упадничестве). Драгоценные листки в предчувствии беды он доверил любимой Стасе: «Захавай, гэта лепшае, што я напісаў». Рукопись спрятали в пустой улей. Но впоследствии сестре Пущи пришлось ее сжечь. Исчезла и рукопись сборника «Маніфест», которая находилась в издательстве.
Так началась почти 30-летняя трагическая «одиссея» поэта. Минская тюрьма «американка», Бутырка… Стася каждую среду ходит за пятнадцать километров в Минск, носить передачи. Ужасное впечатление—когда первый раз пришла к зданию ГПУ и увидела огромную очередь с передачами от Урицкого до Комсомольской… Пущу осудили на 5 лет ссылки на Урал. Работа бухгалтером в Щедринске, потом – возле Анапы, потом – в школе Муромского района… Запрет писать стихи… И все это время рядом была она, смуглая Стася. Тогда многие женщины, оказавшись в положении «жены врага народа», вставали перед выбором: отречься, обезопасить себя – или повторить подвиг декабристок… Только, в отличие от последних, никто не украсит тебя романтическим ореолом. Стася последовала за мужем в ссылку. В 1945 году рождается третья дочь, Лидия… Потом – сын. Учителя Иосифа Плащинского везде искренне уважают. Но никому, даже любимым ученикам, которым правит их стихотворные пробы, нельзя признаваться, что ты – поэт. Литературное прошлое с шумными выступлениями и бурными дискуссиями, блестящие надежды – все кажется таким далеким…
В 1956 году приговор Иосифу Плащинскому отменен. Но только через два года он решается вернуться на родную Беларусь. Суждено было ему прожить тут всего шесть лет. Успел выдать два сборника. Начал вновь печататься в журналах… Инфаркт… В это время бывшие знакомые, оказавшиеся в эмиграции, всерьез обсуждают, что Язэп Пуща или погиб, или вновь попал в лагеря… Ведь не может быть, чтобы такой поэт столько лет молчал! А стихи, которые стали появляться в периодической печати, словно бы и не он писал. Исчезла былая смелость образов… Но осталось много замечательных стихов, из лучших образцов белорусской лирики. Среди них – стихотворение о смуглой Стасе… «Агонь жыцця Язэпа Пушчы пагас. А цяпло душы засталося ў яго вершах», – писала Станислава Эдуардовна.
По воспоминаниям Галины Иосифовны, дочери Язэпа Пущи, была мать красива, играла в спектаклях народного театра… Свято хранила и перечитывала стихи мужа. Умерла не так давно… Поэтому когда Галина Иосифовна услышала по радио песню «Ой ты Стася, смуглявая Стася..», это было большое волнение… Которое сменилось обидой, когда вместо имени отца прозвучало иное. Впрочем, на нашей эстраде такие казусы – не новость. Особенно часто «за скобками» внимания остается творчество поэтов. А между тем хороший текст – это редкая жемчужина. Именно так считает композитор, сочинивший музыку к песне «Стася», Олег Молчан. Он нашел стихотворение в каком-то старом сборнике, на разрозненных листочках… И сразу – отозвалось, вдохновило… Так и пошла «Стася» в свет без имени автора. Конечно, литературовед мог бы «вычислить» его… Но литературоведы не «крутятся» в шоу-бизнесе.
Выстрыгалі з фотакартак,
Выстрыгаюць і цяпер…
Успамінаць мяне не варта
Ні ў нядзелю, ні ў чацвер, — с горечью писал реабилитированный «враг народа» Язэп Пуща. Как обидно, то и сегодня с ним случилось так же. Пусть и не по чьему-то злому умыслу… Олег Молчан, кстати, как только узнал имя поэта, стал сообщать об этом коллегам… Он только рад, что настоящий автор слов нашелся. И агентство по авторским правам готово восстановить справедливость… Но… Зная, как мы «ленивы и нелюбопытны» в том, что касается родной культуры, боюсь, что имя автора песни «Стася» еще долго останется мало что говорящим публике…
Что ж, теперь вы знаете о нем. И, слушая прекрасную лирическую песню, сможете вспоминать и поэта Язэпа Пущу, и Станиславу Эдуардовну, его музу, «белорусскую декабристку»…
Обеднеет море без капли
Рыгор Папарать (1902-1948)
Генрих Гейне говорил, что художник—дитя, о котором сказка рассказывает, что у него всякая слеза превращается в алмаз. Злая мачеха—жизнь—немилосердно бьет это дитя, для того чтобы оно выплакало как можно больше алмазов.
А может ли случиться, что эти слезы вдруг будут все выплаканы? Или художника запугают так, что он и плакать не посмеет?
История знает такие случаи… Особенно история белорусской литературы.
Жизнь после таланта… После творчества… Как это грустно. Иные сами выбирали такой путь. Кто-то, подобно Рэмбо, выгорев изнутри в юном возрасте, оставил доживать пустую оболочку… Кто-то, не выдержав веса собственных крыльев, предпочел спешиться. Правда, имена последних остаются в большинстве случаев неизвестными. Есть любопытные случаи в нашей литераторской тусовке—поэт Леонид Голубович, издав сборник «апошнiя вершы леанiда галубовiча», объявил, что со стихами покончено. Все, что мог, сказал, зачем повторяться? Есть и иная сторона явления. Те, кого заставили замолчать, как деревенского мальчика Павлюка Багрима или Тараса Шевченку, прятавшего во время своей принудительной солдатчины за голенищем карандаш… Происходили такие трагедии и не так давно… Белорусские литераторы, кому удалось пройти сталинские репрессии и остаться в живых, уже никогда не были теми, кем когда-то—восторженным юношами и девушками, верящими в то, что создают новый мир, открытый для них и белорусского слова.
Змитрок Виталин—настоящая фамилия Сергиевич, из семьи железнодорожника города Калинковичи… В 1932 году вышел сборник его стихов «Будзем жыць!». А в 1933 году 23-летний поэт попал в Сиблаг возле Томска. Согласно легенде, произошло редкое событие—юноше удалось убежать, и с тех тор следы его потерялись. Еще недавно в энциклопедиях и справочниках значилось, что Виталин или пропал без вести во время Великой Отечественной войны, или умер. И вдруг белорусские исследователи узнают, что Змитрок Виталин из лагеря не сбегал, по возвращении домой работал на фанерной фабрике в Мозыре, потом попал на фронт, после Победы остался в армии. Демобилизовавшись в 1961-м году, жил на Украине, в Одессе, даже писал—только на русском языке, и всячески скрывал, что он был белорусским поэтом.
В 1926-м году вышел сборник поэзии трех молодых поэтесс – Евгении Пфляумбаум, Зинаиды Бондариной и Натальи Вишневской. Это был достаточно заметный дебют… Единственная, у кого литературная карьера получила продолжение, это Зинаида Бондарина. Впрочем, нельзя сказать, что ее имя стало громким… Евгения Пфляумбаум тоже писала всю жизнь—но в ящик стола, добровольно отказавшись от публикования и вообще всяческого вынесения своего творчества на люди во имя жертвенной любви к мужу, поэту Максиму Лужанину. Следующий ее сборник вышел только через 63 года. А для Натальи Вишневской первый коллективный сборник остался и единственным. Хотя ее приметил как поэтессу сам Якуб Колас, помог войти в состав «Маладняка», стать студенткой педтехникума, где он сам преподавал. В 1928-м году первый муж Вишневской, поэт Алесь Дударь, был репрессирован. Наталью перестали печатать, ей пришлось уехать в Москву. Там познакомилась со своим вторым мужем, поэтом Алесем Звонаком… И того репрессировали. Уехала на Украину, потом в Ленинград… Стала женой третьего белорусского поэта, Янки Бобрика, тоже изведавшего репрессии. Началась война. Янка Бобрик умер в блокадном Ленинграде. Сама Наталья выжила. Работала библиотекарем. Воспитала двух детдомовских мальчишек—оба стали капитанами дальнего плавания. Но сама она никогда больше ничего не писала. Другая судьба еще горше… Этого писателя мы сегодня могли бы знать наравне с его ровесниками и коллегами Михасем Чаротом, Язепом Пущей, Владимиром Дубовкой, Валерием Моряковым. Но о нем сегодня вспоминают в основном только специалисты, в частности, архивист Татьяна Кекелева, которая много лет занимается популяризацией наследия незаслуженно забытых наших деятелей.
Он родился в деревне Шелеги Титвянской волости Игуменского уезда в бедной крестьянской семье. Но семья все же была необычная: дети обращались к родителям на «Вы», в доме собиралась ценная библиотека классической литературы, отец наизусть читал стихи Лермонтова и Пушкина… Кем стал бы единственный сын в семье Рыгор (было еще четыре дочери), если б не революция—трудно сказать. Родители стремились, чтобы талантливый мальчик получил образование… Ну а в 1921 году, когда сотни тысяч «кухаркиных» и крестьянских детей бросились к знаниям, 19-летний Рыгор Сапун был направлен учиться на рабфак при Белорусском государственном университете.
Как это, наверное, было здорово, как захватывающе—чувствовать, что перед тобой открыт весь мир, что твои поэтические строки способны взволновать миллионы… Рыгор поступает в Ленинградский университет на факультет языка и материальной культуры. На соседнем курсе учится уже знаменитый поэт Язеп Пуща. Сапун, который взял себе поэтический псевдоним Рыгор Папараць, создает ленинградский филиал «Маладняка», печатается, воспевает строящееся счастливое общество… Кумир молодого поэта—Сергей Есенин, и в его строках звучат знакомые мотивы. «Пад васеннiя воплескi клёну / Прытулi ты мяне да грудзей…», «Не звiнiць сваiм лiсцем бяроза , /Звонам радасцi п’янай вясны…/ Мо затым, што я сёння цвярозы,/ Што у сэрцы васенняя стынь»…
За «есененщину» били нещадно… Но среди написанного Рыгором было одно стихотворение, во многом определившее его судьбу. 4 февраля 1931 года, в невыносимом ожидании репрессий, покончил с собой известный историк, президент Белорусской Академии Наук Всеволод Игнатовский. И Рыгор пишет стихотворение «Памяцi Iгнатоўскага». Вроде и не печаталось стихотворение нигде, но, видимо, среди тех, кому поэт его зачитывал, были «доброхоты». Уже с последнего курса университета Рыгора Сапуна исключают «за крамольные стишки, порочащие партию и советское правительство».
Это еще был не конец. Поэт работает на кинофабрике «Белгоскино», которая тогда находилась в Ленинграде, преподает в школе… Да, наверное, до этого многие могли бы назвать Рыгора Сапуна счастливчиком. Он не только учился в престижном университете, начинал добывать славу, но и встретил свою любовь. Романтичную, утонченную красавицу Элеонору Багачунас—актрису, балерину, к тому же дочь влиятельного человека, бывшего латышского стрелка. Поэтому в 1927-м году арестовывать поэта пришли в шикарную квартиру его тестя. Среди бумаг нашлось и крамольное стихотворение… Главная улика.
Шесть месяцев страшных пыток… Но история Рыгора Папарати получилась иной, чем у других жертв… Может, это миф, или не вся правда—не знаю… Но Элеонора вместе со своей матерью продала всю шикарную обстановку квартиры бывшего латышского стрелка, все картины, драгоценности… Собрал то, что у него было, и отец Рыгора… Поэта выкупили из тюрьмы. Взамен он дал подписку о том, что больше никогда не будет писать.
Рыгор Папарать отправился в ссылку. Преподавал в Краснолукской средней школе Холопеничского района. В 1939-м году умерла от туберкулеза красавица Элеонора. Рыгор женился второй раз, на учительнице, чье имя совпадало с именем известной артистки: Любовь Орлова. Родилась дочь Консуэло… Названая, как вы понимаете, в честь героини известного романа Жорж Санд. Во время войны Рыгор Сапун стал партизаном бригады «Беларусь», потом—воином Красной Армии… Был тяжело ранен под Кенигсбергом… После войны работал директором Дудицкой школы Руденского района… В 1948-м году умер. На 10-м году своего поэтического молчания.
Жена вспоминала: «А кали набягалi паэтычныя думкi, ён кiдаўся нiц i горка плакаў ад той крыўды, якую ўчынiлi з iм, i толькi крычаў: за што? За што?»
Не рожденные стихотворения, медленно агонизирующие в сознании… Боль, которую трудно представить.
Иногда доводится слышать, что не стоит так убиваться по пропавшим стихам былых лет—не Шекспиры, мол, не Богдановичи писали… Одним неуклюжим стихом меньше, больше… А я вспоминаю письмо юной художницы Ларисы Засимович, в 80-х годах сгоревшей вместе со своими картинами. «Обеднеет море без капли!»—утверждала она, подразумевая творчество, пусть даже самое малое и юное, и море нашей культуры. И нет важнее дела, чем возвращать истории своего народа имена и письмена. Тем более оплаченные такой кровью, такими муками…
Бриллианты-росы десятого фундамента
Павлюк Трус (1904-1929)
Каким вы представляете себе поэта?
Нет, серьезно… Ведь во все времена существовал некий обобщенный образ «пиита»… Ну, наверное, это молодой человек, разумеется, красивый, романтический, с большими голубыми глазами и буйными кудрями… А взгляд у него вдохновенно-грустный… Совсем как на вот этой фотографии. На которой—молодой белорусский поэт, написавший строки, ставшие известной песней:
Падаюць сняжынкi—
дыяменты-росы,
Падаюць бялюткi
за маiм акном…
Расчасалi вiшнi
шоўкавыя косы
І ўранiлi долу
снегавы вянок…
Его звали Павлюк Трус. «Молодой поэт»… Да, он, как принято говорить, навсегда остался молодым. Таким ли он был в жизни, каким представляется нам, каким вырисовывается в стихах? Между реальной личностью и «творческим имиджем» расстояние случается, как между луной и ее отражением в луже… Но вряд ли этот человек был озабочен «жизнетворчеством». Жизнь его оборвалась на прямом отрезке, не успев изломаться, не научившись петлять…
Прожил он всего двадцать пять лет—умер в 1929-м, заразившись тифом во время творческой командировки в деревню. Мы сожалеем об этом, но… Какова была бы судьба поэта, проживи он дольше—догадаться нетрудно. В «Литературной энциклопедии», которая вышла в 1939 году, спустя десятилетие после смерти Павлюка Труса, в статье о нем бдительный критик отметил: «На раннем этапе в творчестве Труса сказывалась крестьянская ограниченность и некоторое влияние белорусских националистов». Что ожидало в то время «белорусских националистов», понятно… Чуть ли не весь состав литературного объединения «Маладняк», в которое входил и Павлюк Трус, зачислили во «враги народа». Тем более, Павлюк был человеком деятельным… Скорее всего, в «американку», тюремную камеру попал бы и он…
И не спасло бы его—как не спасало никого—бедняцкое происхождение и проповедь социалистических идеалов…
«»Пясняр сацыялістычнай явы»… «Пясняр прадвесця новай явы»… Так назывались рецензии на Павлюка Труса. Не удивительно, что крестьянский паренек принял всей душой власть, которая позволила ему получить образование, стать студентом минского педтехникума, потом—литературно-лингвистического отделения педфака университета, ему, который не один раз слышал от деда, что грамота — дело ненужное и вредное. Хотя с детства проявлял, что называется, «вундеркиндность»—пел, рисовал, много читал… Интересно, что в одной деревне—Низок Узденского района—тогда выросло два поэта: Павлюк Трус и Кондрат Крапива. Последний прожил почти сто лет… В четыре раза больше земляка и коллеги по поэтическому цеху…
Да, Павлюк Трус совершенно искренне говорил, что он—сын революции. И стихи его прославляют новый строй. Даже приведенные в начале чисто лирические строки—это вступление к поэме «Дзесяты падмурак», посвященной десятилетию БССР. Ну и, разумеется, социалистическому строительству вообще. Время расставило свои акценты—лирическое вступление осталось, «идеологически верное» содержание с обличением нищенствующей под панским гнетом Западной Беларуси ныне мало кого вдохновляет на прочтение… Как говорил русский писатель Венедикт Ерофеев, «В этом, конечно, есть своя правда, но это комсомольская правда». Хотя сама поэма написана действительно талантливо, песенно.
Поэзия и власть… Вечная тема, неразрешимое противостояние. Просто потому, что настоящее искусство начинается с того, что творец—желая того или нет—ломает устоявшиеся стереотипы и видит мир с высоты полета духа, а с этой точки зрения совсем по-иному воспринимаются «актуальные» кумиры… В то время, когда творил Павлюк Трус, считалось долгом «греметь» революционными литаврами, а не наигрывать на лире. Павлюк также внес свою лепту в процесс ликвидации политической безграмотности. «К кулаку мне йсці нягожа – мне страхоўка дапаможа», «Камітэты дапамогі ставяць беднага на ногі», «Адзін з адным пагаварылі і аблігацыі купілі», «Каб знаць навіны ўсяго свету—чытай газету», «Каб малака было па вушы—выводзь карову з калатушы»… Нечего сказать, «высокая поэзія»… А ведь, наверное, верил автор, что занимается благородным делом.
А между тем Павлюк Трус был прирожденным лириком. Но… как бы стеснялся этого «негероического» призвания. Поэт Максим Лужанин, один из друзей поэта—они, да еще Петро Глебка, даже составляли когда-то творческое трио под общим псевдонимом «Шаўцы»—вспоминал: «Вершаў пра каханне, а іх было ў Труса ці мала—ён лічыў за лепшае перад аўдыторыяй не чытаць. Не рабіў выключэнняў і для нас, сяброў і паэтычных аднагодкаў… Саромеўся ён тых сваіх вершаў! Аднойчы прызнаўся ў гэтым. Я сказаў, што дарма не чытае іх, знайшлі б добры водгук у моладзі.
Паўлюк нават зазлаваў:
–Не чытаю і не буду чытаць! Як гэта: сёння пацалаваўся, а заўтра разбрахаў па ўсім свеце?»
Хотя все на факультете знали, кто та таинственная М, которой посвящались стихи, на каком курсе учится и какой кинофильм последний раз смотрела с Павлюком—в студенческом общежитействе такие тайны не скроешь.
Критики отмечают, что даже стихи «про любовь» не лишены «комсомольского пафоса»… Тем не менее они трогательны и красивы.
У купальскую ноч
над прасторамі вод
цалаваліся явар з калінаю.
Як драмалі палі,
засынаў небасвод,–
я спаткаўся з чароўнай дзяўчынаю.
И была ли на этой дивчине красная комсомольская косынка—какая разница? «Ты гаварыла аб камуне, аб тым, як жыць, як будаваць, а свежы вецер на трыбуне тваё аблічча цалаваў…»
Поэт слагает стихи и поэмы, у него выходят книги… «Паўлюк Трус быў выдатным талентам, ён рос бурна и моцна, ён ужо дайшоў да сваёй спеласці, ужо быў на грані свайго вялікага росквіту, ён ужо раскрываўся ва ўсёй сваёй шырыні», — писал Кузьма Черный. Кроме писательства, Павлюк участвует в организационной работе «Маладняка», рисует декорации для любительских спектаклей и сам в них играет, много ездит в командировки… Из одной из них Павлюк вернулся с брюшным тифом. Его в бессознательном состоянии подобрали на станции в Минске.
Врачи Минской инфекционной больницы только после смерти пациента нашли в его кармане писательский билет и узнали, кто был это красивый кудрявый юноша…
На фотографии, на которой—похороны Павлюка Труса, улица полна народа. Так и должно быть, когда хоронят поэта. Потом, через несколько лет, поэтов будут расстреливать—ночью, втайне, наедине с палачами… И чтобы ни следа от свежей могилы…
…Город должен иметь свои мифы.
Кроме всем известных «визитных карточек», вроде обелисков и храмов—дух города должен витать в сокровенных уголках, известным немногим, будя фантазию и порождая легенды.
Павлюк Трус был похоронен на Военном кладбище, там, где церковь Александра Невского, построенная в честь павших героев русско-турецкой войны. Еще не так давно его могила была совсем неприметной—скромный каменный памятник, покрытый мхом, ржавая железная ограда… Летом там буйно росла трава, дикие цветы… И приходили к этой могиле те, кто помнил и знал… Студенты, всяческая интеллигенция, страдающая, в сравнении с «бесшляпным населением», гипертрофией исторической памяти… Среди них—писатель, чье имя также нынче обрастает мифами – Михась Стрельцов. Вот как описывает очередной такой визит его друг, писатель Валентин Тарас: «И он повел меня к неприметной могилке в зарослях кустов, под густыми зелеными кронами деревьев, и там на скромном, замшелом памятничке прочитал я имя покойника: «Павлюк Трус». «Ну, здорово, Павлюк,– просто, будто с живым человеком, поздоровался Миша.—Видишь, недолго ты меня ждал. Сегодня я не один, друг со мной…»
…Где-то возле самого памятника в густой высокой траве, был у Миши тайничок. Он покопался там, нашел граненые рюмки, целлофановый мешочек, где были вилки, открывалка, соль, даже бумажные салфетки. Вынул из кармана и поставил на траву бутылку «Столичной». Расставляя все это, тихо сказал, будто себе самому: «В школе изучают, диссертации про «Десятый фундамент» пишут, а на могилу никто никогда не придет. В Союзе писателей начальнички наши, небось, и не знают, где Павлюка могилка… Ну, садись, старичок!…»
Могила Павлюка Труса была местом встреч и медитаций, в ее заброшенности была необыкновенная трагичная притягательность и тайна… Считалось хорошим тоном возмущаться несправедливостью по отношению к памяти поэта…
Сегодня на могиле Павлюка Труса—белый памятник с барельефом, который виден издалека… Справедливость восстановлена? Но все ли знают, чей это памятник?
В отличие от тех, кто умер с «вражеским клеймом», стихотворения Павлюка Труса довольно часто переиздавались. Если полюбопытствовать библиографией, то список довольно внушительный. О поэте много писали, посвящали ему стихи… «Много»—это как измерить? Чем? Если памятью, известностью—то как же мало! Вспомним же еще раз своего поэта, который мечтал
“Здзейсніць мэту і золата дум
Падарыць на карысць Беларусі”.
Рифма ценою в жизнь
Алесь Дударь (1904-1937)
1929 год. На стол первого секретаря ЦК КПБ Гамарника легла докладная записка о том, что «в интеллигентских кругах Минска, главным образом среди писателей, «ходит по рукам» какое-то антисоветское стихотворение».
А стихотворение действительно было неслыханно «радикальное». В нем комментировался раздел Беларуси, часть которой отошла к панской Польше, а часть вошла в состав России, осталось всего «шэсць паветаў, дзякуй i за гэта», как писал Янка Купала…
Пасеклi наш край папалам,
Каб панскай вытаргаваць ласкi.
Вось гэта—вам, а гэта нам,
Няма сумлення ў душах рабскiх.
Гневные, горькие строки читали и за столом у Янки Купалы, и в университетских коридорах. «Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы…»
Вскоре бдительные органы выявили автора. Вот отрывок отчета одного из агентов органов: «…когда я обратился к Купале при ближайшей встрече—с укором—что он, дескать, автор безобразных антисоветских стихов, тот обиделся, заявив, что он может быть недовольным тем или другим, но таких вещей он не делает, и сразу же назвал автора—А.Дударя».
Думаю, сведения были получены не только от Купалы. Многие знали, что в строках звучит голос одного из самых известных и авторитетных, несмотря на молодость, поэтов эпохи Алеся Дударя. Удивляться было нечему: Дударь уже давно—«на заметке» у властей…
А ведь начиналось все на горячей вере и энтузиазме!
В 1904 году на Петриковщине в семье крестьян родился Алесь Дайлидович, впоследствии взявший себе звучный псевдоним Дударь. (Кстати, когда Владимир Дубовка начал вводить в обиход слово «дойлiд», белорусский эквивалент слову «зодчий», Дударь категорически протестовал—видимо, ему не нравилось, что новое слово увязывается с его настоящей фамилией). Вскоре после рождения сына Дайлидовичи переехали в Минск. Алесь учится в гимназии, отец работает на железной дороге. Потом—война. Семейство перебирается в Тамбовскую губернию и возвращается на Беларусь только после революции. В 1917 году Алесь первый раз прочитал печатное белорусское слово—в газетах «Вольная Беларусь» и «Дзяннiца». А в 1921 году уже публикуются первые стихи, подписанные «Алесь Дудар».
Национальная культура, веками сдерживаемая, замалчиваемая, вдруг выплеснулась бурным потоком, тысячами талантов. Алесь—часть этой жизни. Он выступает как актер в спектаклях Первой белорусской труппы под управлением Владислава Голубка, участвует в создании литературного объединения «Маладняк», работает в газете «Савецкая Беларусь», учится в университете… В 1925 году выходит первая книжка. В поэзии Дударь экспериментирует, старается ломать «устаревшие традиции», критикует товарищей, которые «шануюць коласаў усякiх».
Хто прайшоў—галаву павесiў,
(Мiльёны пудоў у гадах).
Ну, а я малады—мне весела
Разагнацца ў мяцежную даль.
Интересное это было время… Еще чувствовались последствия разрухи, еще приходилось с гастролей в пригородных деревнях возвращаться пешком—но какое это имело значение, если строился новый мир, белорусское слово звучало на всю страну, и верилось, что вот-вот настанет светлое будущее! К тому же поначалу удачно складывалась личная жизнь—женой Дудара стала красавица-поэтесса Наталья Вишневская.
Увы, на смену романтически-возвышенным эпохам, как правило, приходят иные…
В 1928 году в первом номере настенной газеты педагогического факультета университета, которая носила боевое название «Кузня Асветы», был помещен фельетон «Фрагменты из жизни 2-го курса литературного отделения». «Прицельный огонь» велся по студентах – писателях, которые «всюду и всегда говорили по-белорусски», носили галстуки, шляпы и очки и поклонялись кумирам вроде Максима Богдановича, «разочарованного интеллигента, хлюпика и нытика». Отщепенцев предлагалось сослать «в места не столь отдаленные и с литературным ароматом». 4 декабря 1928 года в газете «Савецкая Беларусь» публикуется «Лiст 3-х». Герои фельетона, носители шляп и белорусской идеи Андрей Александрович, Алесь Дударь и Михась Зарецкий заявляли в знак протеста против прозвучавших оскорблений о своем уходе из университета.
Рисковали все трое, но больше всех—Алесь Дударь. Не так давно он под псевдонимом Тодар Глыбоцкий опубликовал несколько острых статей о репертуаре белорусских театров, в которых становилось все меньше национальных пьес. Началась бурная дискуссия, критика обвинили в национализме… Тогда «обошлось»—в результате только руководитель Главискусства Наркомобраза Змитер Жилунович, он же поэт Тишка Гартный, поддержавший звучавшие в статьях Глыбоцкого требования, получил выговор и был уволен с должности. «Лiст 3-х» еще больше озлобил систему. К разбору подключился Центральный контрольный комитет партии. Срочно созываются партийно-комсомольские и факультетские собрания, бюро партийного коллектива, ректорат и т.д. Провинившихся сурово клеймят и разоблачают. От имени молодых писателей Петрусь Бровка заявляет: «Лiст—палiтычны памфлет, якi ганьбiць БДУ i нашу нацыянальную палiтыку. Аўтараў трэба з партыi выгнаць.» А председатель Центрального правления профсоюза работников образования нарком А. Плытун требовал «ударить так, чтобы у того-сего перья посыпались…»
Видимо, «перья сыпались». Потому что трое бунтарей пишут новое—покаянное—письмо в «Савецкую Беларусь». Но раскаяние звучит там с оговорками. Да, они поспешили, уйдя из университета. Нужно было остаться и вместе с партийными органами бороться против проявлений «мещанской мелкобуржуазной стихии».
Между тем борьба с «национал-демократами» ужесточалась. «Маладняк» реорганизовали в БелАПП—ассоциацию пролетарских писателей. Алесь Дударь отзывается на это так: «Усё прайшло, i следу больш няма—i мяцежны шлях, i перазвоны…». Иллюзии насчет мировой революции и истинно народной власти исчезали одна за другой. И стихи теперь писались другие…
Ценi блудзяць па твары,
Сэрца точыць нуда.
Сёння лепшы таварышМожа цябе прадаць…
Но стихотворение «Пасеклi наш край папалам…» было прямым преступлением против режима. На такое осмеливались единицы—например, Осип Мандельштам в стихах о «кремлевском горце».
Дударя вызывают в «органы». Он оправдывается тем, что… был пьян: «Стихотворение написано в невменяемом состоянии, не является характерным для моего творчества и органически с ним не связано…».
Приговор сравнительно мягок: ссылка из Белоруссии. Еще не настал «пик» репрессий. Опального поэта, хотя и редко, продолжают печатать, друзья поддерживают с ним связь… После отбытия ссылки он возвращается в Минск. Пишет стихи, поэмы. Много переводит: Пушкина, Блока, Шиллера, Гейне, Гете, Пастернака… Разумеется, теперь поэт взвешивает каждое написанное слово. Но в пафосе вроде бы правильных строк звучит настоящая издевка, как, например, в поэме «Слуцак»:
Чаго не здолелi вякi,
Тут вырашылася ў паўгода.
Ў казiны рог бальшавiкi
Загналi слуцкую прыроду.
На партийном совещании 1932 года Дударю даже дают (или вынуждают?) выступить с речью по поводу борьбы с «замаскированной нацдемовщиной». Но маятник насилия раскачивается все больше. Ночью 31 октября 1936 года в двери квартиры №2 по Проводной улице постучали…
Алеся Дударя расстреляли в «черную ночь» белорусской литературы, 29 октября 1937 года, вместе с двумя десятками других лучших представителей белорусской творческой интеллигенции. Точное место его могилы не известно. Что ж, он, как в свое время и Мандельштам, заплатил жизнью за стихотворение, которое тысячам дало силы пережить жестокие времена, стало одиноким голосом эпохи.
Не стреляйте в футуриста
Павлюк Шукайло (1904-1939)
Его называют первым белорусским футуристом. И самым скандальным отечественным поэтом ХХ века.
Некоторые восхищались им, как героем. Другие были иного мнения… Максим Лужанин называл его «лiтаратурны клоўн». Сергей Граховский отзывался так: «галасiсты, крыкун, нахабны, бесцырымонны». Борис Микулич говорил о «тыповым авантурысце i гiстэрыку». А вот его портрет в исполнении Янки Скрыгана: «чалавек агнявой натуры, добрага, шчырага сэрца, партызанскай зухаватасцi i брацтва».
Даже даты его рождения нет. Известен только год. Он вошел в историю литературы, фактически, в отсутствии произведений—хотя был поэтический сборник «Акрываўленая зямля», поэма «Акорды дзён»… Но его личность совершенно затмевает творчество. Сегодня это не редкость. Каждый знает, что написать хороший роман—дело десятое, главное—устроить публичный скандал.
Павлюк Шукайло родился в деревне Малая Лапеница Волковысского района, на территории Западной Белоруссии, оказавшейся в составе Польши. И то ли в начале 1925 г., то ли в конце 1924-го нелегально перешел границу БССР. Впоследствии на всех выступлениях Павлюк расказывал о своей геройской юности, о том, что с 16 лет был «змагаром-партызанам», «парабэлум змянiў на пяро». Писатель Виталь Вольский, работавший на заставе, описывал его появление так: «Прывялі нейкага рыжага хлопца ў світцы, у лапцях з торбаю. «Што там? Бумагі нейкія? — Вершы.—Вершы? Ты што, вершы пішаш? — Пішу. Я ж паэт.—А зваць цябе як? –Шукайла».
Перебежчика приняли.
По натуре он мог быть только лидером. Павлюка назначают редактором Слуцкой окружной газеты «Вясковы будаўнiк», потом, когда газета закрылась—секретарем райкома партии в Россонах. В его кабинете на стене висело рядом два портрета—Карла Маркса и… Павлюка Шукайло. Но самое интересное для него—литература, а именно ее «левая плынь». Павлюк активно включается в литературный процесс, печатается, вступает в «Молодняк»… Сегодня трудно найти его стихи, чтобы составить о них представление—их не включают даже в антологии. Звучали они приблизительно так:
«вызваленне чалавецтва
ад прытухлых, заскарузлых
конанаў,
традыцый,
архiўных
вякоў»…
Но организатором Павлюк был исключительным. Он сколачивает филиал «Молодняка», вокруг него собираются талантливые люди—писатели Янка Скрыган, Петрусь Бровка, Юрка Лявонны… Шукайло пытался наставить всех на «путь футуристический», декламируя Маяковского и себя, заставляя всех писать «лесенкой». Вот только сей формалистический изыск вчерашним деревенским паренькам был чужд, хотя, по свидетельству Янки Скрыгана, каждый из них «аж выпiнаўся, каб толькi папасцi ў той футурызм». Умел Шукайло и выступать. Вот как это выглядело: «На сцэну выходзiў малады, шырокаплечы дзядзька ў беларускай вышыванай кашулi, яму было тады ўсяго 20 год, але ён выглядаў значна старэйшым. Iльвiная грыва русых валос надавала шырокаму твару мужнасць i паважнасць. /…/Ягонае выступленне заўсёды суправаджалася бурнымi воплескамi».
Павлюк поступает на литературно-лингвистическое отделение университета и перебирается в Минск. Простор для амбиций! Фигуру Шукайло в дорогом пальто, в высокой меховой шапке, с тростью в руках узнавали в минских кафе, его звучный голос раздавался на всех поэтических вечерах. Но почему-то великим поэтом «партызана-змагара» с его «налева ббі, направа ббі» признавать не спешили. Павлюк выходит из «Молодняка» и организовывает свою «Лiтаратурна-мастацкую камуну»—«Росквiт». Выпрашивает у председателя Совнаркома Белоруссии Голодеда деньги на издание альманаха. В «Росквiце»—железная дисциплина. Когда в Минск приехал выступать поэт Михаил Светлов, «Росквiт» в полном составе (человек 25) явился на выступление и устроил гостю, чем-то не угодившему им, грандиозную обструкцию. Шукайло провозглашает речи, типа «На першых парах маладая лiтаратура замест трухлявага звону старой лiтаратуры запела баявую песню… Большая частка пiсьменнiкаў адарвалася ад нас, ад гэтай жывой крынiцы—i ў iх перасохла ў горле, i песнi атрымалiся хрыплыя».
К тому же Павлюк берет на себя роль «пролетарского критика». Изобличает не хуже печально известного Бенде. Под его удары подпадают все—Алесь Дударь, Валерий Моряков, Сергей Дорожный, Язэп Пушча, Павлюк Трус и т.д… «Паэты пяшчотных струн, iльдзяных гiтар, пярыннага блажэнства i лiтаратурнай пустазвоннiцы»—так аттестовал Шукайло наиболее талантливых своих современников.
Против агрессивного пафоса в творческой среде всегда было оружие—смех, карнавал, мистификация… Кондрат Крапива изобразил Павлюка в своей фантастическо-сатирической поэме «Хвядос-Чырвоны Нос». А вскоре в редакциях стали появляться странные рукописи стихов Павлюка Шукайлы—их разносил поэт Сергей Дорожный. Среди прочих там был такой «перл», ставший «визитной карточкой» Шукайлы-поэта:
«Выйду я на сенажаць,
ды
з нагана
ў жабу—
бац!»
Вскоре выяснилось, что стихи были пародией. Шукайло оскорбился и выступил с открытым письмом, в котором доказывал, что не могли родиться у него строки про наган и жабу.
Литературная общественность веселилась. Кто был автором пародий? Максим Лужанин уверял, что Кондрат Крапива. Сергей Дорожный твердил об авторстве Михася Багуна… Хотя многие считали, что писал от имени Шукайло Сергей Дорожный. Интересно, что именно эти строки и остались в людской памяти от всего Шукайлового наследия…Между тем «Росквiт» распался. В 1928 году Шукайлу командируют в Москву, в Коммунистическую академию, на факультет «красной профессуры». Хотя есть свидетельства, что факультет он так и не окончил, но Москва—это же какие возможности! Шукайла организовывает Белорусскую секцию Московской ассоциации пролетарских писателей, которую, естественно, сам возглавляет (собиралась один раз). Новоиспеченный «красный профессор» приходил в Дом писателя в бобровой шапке такой величины, что напоминала боярскую из театрального реквизита, в пальто с кенгуровым воротником, с неизменной тростью… Которую, кстати, моментально пускал в ход против врагов, изгоняя их из помещения.
Разумеется, были разные ипостаси скандалиста Шукайло. В то время он был женат. В его квартире часто собирались белорусы, слушали на патефоне народные песни, цимбалы. Пели сами. Павлюк особенно любил песню «Перапёлачка». Вообще был патриотом, что проявлялось даже в мелочах. На дверях квартиры висела табличка с его именем на белорусском языке, что профессор комментировал так: «Няхай i тут застанецца наш правапiс». Ходил в рубахе-вышиванке и домотканом галстуке. Благодаря Шукайло в Москве выходит альманах белорусской поэзии «Наступ».
Карьерный рост молодого профессора фантастичен. Он возглавляет кафедру в Институте кинематографии, редактирует московскую газету «Кино», работает директором Центрального техникума театрального искусства… Правда, нигде долго не задерживается. А с 1932 года становится вице-президентом Государственной академии искусств в Ленинграде. Нетрудно подсчитать, что Павлюку было в это время 28 лет. Это взлет его карьеры.
Говорят, что назначали-то его директором Института кинематографии… Но Шукайло, приняв бразды правления, тут же переименовал Институт в Академию, а себя в ее президенты, заказал соответствующие бланки и печати… Это был очередной пункт в длинном списке прегрешений скандального поэта перед властью. Шукайло всегда балансировал «на грани». Однажды, когда ему нужно было достать билет на поезд, он послал железнодорожному начальству телеграмму от имени Берии с просьбой посодействовать академику Павлюку Шукайло. Возможно, это просто анекдот. Но не эта ли выходка послужила «последней каплей» на весах сталинского правосудия?
Павлюка Шукайло арестовывали еще в 1930-м. Тогда обошлось… 1 ноября 1938 года арестовали вновь, во время всеобщего «хапуна»: вылавливали «троцкистов». Есть сведения, что держался наш первый футурист на допросах мужественней многих, с характером был…
Приговор от 13 апреля 1939 года, утвержденный Л.Берией и А.Вышинским, касался 931-го «активного участника контрреволюционной правотроцкистской заговорщицкой и шпионской организации». 198 человек подлежали расстрелу. Среди них—Павлюк Шукайло. Приговор был приведен в исполнение 14 апреля 1939 г. Ровно через двадцать лет, день в день, первый белорусский футурист был реабилитирован. В документах он проходит как «профессор киноведения, персональный пенсионер».
«На Беларусi
вада з крывi,
палеткi з курганоў i крыжоў».
Это тоже—Павлюк Шукайла… Процитированные строки хотел взять эпиграфом к своему роману «Крывiчы» Михась Зарецкий, но их почему-то вычеркнули…
Бывший футурист из Сиблага
Ян Скрыган (1905-1992)
«Мне кажется, что и после смерти я буду помнить и буду счастлив, что кто-то на земле очень любил меня»…
Наверное, он сейчас действительно счастлив… Его помнят. Да и такую любовь, какую встретил он, встречают на земле редко… Но и редкий человек, прошедший подобные испытания, мог остаться столь светлым, добрым и мудрым, каким остался в памяти людской писатель Ян Скрыган… Его биографии хватило бы на нескольких человек. Словно ему было дано прожить не одну, а несколько жизней.
Жизнь первая.
Начало 20-х годов прошлого века. Студент Слуцкого сельскохозяйственного техникума Ян Скрыган был замечен, как подвизающийся на литературном поприще, и приглашен на работу в Слуцкую газету. Так он попал в компанию молодых белорусских литераторов, возглавляемую колоритной личностью, первым белорусским футуристом Павлюком Шукайлой. Молодежь под предводительством Шукайлы училась писать «лесвiчкай», под Маяковского, «каб толькi папасцi ў гэты футурызм». Потом Шукайло перетаскивает свою «команду» на Полоччину, затем—в Минск. Кроме «правой руки Шукайлы» Янки Скрыгана в «команду» входил и Петрусь Бровка, впоследствии вычеркивавший этот факт из своей биографии. «Памятаючы прыклад футрызму, што трэба нечым вылучацца, мы хадзiлi бадай усе з кiямi i ў капелюшах, што на той час было навiною. Трымалi сябе ваяўнiча i задзiрыста. На лiтаратурных вечарах i дыспутах чыталi крыклiвыя вершы, траха не хапалiся за грудзi ў спрэчках», — вспоминал Скрыган.
Но футуризм был для него «переходным этапом». Один за другим выходили сборники прозы. Становилось понятно, что в отечественную литературу пришел тонкий стилист, необыкновенно чувствующий слово… Скрыган познакомился с красавицей Галиной, работавшей машинисткой в Государственном издательстве, женился… Жена забеременела. Был конец 1936-го года. Скрыган приехал в доме творчества под Пуховичами, чтобы поработать над важной статьей для газеты «Лiтаратура i мастацтва». Соскучившись, хотел вызвать жену—всего полгода, как поженились… Не успел. Он никогда более не увидится с ней и никогда не увидит родившегося вскоре сына.
Жизнь вторая
Скрыгана арестовали прямо в доме творчества. Он точно знал, кто писал доносы—друг-поэт, сосед по минской квартире… Начались самые страшные дни в жизни писателя… Следователь был изобретателен. Бил, обливал холодной водой, сажал в карцер, такой узкий, что в нем нельзя было повернуться, и когда узник уже не имел сил стоять, то «висел, сдавленный его теснотой до боли во всем теле».
Следствие длилось целый год. Потом был скорый и неправедный суд и приговор: 10 лет лагерей и 10 лет ссылки. Ново-Ивановское отделение Сиблага превратило Скрыгана в опытного лагерника, хотя поначалу даже с домашней одеждой пришлось по злой воле зэков распрощаться. Но Скрыгану, видимо, иногда помогало и его необыкновенное обаяние—невозможно было не проникнуться симпатией к этому скромному, добродушному человеку… Который даже в самых страшных обстоятельствах сохранял самое главное—свою личность, умение видеть красоту в окружающем мире. Однажды вечером, в порыве отчаяния, он выбежал из барака. «На улице было холодно, зябко. Я выскочил в нижнем белье… Меня насквозь пробирал холод, я чувствовал, что дрожу, но стоял, как вкопанный и смотрел в небо. Боже, какое оно было широкое, и как мощно кипели и менялись в нем краски…»
И созерцание небесной красоты вновь вернуло силу жить.
Были и более материальные «чудеса». Однажды вечером бригаду, в которой работал Скрыган, вели с работы. Вдруг на снегу он заметил кочан капусты, «круглый, свежий, морозно-упругий»… Чтобы поднять его, обессиленному, болеющему цингой узнику нужно было сделать всего шаг в сторону… И рискнуть жизнью. Ведь шаг в сторону приравнивался к побегу, и охранник имел право пристрелить нарушителя. Но Ян решился… Колонну тут же остановили. К заключенному подбежали охранники, отобрали недозволенную добычу… Он подготовился к худшему. Но старший по званию охранник внимательно посмотрел на «преступника» и тихо приказал коллеге, державшему кочан: «Отдай человеку…»
Лагерный срок закончился в 1946-м году… Начиналась ссылка. Тюремщик предложил: «Давай перекручу тебя три раза—и ты ткнешь пальцем на карте Советского Союза, которая висит на стене. В какую точку попадешь—туда и направишься». Так и сделали. И выпало Яну Скрыгану ехать в Узбекистан, в Фергану.
Жизнь третья
Пока добрался—в теплушках, по разрушенной войной стране—обессилел, изголодался… Да еще и ограбили дорогой. Трое суток ночевал на улицах Ферганы… Попросил у прохожего махорки. Тот оказался главным бухгалтером завода. Так Ян Скрыган попал в качестве бухгалтера на так называемый «номерной завод». Там он и встретил верную подругу жизни, свою большую любовь—Анну…
Мне посчастливилось брать интервью у Анны Скрыган через несколько лет после смерти ее мужа, Яна Скрыгана. Анна Михайловна вспоминала, как впервые увидела нового сотрудника по бухгалтерии: в тюремном бушлате, лицо опухшее от голода и недосыпания… Анна была москвичкой—эвакуировалась в Узбекистан в начале войны. Муж погиб на фронте, сыну Алику—семь лет… Новый бухгалтер оказался интеллигентным, добрым человеком. Жили в кибитках по соседству, дружили… Особенно привязался к дяде Яну маленький Алик.
«И вот однажды Алик прибегает ко мне и говорит, — вспоминала Анна Михайловна,– Мама, полюби дядю Яна! Хоть немножко полюби!» Я растерялась: «Как ты мог такое придумать?» Оказалось, Алик играл с Яном Алексеевичем в шахматы и спросил, почему тот ужинает с нами вместе, а живет отдельно… И Ян Алексеевич ответил: «Вот если бы твоя мама хоть немного меня полюбила, то жили бы вместе…»
И Анна Михайловна решилась: «Сходи к дяде Яну—пускай переносит вещи к нам…» Алик—пулей—к дяде, через какое-то мгновение из кибитки—снова же—пулей выбегают они оба…»
Через год у Яна и Анны родилась дочка—Галя, названная в память первой жены Скрыгана (тому как-то передали, что в дом, где жила его семья, попала бомба)…
Климат Узбекистана не слишком подходил семье. Переехали в Эстонию, в городок Кивиыли, где на сланцехимическом комбинате требовался бухгалтер. Кстати, Скрыган посчитал своим долгом освоить язык людей, среди которых работал, и вскоре свободно говорил на эстонском. А теперь в городе Кивиыли стоит памятник Яну Скрыгану.
Жизнь налаживалась… И тут писателя забрали во второй раз. Анна сказала на прощание: «Помни: где бы ты ни был, я к тебе приеду».
Жизнь четвертая
Скрыгана выслали в Сибирь, в деревню Сухобузимо, на вечное поселение. А жену каждую ночь вызывали на допросы. Дочь Галя была еще грудная. Но на просьбы матери отлучиться, чтобы покормить ребенка, следователи говорили одно: «Отрекись от мужа—и иди».
Анна не отреклась. Выдержала все. Как только получилось—отправилась вместе с детьми в Сибирь.
Ян Скрыган три дня стоял на площади, ожидая семью—поезда ходили не по расписанию. Можно только представить, что он пережил, передумал за эти дни ожидания. Когда Анна увидела его, губы у него были совсем белые от холода. Он сказал только:
— Ты приехала. Ты вернула мне жизнь.
Продали единственную имевшуюся приличную вещь—костюм Скрыгана, и купили землянку. Опять начали обживаться…Но пришло письмо о реабилитации.
Яну Скрыгану—под 50… Когда его впервые арестовали, он был еще молод, полон сил и творческих планов… Самый важный для самореализации возраст прожит вне литературы… Заключенным писать категорически запрещалось, за этим строго следили. Даже новая семья не знала, что он—писатель… И вот—все начинать с нуля…
В Минске далеко не все решались восстанавливать знакомство с бывшим заключенным. Но все же находились и иные люди. Деньги—целых тысячу рублей—одолжил старый друг Заир Азгур. Юревичи пустили пожить в своей квартире… Поддержал Иван Шамякин, председатель Союза писателей. А Петрусь Бровка, с которым когда-то вместе были в футуристической группе Павлюка Шукайлы, в 1967 году пригласил Яна Скрыгана на ответственную работу в создаваемую Белорусскую энциклопедию. На все предостережения отвечал, что Скрыгану он доверяет, и лучшего стилиста, способного выработать язык будущей энциклопедии, не найти.
Так начался новый этап жизни Яна Скрыгана.
Жизнь пятая
Именно об этой жизни Скрыгана только и знали многие… Известный белорусский писатель, переводчик, заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии… Он пользовался огромным авторитетом как знаток и защитник белорусского языка, неутомимый и принципиальный. Петрусь Бровка принес ему на редактирование свой опус «Калi злiваюцца рэкi». Скрыган предупредил, что если начнет редактировать, оставит только четверть. На что Бровка ответил: «Я знаю. Но если ты отредактируешь, больше ничего не нужно будет поправлять». Однажды Стефания Станюта сказала после вечера в Купаловском театре, на котором выступал Ян Скрыган: «Я его слушала, как музыку».
Но прошлое не давало забыть о себе. В 1963-м году из Западной Германии на адрес Союза писателей пришло письмо на имя Яна Скрыгана. В конверте был снимок юноши с надписью на обороте: «Дорогому отцу от сына Всеволода». Оказывается, первая жена Скрыгана Галина не погибла, их с сыном во время войны угнали в Германию. Там и остались жить.
Завязалась переписка… Но отец так никогда и не встретился с сыном. Только внуку Яна Скрыгана, известному гитаристу, которого тоже зовут Ян Скрыган, удалось познакомиться воочию с германским родственником.
Скрыган прожил 86 лет. Он был великим тружеником Слова. «Якая гэта мiлата—праседзець ноч за сваiм сталом! За работаю, што табе даражэй за ўсе адпачынкi»…
Он успел отобрать у судьбы часть загубленного… И этого хватит, чтобы тут его любили и помнили—ведь после смерти начинается новая, самая долгая, жизнь писателя. Жизнь его произведений.
Вицковщина не ходила в лаптях
Николай Улащик (1906-1986)
Urbіs at orbіs, “Городу и миру” – торжественно начинали свои речи римские цезари. Город, Рим – единственное, что заслуживает внимания, средоточие цивилизации.
А что же деревня?
Польский литературовед Ян Парандовский утверждает, что творческой натуре свойственно в юности стремиться в город, а под старость – в деревню, дабы в пасторальном покое довершать свои славные труды.
У белорусской литературы с деревней отношения особые. Произведениями о ней, родной, можно вымостить дорогу на самый отдаленный Парнас. После кинутого в шестидесятых клича «Мы ўсе з-пад стрэх” и пресловутого обозначения нашей интеллигенции как «сена на асфальте» отмежевываться от деревенского происхождения стало кощунством. Только в восьмидесятых призрак «Ганны, якая завіхалася ля печы», стал отступать в историю под натиском молодых литераторов-урбанистов, приверженцев шляхецко-рыцарской романтики и «контруктивистского духа». Один Андрей Федоренко из поколения восьмидесятников-«Тутэйшых», пожалуй, смог по-новому сказать о деревне в повести «Вёска».
Но если вы думаете, что, прочитав энное количество романов и повестей разного уровня художественности, знаете о белорусской деревне все, то ошибаетесь. Книга «Деревня Вицковщина. 1880-1917» будет для вас окрытием.
Не роман, не повесть… «Историко-этнографический очерк». Просто о том, как в одной, конкретной, деревне на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий строили дома, работали, отмечали праздники, готовили еду…
Автор книги, Николай Улащик, родился в деревне Вицковщина в 1906 году. Он принадлежал к тому поколению молодых белорусских возрожденцев, интелигентов из народа, которым выпало содавать культуру и науку белорусского государства. Улащик был талантлив, энергичен, но он был сын «кулака». Доносы сопровождали его всю жизнь. Удалось поступить в университет, но после очередного «сигнала» сын «знамянитага эксплуататара», (как отрекомендовал проверяющим старшего Улащика батрак) был отчислен. Потом, правда, его восстановили… Но лишили стипендии, и даже пришлось платить за обучение самому. Но главное – имелась возможность заниматься любимым делом. Улащик организовывает краеведческое общество, ездит в экспедиции, пишет статьи…
Начинались тридцатые года. Минск был увешан объявлениями типа «у такі дзень чыстку будзе праходзіць такі-то, давайце на яго кампраметуючы матэрыял”.
И материал давали.
Николаю Улащику удалось уехать из Минска до того, как его затянула в свои жернова репрессивная машина. Но спасения это не принесло. Беглец, «нацдем» объявлен во всесоюзный розыск, родного брата каждую ночь таскают на допрос…
Николай приходит с повинной. Это был его первый арест. А всего ученого арестовывали трижды. Пришлось испытать и то, как во время кратковременной «передышки» знакомые при встрече перебегали на другую сторону улицы, и знаменитую камеру-«американку», и школу ГУЛАГа.
Спасла Улащика из лагерей его жена, научный работник, организовав заступничество известного академика. Улащик был тяжело болен, и если бы обстоятельства сложились менее счастливо…
Впоследствии ученый говорил, что именно на лесоповале написал свои кандидатскую и докторскую диссертации. Написал – мысленно, храня в памяти до лучших времен.
Улащик остается работать в Москве – на Беларусь путь «нацдему» был закрыт. Его авторитет, как знатока белорусской истории, непререкаем. Свидетельство—воспоминания о Николае Улащике его именитых коллег. Что же такого крамольного, следовательно, необычного в исследованиях историка Улащика?Долгое время в истории Беларуси существовал негласный принцип: «Чем хуже было крестьянам, тем быстрее защитим диссертацию…».
А теперь представьте…. Конец XIX века. Белорусская деревня, где все крестьяне поголовно грамотны, каждая семья владеет изрядным наделом земли, никто из тех, кто работает, не голодает, и никто не ходит в лаптях… Эта деревня нам незнакома. Ее уроженцу, разумеется, было что возразить плакальщикам о забитом несчастном мужике. Николай Улащик вырос в такой деревне.
Правда, Вицковщина не была вовсе обычной деревней – ее образовали несколько крестьянских семей, выкупивших земельные наделы. То есть изначально это были крепкие, зажиточные хозяйства, где крестьянин “пахал плугом, носил сапоги, молотил молотилкой, был грамотным, читал книги и выписывал газеты”. Разумеется, работали самоотверженно все – от старых до малых, и соблюдали обыкновенную крестьянскую экономию – ведь каждая мелочь была заработана тяжелым трудом. Но при том, что в теплую пору года ходили босиком, в будни одевались в потрепанную одежду, крестьяне Вицковщины имели и “модные парадные костюмы: брюки, пиджак, жилет, рубашка с целлулоидными твердыми манжетами и воротником и галстук; наряд более франтоватых мужчин дополняла тросточка”. Ну а если упомянуть, что женщины , “идя в церковь или куда-либо в гости,… одевали не только модные платья, но и имели зонты, а на руки одевали модные перчатки (до самых локтей). Если женщины, в особенности пожилые, довольствовались платком, то девушки-невесты и молодухи приобретали модные шляпы”.
А ведь это не было какое-то единичное поселение – таких богатых деревень в дореволюционной Беларуси хватало. И при этом – никакой пасторали. Автор “Деревни Вицковщина” ни в чем не отступает от фактов. Да, были в праздники перчатки, шляпы и тросточки… Но при этом нормальный белорусский крестьянин ”считал, что в чистоте и порядке должны быть гумно и амбар, так как там хранился хлеб, но если в хате пол был грязный, то это не вызывало ни у кого недовольства. Наоборот, если жилая хата имела щегольской вид, то это означало, что хозяйка слишком много внимания уделяет не хозяйству, а пустякам. “
Но в одной из этих хат жил чудак-книголюб, который привозил книги из минской библиотеки, и крестьяне плакали над страницами “Анны Карениной” и “Хижины дяди Тома”. Огромной популярностью пользовались также “Приключения Тома Сойера” и “Робинзон Крузо”. А приключения Ната Пинкертона, аналог сегодняшних Бушковых, “темными” крестьянами ценились куда ниже.
И при этом – все тот же пресловутый наш консерватизм, когда предрассудки заставляют выгонять забеременевшую дочь на улицу… Но сочувствующие соседи за одну ночь ставят изгнаннице хату с печкой – а по закону, если стоит уже печь, то здание сносить нельзя.
Вицковщина с трудом воспринимала то непривычное, что было, по мнению крестьян, излишеством. Новую модель жнейки – это можно, это по хозяйству. А вот “недоверие к чужой пище было таким глубоким, что когда один из хозяев привез из Минска арбуз, объяснив, что в городе его очень хвалят, то члены семьи, естествнно, выразили желание испробовать это лакомство. Однако, когда они увидели, что разрезанный арбуз похож на свежее мясо, то это вызвало у всех недоверие: разве такое можно есть сырым? Тем не менее кое-кто взял по кусочку в рот, но тотчас же с отвращением выплюнул”.
Вицковщина трудилась, отмечала праздники, отправляла детей на учебу… Николай Улащик описывает ее жизнь за короткий период – с 1883 по 1917. “Деревня эта существует и сейчас (в войну она уцелела), но проследить ее судьбу за дальнейшие годы не имел возможности”, — писал автор.
Понятно, почему исследование обрывается 1917 годом, понятно, какая судьба постигла “кулацкое” население Вицковщины.
Николай Улащик умер в ноябре 1986 года. Он сделал за свою жизнь очень много. На его счету, как ученого, многие тома исследований, открытие старинных рукописей. Коллеги вспоминают, что Улащик обладал уникальным умением говорить на языке XVI века. Но тоненькая книжечка “Деревня Вицковщина” , чувствуется, была ему особенно дорога. Ведь это – о родине, о той деревне, которой больше нет. И которая была достойной частью мира.
«Адзiн, як месяц…»
Сергей Дорожный (1909-1938?)
К ранним дебютам в литературе многие относятся скептически… Поэтический сборник — в 17 лет! Да что такой юнец может поведать миру?
Поэт, издавший первый поэтический сборник в 17 лет, уже имел достаточно горький жизненный опыт. Его звали Сергей Середа. Совсем маленьким ему пришлось с семьей изведать ужасы Первой мировой войны, беженство… Потом — революция, кровавый вихрь, отобравший семью (отец Сергея был соратником генерала Булак–Балаховича, фигуры нашумевшей и противоречивой, но сегодня малоизвестной). Сергей с 1921 года воспитывался в Мозырском детском доме. А в 1924 году поступил в Белорусский педагогический техникум — «питомник» национальных культурных кадров.
На фотографиях Сергей Дорожный выглядит очень романтично: красивое мужественное лицо, интеллигентное, даже, можно сказать, артистическое. Однокурсники вспоминали, что он всегда был веселым, внешне беззаботным, хотя понятно, что пережить пришлось немало. И еще — никто не знал, что студент Сергей Середа и поэт Сергей Дорожный, который все чаще и чаще печатался в газетах и журналах, одно лицо… Конечно, со временем тайна была открыта. Один из соучеников вспоминал о Дорожном: «Раптоўна з’яўлялася натхненне i ён не мог чакаць тэй хвiлiны, калi нiкога няма ў пакоi. Сяргей пiсаў у iнтэрнаце адкрыта, пры ўсiх. Часам, калi стол быў заняты, ляжаў на ложку, абапершыся лакцямi ў падушку, на якую клаў сшытак. Пабочныя гутаркi яму не перашкаджалi. Ён паглыбляўся ў свае мроi. Шырокiя бровы сашчэплiвалiся. Упарта блытаў пальцамi пасму валасоў, круцiў iх, непаслухмяных, у завiткi».
В 1926–м выходит первый сборник поэта Сергея Дорожного «Звон вясны», совместный с поэтом Израилем Плавником, братом Змитрока Бядули. Откуда взялся псевдоним Дорожный? В текстах поэта часто встречается образ дороги… На писательском съезде юный Сергей прочитал:
Беларусь больш не стане крыжам
Пры дарозе з Хрыстом распятым.
В объединение «Маладняк» его приняли единогласно. А потом Сергей был среди тех смельчаков, которые вышли из «Маладняка», чтобы создать «Узвышша» — литературное объединение, декларировавшее свободу творчества и эксперимент, и культурно–национальное возрождение…
В первом же альманахе «Узвышша», вышедшем в 1927 году, были напечатаны стихотворения Сергея Дорожного.
Зiма цяпер — i снегу па каленi.
Нi сцежак, нi дарог няма, —
Цярусяцца i падаюць сняжынкi памаленьку —
Зiма, зiма…
…Гады, гады! Мiне ўжо скора дваццаць…
А днi сняжынкамi лятуць, лятуць,
На белы снег яны садзяцца i садзяцца.
Когда ищешь сведения о Сергее Дорожном, создается впечатление, что без него не обходилось ни одно литературное событие. Литтусовка была тесной и дружной… В 1927 году появляется даже известие, что восемь молодых поэтов — Павлюк Трус, Валерий Моряков, Виктор Козловский, Сергей Дорожный, Максим Лужанин, Петро Глебка, Тодар Кляшторный и Янка Бобрик — начали работать над большой общей поэмой «з сучаснага грамадскага i культурнага жыцця». Поэму обещали напечатать в журнале «Полымя»… Да так никогда и не напечатали.
В 1926 году в газете «Комсомольская правда» появилась статья Л.Сосновского «Развенчайте хулиганство». В ней автор называл Сергея Есенина «знамением хулиганства», а его поэзию — «лирикой взбесившихся кобелей». Группа студентов Белпедтехникума написала письмо–протест: «Можа быць, Ясенiн нават вельмi горача адносiўся да сваёй Русi, але iнакш ён не змог бы быць нацыянальным паэтам.
Ён унёс новае, ён сапраўдны мастак, толькi трэба добрай крытыцы падрыхтаваць, як належыць, чытача да вывучэньня Ясенiна… Далёкiя нацыянальнасьцi СССР выкажуцца пра Ясенiна таму, што ён вялiкi паэт i мастак, i тым самым змыюць цень, кiнуты неабачлiвым артыкулам тав. Сасноўскага».
Среди «подписантов» — Петро Глебка, Янка Бобрик, Янка Тумилович, Валерий Моряков, Максим Лужанин и Сергей Дорожный.
Письмо опубликовано не было, однако авторам «аукнулось».
Так же, как и другое письмо. В 1928 году в газете «Советская Белоруссия» появился «лiст трох» — письмо студентов Белорусского университета Михася Зарецкого, Андрея Александровича и Алеся Дударя, которые заявляли, что уходят из университета, потому что там начали травить белорусских писателей. Действительно, в стенгазете появилась оскорбительная статья в адрес «зазнавшихся» поэтов. Скандал вышел на высокий политический уровень. Других университетских поэтов, в том числе Сергея Дорожного, заставили писать осуждающее письмо… Написали. Письмо было зачитано на собрании. Но также признано антисоветским!
Были и истории без политической «подкладки»… Как–то в литературной тусовке прошел слух: Павлюк Шукайла собирается судиться с Сергеем Дорожным! Или вообще на дуэль того вызвал…
Действительно, по редакциям было разослано письмо Павлюка Шукайлы, белорусского футуриста, личности яркой и скандальной, в котором тот излагал странную историю: по редакциям ходит Сергей Дорожный и разносит рукописи якобы авторства Павлюка Шукайлы. А на самом деле это пародии на стихи Шукайлы типа «выйду я на сенажаць, i з нагана ў жабу — бац». Футурист возмущен и подает в суд…
До суда дело не дошло, но литературная общественность повеселилась — и с удовольствием. Ведь воинственный Шукайла обижал многих… Своих коллег, того же Морякова, Дорожного, Кляшторного, назвал в одной из своих статей так: «Паэты пяшчотных струн, iльдзяных гiтар, пярыннага блажэнства i лiтаратурнай пустазвоннiцы».
«Пярыннага блажэнства» тогда, в годы порыва и дерзаний, позволить себе не мог никто.
Пры дарозе ўкопаны кол,
На калу дзеравяная бiрка.
I напiсана шэранню слоў,
Што ўсё гэта — голая лiрыка.
Это из стихотворения Сергея Дорожного…
Идеологические гайки закручиваются. Сергея Середу исключают из университета. Оказывается, его отец, воевавший против советской власти, жив и находится в панской Польше. О чем и сообщила газета «Звязда». Однако поэт смог восстановиться в университете, в 1930 году получает диплом… И тут грянул процесс по вымышленному «Саюзу вызвалення Беларусi». «Верхушку» «Узвышша» арестовывают.
Дорожный работает в разных редакциях, на белорусском радио… Оттуда его увольняют за «сiстэматычнае працягванне ў сваiх лiтаратурных перадачах нацдэмаўскiх установак да мiкрафону, нарачытае змазванне ролi партыi ў барацьбе з контррэвалюцыйным нацдэмакратызмам, паклёп на палiтыку партыi на вёсцы». В 1935–м исключают из Союза писателей.
Наверное, Дорожный был рад, что подвернулась престижная работа — писать книгу о самом первом секретаре ЦК КП(б)Б Н.Гикало. Считал это шансом… Старательно собирал материалы, беседовал с героем…
Органы НКВД тоже посчитали это своим «шансом»… Сергей Дорожный, сын врага революции, сторонник «кабацкого поэта» Есенина и «нацдэм», был арестован 8 августа 1936 года по обвинению в… подготовке покушения на Гикало.
1 августа 1937 года во дворе минской тюрьмы НКВД горел костер… В нем превращалось в пепел несколько десятков тысяч рукописей, конфискованных у писателей, поэтов, ученых… Были там и рукописи Сергея Дорожного.
5 октября 1937 г. выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР приговорила Сергея Дорожного к 8 годам лагерей. Ему было 28.
Можно сказать, повезло — не расстреляли вместе с другими.
Начался последний мучительный путь…«Врагов народа» из БССР переправляли в Сибирь. Орша, Могилев… «Распред» в Новосибирске — «литейка», без пола, без прогулок, зато со вшами. Там умер поэт Михась Багун, сердце не выдержало. Потом зэков, среди которых находились белорусские поэты, перегнали в Ивановский лагерь, на зимовку… Потом — дальше, эшелонами… Приходилось жить рядом с уголовниками, которые считались привилегированной кастой. Поэт Майсей Седнев вспоминал: «Зноў нас павезлi далей. Сяргей Дарожны расказваў па дарозе нейкага польскага «Нiкадыма Дызну», якога прачытаў: жулiкi прасiлi, каб iм расказвалi «романы». Ва Уладзiвастоку нас заладавалi ў «Трансбалт», глыбока ў трум. Мы аддавалi свой паёк, каб толькi папiць вады, бо есцi не хацелася, а хацелася пiць. Калi мы апынулiся ў японскай зоне, пачалi даваць вады больш, накрылi брызентам, казалi: «Цiшэй! Цiшэй!» Бо быў такi выпадак, калi японцы прышвартавалi параход i выпусцiлi ўсiх зняволеных… Так нас пераправiлi на Камчатку, тады — на Калыму…».
А Сергей Дорожный оказался не где–нибудь, а на строительстве Комсомольска-на-Амуре. Там и окончил свою жизнь.
В разных источниках указывались разные даты его смерти. 1938–й, 1943–й…
Сяджу i думаю… адзiн, як месяц,
Нiкога не пакрыўдзiўшы, далёкiх, любых клiчу.
Ласкава шастаюць завеi снежнай песняй,
Ласкава шастаюць у лозах нiцых…
Сяджу i думаю адзiн, як месяц.
Почти все друзья Сергея Середы погибли между шестеренками репрессивной машины. Павлюк Шукайло пытался спрятаться, жил, где придется… Бесполезно. На допросах он держался необыкновенно мужественно. Израиля Плавника, соавтора Дорожного по первой книге, довели бесконечными допросами до сумасшествия. В начале войны он окажется в психиатрической лечебнице под Москвой. Его вместе с другими неэвакуированными больными уничтожат немцы. А первый секретарь Гикало 25 апреля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
Все упоминавшиеся здесь люди реабилитированы…
Тайна молчания и любви
Евгения Пфляумбаум (1908-1996) и Максим Лужанин (1909-2001)
Любовь может вдохновлять на творчество.
Любовь может потребовать в уплату творчество.
Высока ли цена?
Не ошибусь, если скажу, что женщины и мужчины по-разному ответят на этот вопрос.
В самом конце 80-х в литературных кругах вдруг начали повторять странное имя, по выражению одной поэтессы, «мотыльковообразное»—Евгения Пфляумбаум. Стали появляться в печати подборки стихов. Вышел первый сборник поэтессы «Сувой жыцця», довольно-таки интересный…
Сам по себе этот факт не привлек бы внимания. Мало ли удачных дебютов… Но оказалось, автору—за 80 лет. И ее первый—настоящий, забытый литературной общественностью—поэтический дебют состоялся в 1926 году. Шестьдесят с лишним лет молчания! Почему?
1926 год… Книги белорусских поэтов выходят огромными по сегодняшним меркам тиражами, читаются, обсуждаются. Вышел и коллективный сборник трех молодых поэтесс, входящих в состав легендарного литературного объединения «Молодняк»—З.Бондариной, А.Вишневской и Е.Пфляумбаум. 18-летняя Евгения Пфляумбаум—дочь минского железнодорожника, немца. Кстати, в нашей столице в XIX столетии существовала целая немецкая колония. Там, где теперь улицы Карла Либкнехта и Розы Люксембург, находилось Лютеранское предместье. Отсюда, из этого предместья, и пришла фамилия Пфляумбаум, в переводе—«яблоневый сад». Но настоящим отцом для Евгении стал ее отчим, Владимир Рафаилович Соколовский, вначале—преподаватель физики, потом—директор средней школы в Минске.
Красивая, интеллигентная девочка-горожанка, студентка педагогического факультета литературно-лингвистического отделения БГУ, начинающая поэтесса… Строится новое государство, на вечера белорусской поэзии—не пробиться. Дискуссии, диспуты, публичные лекции… Романтика революции и национального возрождения! Самое время влюбляться.
И любовь пришла. Одна—на всю жизнь. Молодой поэт, плечистый красавец Александр Каратай, похожий на Маяковского и фигурой, и манерой читать стихи. У него был красивый псевдоним—Максим Лужанин.
Пфляумбаум и Лужанин… Сад и луг…
Тогда в литераторской среде царили совсем иные отношения. Поэт оканчивает свою гениальную поэму в два часа ночи и идет через полгорода к другу—прочитать! И тот—ничего, что разбужен, воспринимает как должное. Устраивали дружеские вечеринки и торжественные поэтические вечера, ходили в гости к Янке Купале, любившему компанию молодежи, делились последним и спорили о главном—о поэзии.
Вскоре дружеский круг стал редеть. Наверное, уцелевшие утешали себя, что их-то не тронут, ведь они ни в чем не виноваты! Но иллюзии испарялись с новыми арестами.
Максима Лужанина арестовали в 1933 году, в «первом круге» репрессий. Уже в последние годы своей жизни он вспоминал об «американке»—железной камере во внутреннем дворе КГБ, набитой «врагами народа», в основном поэтами. На зарешеченное окно прилетал голубь—и у заключенных появилась примета: сядет головой к камере—значит, кого-то еще приведут, повернется хвостом—кому-то скоро на выход с вещами.
Максима Лужанина приговорили к двум годам лишения свободы. Лагерь был в Мариинске Кемеровской области. Евгения Пфляумбаум продала домашнюю библиотеку с уникальными изданиями (последнее богатство) и поехала за мужем. Работала учительницей в деревенской школе, в метель, в дождь пробиралась к лагерю, чтобы передать мужу что-нибудь вкусненькое, хотя сама голодала. Там и застудилась, потеряла здоровье и надежду на материнство.
После заключения оба оказались в Москве, где жили родители Евгении. Она устраивается на работу в «Оборонгиз». Бдительные сотрудники роптали: с немецкой фамилией, жена «врага народа»—и в таком важном издательстве! Вспоминается эпизод из фильма Тарковского «Зеркало», помните, когда героиня Маргариты Тереховой, сотрудница подобного учреждения, бежит в ужасе перепроверить корректуру—не прошла ли опечатка!
В августе 1941-го Максима Лужанина призвали в армию. Было все: бои под Сталинградом, ранения, контузия. После демобилизации начинается активная литературная и общественная деятельность. Максим Лужанин—личный секретарь Якуба Коласа, сотрудник редакций, референт Академии наук, главный редактор киностудии «Беларусьфильм». Входит в состав делегации БССР на ХХIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, избирается депутатом Верховного Совета БССР… Его книги издаются одна за другой, ему вручаются награды и премии.
А что же Евгения Пфляумбаум? Она—жена поэта. Детей нет, мир сосредоточен на том, чтобы «адхiляць навальнiцу ад дрэва, дзе спявае птах». И при этом все время, каждый день, пишет стихи—и в своей добровольной ссылке в Мариинске, и в Москве, и в Минске… Пишет—потому что не может не писать. Стихи остаются в тетрадках, блокнотах, на отдельных листочках, заранее обреченные на забвение.
А между тем Евгении доводилось читать свои стихи самому Янке Купале, и тот весьма одобрял их.
Мае радкi не убачаць свету,
Не прагучаць на слых спагадны.
Не буду звацца я паэткай
З сваёю музай непанаднай.
Столь удивительному уклонению от литературного процесса профессионального (по уровню и духовным потребностям) литератора давались разные объяснения. Например, пережитые репрессии, отчего стало не до стихов (это неправда—писала Евгения Пфляумбаум всегда). Потом вроде бы когда-то данная матери клятва не быть писательницей. Наконец—особенность характера: равнодушие к славе, нежелание публичности. Пфляумбаум сравнивали с Эмили Диккенсон, аристократкой-пуританкой рабовладельческого юга США, которая безвыездно жила в своем имении и писала замечательные, по-мужски сильные стихи, также не предназначенные для публикации. Ведь это был бы плохой тон!
Когда в 1995 году в журнале «Крынiца» был помещен творческий потрет Евгении Пфляумбаум, ее поэзию все критики оценивали высоко. Но высказывания литераторов о судьбе поэтессы были довольно резкими. Говорили, что творческое «зняволенне» не стало панацеей ни для самой поэтессы, ни для ее поэзии, поскольку стихи должны находить отзвук извне, иначе не будет творческого развития. Валентина Аксак высказывается резче всех, приводя слова Андре Моруа из книги о Жорж Санд о том, что мужчине важно преодолеть в женщине не только стыдливость, но и завладеть ее свободой, превратить думающее существо в вещь. И приводит весьма красноречивые строки самой Пфляумбаум, например, вот эти:
Як нескладана стаць адданай,
Згасiць агнi юначых дзён,
Пакiнуць росныя паляны,
Сысцi ў палон, душы прыгон.
Зрачыся долi, нават волi,
Не аглядаючыся, не,
Пачаць жыццё былых нявольнiц,
Калi раскутасць толькi ў сне.
И это ближе всего к правде. Все знакомые утверждают, что во имя любви к мужу Евгения Эргардовна готова была на все.
Есть в том номере и статья Максима Лужанина, в которой он дает свою версию событий. Он знал, что жена пишет стихи, — ведь жили-то под одной крышей. Но стихи ему не показывались, а «сунуць нос не ў сваё—брыдка». Однажды на даче Максим Лужанин и Аркадий Кулешов стали свидетелями того, как Евгения Пфляумбаум вынесла из дома охапку бумаг и блокнотов и направилась к костру соседей—сжигать. Аркадий Кулешов заступил ей дорогу, отобрал бумаги и убедился: стихи!
Мужской совет решил: надо печатать. Рукопись была подготовлена, редактором вызвался быть сам Аркадий Кулешов… Но он внезапно умирает, и молчание поэтессы продолжается. И только лет через десять листочки из той рукописи попали в руки поэту Анатолию Вертинскому, гостю дома, который и опубликовал их в газете «Лiтаратура i мастацтва».
Евгения Эргардовна в это время была уже совсем больна. Шумиха вокруг ее имени (Феномен! «З’ява»! Тайна!) радовала ее, но все это было слишком поздно.
Кстати, в той же статье Максим Лужанин восстановил еще одну, как он сам говорил, несправедливость. Под его именем вышло много переводов стихов, прозы, драматургии, но на самом деле, по его свидетельству, «все прозаические и драматические произведения от «Клима Самгина» до «Молодой гвардии», «Вишневого сада» и Байрона» перевела жена». Объяснял это поэт тем, что за перевод, подписанный его именем, платили более высокие гонорары.
Не пытайтесь судить людей, которые строят свою судьбу так либо иначе. Ведь это—их судьба. Как определить со стороны, что для человека истинно важно, что сделает его счастливым?
Я пришла в квартиру Максима Лужанина и Евгении Пфляумбаум, просторную, заставленную книжными шкафами квартиру с видом на парк Горького и вечное колесо обозрения, похожее на колесо Фортуны, в 1995 году—взять интервью у новооткрытой поэтессы. К сожалению, Евгения Эргардовна уже почти не передвигалась, с трудом говорила. Запомнилось только, как она спрашивала время от времени мужа, поел ли он, не холодно ли ему.
Собственно говоря, в тот день моя миссия закончилась на том, что я оставила подготовленные вопросы, чтобы позже забрать ответы в письменном виде. Так я начала приходить в этот гостеприимный дом. Мало есть мест в городе, куда можно прийти, чтобы приобщиться к настоящей культуре, почувствовать, пафосно выражаясь, связь времен. Хозяин, Александр Амвросьевич, он же Максим Лужанин, был уникальным собеседником, начитанным, умным, интеллигентным. До последнего—а прожил он 92 года—следил за литературными новинками, писал сам, любил пофилософствовать и посидеть за дружеским столом. Незадолго до смерти сделал виртуозный перевод «Черного человека» Сергея Есенина—а это, знаете ли, высота…
Евгения Пфляумбаум умерла в 1996 году. Муж пережил ее на пять лет. И все эти годы занимался тем, что разбирал ее записи. Стол загромождали блокноты, тетрадки, обрывки бумаги, испещренные мелким почерком. Многое не расчитывалось, «наследие» состояло в основном из черновых набросков, неоконченного, недоработанного. Александр Амвросьевич спешил, зная, что и его дни сочтены. Но долг жене, хотя бы частично, отдал – составил новый сборник стихов Евгении Пфляумбаум.
«Женщина всегда загадка.
Поэт всегда Большая Загадка»
Так когда-то я начала свои рассуждения о Евгении Пфляумбаум. Сегодня начала рассуждение о ней по-другому. С любви. Как-то я спросила у одной известной писательницы, чем, по ее мнению, можно пожертвовать во имя искусства? И она, добившаяся мировой славы, ответила: «Во имя искусства нельзя жертвовать ничем. Ни семьей, ни детьми, ни любовью. Оно этого не стоит».
Тем более—какая разница читателю, откуда приходят к нему стихи? Из шикарных томов или исчерканных блокнотов? И если бы Евгения Пфляумбаум активно печаталась и издавалась всю свою жизнь, не истрачена ли была бы ее творческая энергия на ура-патриотические вирши, обязательные тогда для любого поэтического сборника? Не разбавилась ли бы ее чистая лирика стихами на потребу дня, наличествующими практически у каждого советского поэта?
Прогнозы о прошлом—неблагодарное дело. И неблагородное.
На кладбище возле деревни Паперня похоронены рядом два поэта – Максим Лужанин и Евгения Пфляумбаум. Будете проезжать мимо – навестите их могилы.
Пан Тадеуш на нарах
Петро Битель (1912-1991)
История того, как великая поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» зазвучала на белорусском языке, трагична, если не сказать—мистична. Рукопись перевода, сделанного Винцентом Дуниным-Марцинкевичем, конфискована царскими жандармами, сохранились только фрагменты. Второй перевод, Бронислава Тарашкевича, исчез в недрах НКВД. Третий же появился… в ГУЛАГе.
Конец восьмидесятых прошлого века… В кафе столичного Дома литераторов собирались еще сплошь писатели, и дома на их рабочих столах красовались не компьютеры, а пишущие машинки… Пожилой человек в аккуратном костюме, с ясными синими глазами, сидящий за одним из столиков кафе, выглядел как-то особенно интеллигентно, значительно и одновременно располагающе.
— Гэта Пётр Iванавiч Бiтэль,– шепнул мне муж.—Пайшлi, пазнаёмлю…
Так состоялось мое знакомство с Петром Бителем. Трудно было поверить, что этот человек, рассуждающий о высоких литературных «материях», цитирующий классику на нескольких языках—простой сельский учитель на пенсии… Впрочем, к моменту нашей встречи его приняли в Союз писателей, как автора исторических поэм. Говорили о нем и как о легендарном переводчике, чье имя связано с именем Адама Мицкевича. Но не все, даже общаясь с этим очень светлым, добрым человеком, догадывались, что довелось ему пережить. Только постепенно узнавала я факты его биографии, удивительно вобравшей в себя, повторившей все трагические повороты судьбы Западной Беларуси.
1939 год. Петр Битель, молодой учитель с Воложинщины—подпоручик Польской армии. Принимает участие в сентябрьских боях—немногочисленные польские войска пытались дать отпор немецкому агрессору. Польша оккупирована… Солдаты разбрелись, кто куда. Некоторые—среди них Петр Битель—пошли на восток, в Брест. И…. стали военнопленными советской армии: это было за два года до нападения фашистов на Советский Союз. Польским воинам пообещали, что отпустят домой, погрузили всех в товарные вагоны, и… отправили в сторону Арзамаса. В вагонах—столько народа, что можно только стоять либо сидеть, поджав ноги. Кормили соленой треской и сухарями. Воды не давали. Из вагонов не выпускали… На станциях умиравшие от жажды пленники высовывали из зарешеченных окошек вагона котелки, просили воды… Люди помогали, но эшелон был велик. В вагоне началась дизентерия. Где-то за Арзамасом пассажиров стали «сортировать»… Офицеров оставляли в плену. И тут случилось чудо, спасшее Петру Бителю жизнь. Как офицеру запаса, ему в свое время не выдали теплой шинели. А ночи в середине сентября, когда польская армия с боями отступала, были холодными… Петр взял в обозе поношенную солдатскую шинель. И теперь вместе с рядовыми солдатами был отпущен на родину.
Родные не узнали его—так изменился…
А на Воложинщине уже—советская власть. Петр Битель—директор Воложинской школы №2, созданной из двух бывших семилеток—польской и еврейской. В 1940 начались аресты учителей. Почти еженедельно исчезал кто-то из преподавателей. А потом случилось «ЧП»—в девятом классе на полу обнаружился вырванный из рамы портрет Сталина с проколотыми пером глазами. Всех учеников класса арестовали… Ждал своей очереди и директор. Но 25 июня 1941 года Воложин оказался уже под властью немецких оккупантов.
Тем, кто при Советах занимал какие-то должности, грозила опасность. Битель полгода скрывается. Да жить-то надо! Семья, маленькие дети… Какое-то время он учительствует в школе—что впоследствии и будет вменено ему в преступление.
В 1944 году семью Бителей насильно вывезли в Германию. Недалеко от Варшавы поезд попал в аварию, удалось выбраться из поезда… В Польше и дождались освободителей. 2 мая 1945 года Петра Бителя мобилизуют в Советскую армию. Кстати, военное начальство в Варшаве предлагало ему, как участнику сентябрьских боев, остаться в войске польском, обещали чин майора… Но учитель из Воложина хотел вернуться на родину.
А на родине—новое начальство, подозрительность… Еле удалось стать учителем в маленькой деревне. Условия жизни, как и у всех в то голодное послевоенное время, тяжелые. У дочери—костный туберкулез, маленький сын тяжело обожжен… И вот несчастье—в 1947 году Бителя заставили уволиться. Советская власть не доверяет ему воспитывать поколение строителей коммунизма! Теперь не будет зарплаты, продуктовых карточек, квартиры. А в семье уже трое детей! Положение отчаянное. И тогда местный священник посоветовал безработному учителю пойти на церковную службу. Дело в том, что в учительских семинариях, которые окончил Петр Битель, основательно преподавали религиозные дисциплины. После подготовительных курсов в Жировическом монастыре Петр Битель становится отцом Петром, настоятелем церкви в деревне Мижевичи Слонимского района.
Прихожане уважали нового батюшку. Вскоре его перевели в больший приход, в Докшицы. Ночью 24 ноября 1950 года в дом ввалились незваные гости. Обыск, арест «служителя культа»… Началось обычное действо репрессивной машины. Одиночка, ночные допросы «с пристрастием», страшные обвинения—шпион, диверсант, националист…
Следствие длилось более года. Приговор «особого совещания»—десять лет в лагерях строгого режима. Путь в Гулаг… Довелось проехаться и в «столыпинском» вагоне. И, по Москве—в фургоне с надписью «Хлеб». Догадывался ли кто из москвичей, провожая взглядом машину со знакомым словом на кузове, какой груз она везет?
В лагере Ольжерас Кемеровской области Петр Битель получил номер Н-447. Белые заплатки, на которых написали этот номер—на телогрейку и бушлат напротив сердца, на шапку надо лбом, на штаны на левой брючине выше колена—заключенные пришивали сами.
Чтобы охранникам было легче целиться.
Лесоповал, баланда, бараки… После трех лет Камышлага Бителя перевели в Омск на строительство нефтеперегонного завода, потом – в Джезказган, на медные рудники… В 1952 году в Ольжерасе один из заключенных, поляк, нашел на дне продуктовой посылки томик Адама Мицкевича. Для тех, кто знал польский, этот день стал праздником. Стихи перечитывали, обсуждали… Но те, кто языка не знал, тоже хотели праздника! Белорусский юноша попросил Петра Бителя перевести поэму на их родной язык. У заключенного Н-477 не имелось под рукой ни словарей, ни энциклопедий. Даже—бумаги и чернил. Но была эрудиция, блестящая память, знание языков… Мешки из-под цемента делались из трехслойной бумаги. Их и использовали. Вместо карандаша служил кусочек оловянного провода из кабеля. Потом появились «чернила»—санитар-литовец тайком приносил из санчасти «зеленку». Работать приходилось урывками. Иногда по ночам, а днем переводчик прятался за штабелями стройматериалов, а заключенные смотрели, не идет ли охранник. И норму выполняли за товарища… Зато каждый вечер вся бригада слушала новые строки на белорусском языке—и, видимо, это было действительно жизненно важно людям, если они готовы были рисковать собой, дополнительно работать, лишь бы послушать звонкие строфы на родном языке. Делали копии, которые прятали в разных местах. Слухи о необычайном переводе пошли по лагерю. Однажды Бителя застал за недозволенным занятием охранник—за нарушение («писал после отбоя какие-то дурацкие стишки») заключенный попал на три дня в карцер.
«Пан Тадеуш» был переведен полностью. А также другие поэмы Адама Мицкевича—«Гражина», «Конрад Валленрод»…
После смерти Сталина режим в лагерях стал мягче. Труд Бителя попытались передать на родину. Вначале одному из освободившихся земляков, крестьянину из Шарковщины, поручили отнести рукопись Якубу Коласу… Но подозрительный гость к народному писателю допущен не был. Перевод попал к Максиму Танку. Представьте себе удивление лагерного начальства, когда на имя одного из заключенных пришло письмо от председателя Союза писателей БССР! Максим Танк очень хвалил перевод…
Те знаменитые листы, сделанные из мешков из-под цемента, со строками, написанными зеленкой, хранятся в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства. А вот сам перевод был издан отдельной книгой только в 1998, к юбилею Адама Мицкевича. Но когда встал вопрос об озвучивании фильма Анджея Вайды «Пан Тадеуш» на белорусский, основой послужил именно перевод Петра Бителя—как наиболее качественный и близкий к оригиналу.
Как-то Монтескье сказал: несправедливость, допущенная по отношению к одному лицу, является угрозой многих. Но попробуйте исправить несправедливость, допущенную в отношении миллионов! Период «реабилитанса». На улицах советских городов появляются худые, небритые люди в телогрейках, с трудом привыкающие к тому, что они больше не зэки, а по прежнему—профессора, инженеры, учителя… В июне 1956 года комиссией Верховного Совета СССР Петр Битель был освобожден «за недоказанностью вины». Добавлю сразу, что впоследствии решением Верховного суда БССР от 28.11.1978 г. он был полностью реабилитирован. Можно вернуться на родину, к семье, сполна изведавшей, что такое—быть семьей «врага народа».
Битель вновь занимает должность священника—сначала в деревне Головачи Скидельского района, потом—в Петрикове. А через несколько лет грянула кампания по борьбе с религией. Начались вызовы в КГБ—отцу Петру предлагали публично отречься от сана, от веры. За это обещали хорошую должность, квартиру, зарплату. В конце концов Петр Битель был вынужден оставить свой приход, но заявил, что никакого отречения в прессе не будет. «Тогда и на хорошую работу не рассчитывай»,– прозвучала угроза.
Что ж, того, ради чего продавали души—жизнь в большом городе, благоустроенная квартира, престижная должность—у Петра Бителя действительно не появилось до конца его жизни. Но никто и никогда не слышал от него сожалений по этому поводу. Не было в нем и тени озлобленности, обиды… Устроился учителем немецкого языка и рисования в Вишневской школе. В этой школе и остался.
Бывший зэк со «старосветской воспитанностью», читающий в оригинале древнеримских поэтов, разговаривающий на чистом белорусском языке, раздражает начальство. Да ведь он необразованный, советских ВУЗов не кончал! Битель отвечает обидчикам так, как привык: в 1965 году поступает в Минский пединститут на заочный факультет белорусского языка и литературы, а чуть позже—на Московские курсы «Ин-Яз» на отделение немецкого языка… И в 1970 предъявляет гонителям сразу два диплома. Было ему тогда 58 лет. И когда сегодняшние молодые обижаются, что им не дают «развернуться», боятся, что опоздают реализоваться—я их понимаю… Но помню и о Петре Бителе, у которого только в 56 вышла первая книга, в 74 вступил в Союз писателей, в 66 — реабилитирован… Сколько его ровесников «сломалось», посчитав, что отобранная у них часть жизни невосполнима. Рецензентом его первой книги, сборника исторических поэм «Замки и люди», был Владимир Короткевич. Осталось и много неизданного… Роман «Развал» существует только в журнальном варианте—его опубликовал журнал «Куфэрак Вiленшчыны».
Умер Петро Битель в 1991 году, похоронен в Вишнево, рядом с поэтессой Констанцией Буйло, написавшей строки «Люблю наш край, старонку гэту»…
«Шануй чужое аж да пакланення,Сваё любі да самазабыцця»-это из стихотворения Петра Бителя, адресованного внуку. И всем нам.
Карусель для Алеси
Аркадий Кулешов (1914-1978)
Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся.
Бывай, смуглявая, каханая, бывай.
Стаю на ростанях былых, а з паднябесся
Самотным жаўранкам звініць і плача май.
Кто не знает этой прекрасной белорусской песни! Сколько родителей назвали своих дочерей Алесями под впечатлением ее вдохновенных строк!
А знаете ли вы, что автор стихотворения «Бывай…», на которое написал музыку Игорь Лученок—четырнадцатилетний мальчик?
Звали его—Аркадий Кулешов.
Мы зачастую вопринимаем классиков исключительно в «забронзовевшем» виде. Забывая, что каждый из них когда-то был юн и дерзок, и вообще нет поэта «без биографии».
Хотя в школьном учебнике жизнеописание выглядит так «гладко» и логично…
Аркадий Кулешов родился 90 лет назад в деревне Саматевичи Костюковического района в семье сельских учителей. То есть понятно, что ребенок, в отличие от многих сверстников, мог приобщиться к мировой культуре. В доме были хорошие книги, появилась возможность слушать граммофон—вообще чудо для деревни того времени. Как пишет дочь Аркадия Кулешова, известный литературовед Валентина Кулешова, «У пару Аркадзева дзяцінства тут яшчэ панавала цёплая атмасфера гнязда, заснаванага на каханні. Да таго ж гэта было гняздо сельскай інтэлігенцыі, якое яшчэ жыло тым, што вось-вось павінна было адысці ў нябыт,– набыткамі рускай, пераважна дваранскай, культуры ХІХ-пачатку ХХ ст.»
К тому же родители будущего поэта были музыкально одаренными людьми—отец в молодости несколько лет жил в Москве и пел в народной опере. Так что маленький Аркадий мог позволить себе иногда отказаться исполнять крестьянскую работу: «Я лянуюся…» И мать понимала – смотреть на облака время от времени так же необходимо, как и выбирать картофель.
Первое стихотворение на белорусском языке Аркадий напечатал в 1926 году в газете «Клімавіцкі працаўнік». А в 1928 году в журнале «Полымя» появилось стихотворение «Бывай…»
Протип знаменитой Алеси—красивая девочка Алеся Корыткина. Юный поэт и Алеся познакомились, когда в 1925 году отец Алеси приехал по каким-то делам к отцу Аркадия, взяв с собой дочь. Той было тринадцать, Аркадию—одиннадцать… Всю жизнь образ Алеси присутствовал в поэзии Кулешова как образ первой любви, символ далекой юности… Даже точнее сказать—детства, которое мы все склонны идеализировать.
А в 1930 году вышел первый сборник поэта «Росквіт зямлі». Несложно посчитать, что в этом году Кулешову исполнилось шестнадцать. На книгу сразу появились хорошие рецензии, поэта приняли на литературный факультет Минского педагогического института…
Да, говоря современным языком, Аркадий Кулешов был вундеркиндом. Это не самое легкое испытание в жизни. Согласно последним исследованиям, из девяноста процентов вундеркиндов получаются вполне обыкновенные люди (у девочек этот процент достигает почти ста!). Тут очень многое зависит от родителей. Или они используют своего ребенка, как собственный «последний шанс», или пугаются неординарности чада… Сегодняшние психологи задают вопрос: не лучше ли вообще не обращать внимания на юные дарования, дабы не нарушать естественный процесс их творческого и личностного созревания?
Видимо, у родителей Аркадия Кулешова хватило мудрости не навредить таланту сына. Да и время было тяжелое, не до амбиций. Кулешов, кстати, расценивал как роковой знак судьбы, что родился в год начала первой мировой войны, и всю жизнь носил с собой монету с цифрой 1914.
Жизнь молодого поэта складывается удачно. Он оканчивает университет, работает в газете «Чырвоная змена», на Белорусском радио… В страшные для белорусской литературы года — 1936-1937 вместе с Кузьмой Черным был литконсультантом кабинета молодого автора в Союзе писателей… Вокруг бушевали репрессии. Арестовывали, ссылали, расстреливали знакомых и друзей… Кулешова связывала тесная дружба с поэтами Змитроком Астапенко и Юлием Тавбиным. Они даже составили уникальный тройственный творческий союз под псевдонимом «Мсціслаўцы». Змитро Астапенко был арестован в 1933 и сослан в лагеря, Юлий Тавбин расстрелян в 1937… Но в стихах Кулешова того времени не найти никакого следа происходящего вокруг. Его творения по-юношески радостны и пафосны…
Война застала Кулешова в очередном отпуске на Хотимщине. Поэт вернулся в Минск—за семьей, но родные уже уехали. Военно-политическое училище под Новгородом, работа в армейской газете «Знамя Советов», в Белорусском штабе партизанского движения…
Тем временем родители остались на оккупированной территории, в Хотимске. Отец Аркадия был человеком авторитетным, уважаемым… И его заочно местные жители выбрали для работы в комендатуре. Работа продолжалась недолго, шесть недель… Потом Александра Кулешова арестовало гестапо. Довелось изведать концлагеря Германии… И выжить.
По тем временам это было непростительное злодеяние—работать у немцев, выжить во вражеской неволе…
Разумеется, по возвращении на родину отца спас авторитет сына… Но очень долго родные люди не могли встречаться в открытую.
Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС в 1956 году Кулешов воспринял очень тяжело. У поэта случился затяжной творческий кризис, который длился пять лет. В 1956-1960 годах Аркадий Кулешов не напечатал ни одного оригинального стихотворения.
Но он был настоящим творцом. К тому же дружил с такими личностями, как Александр Твардовский. И он осмыслил свое время. Когда в 1964 году вышла из печати новая книга стихов Аркадия Кулешова, которая так и называлась — «Новая книга», ее сразу выдвинули на Ленинскую премию… 34 отзыва в печати страны—это не мало! Правда, «постарались» «друзья»-поэты—и премия не была присуждена…
«Не был флюгером и не подстраивался под сиюминутные ситуации мой замечательный друг Аркадий Александрович Кулешов». Так писал калмыцкий поэт Давид Кугультинов, и есть основания полагать, что он писал это искренне.
Аркадий Кулешов умер в ночь с 3 на 4 февраля 1978 года в Несвиже. Смерть была неожиданной, что называется безвременной. В его бумагах нашлись четыре стихотворения, написанные в последний день жизни. Наверное, самым известным из них стало стихотворение «Карусель» :
Дзе ж вы, дзе, майго дзяцінства коні,Паскакалі без мяне куды вы?
Больш не чутна за спіной пагоні…
Дзе спынілі вы свой бег імклівы?…
…Праплывае міма пабрацімства,
Коні, коні дыхаюць гарача.
Каруселі кружаць, а дзяцінства
Убаку стаіць маё—і плача.
Это та самая карусель на ярмарке в Саматевичах, возле которой сорок лет назад, в 1938-м, поэт встретил свою повзрослевшую Алесю, уже чужую жену… В 1939 году он написал об этом в стихотворении, которое также называлось «Карусель»…
Прочитан ли сегодня Аркадий Кулешов так, как должно? Несмотря на присутствие в школьной программе—с уверенностью можно сказать, что нет. Любой народ посчитал бы за честь иметь поэта такого масштаба. А многие ли из вас читали хотя бы поэму «Хамуціус» о Кастусе Калиновском? А ведь она считается одним из лучших произведений на эту тему!
Уходят поэты… Остаются стихи, остается память… К сожалению, не вечно ничто. Родная деревня Аркадия Кулешова после аварии на Чернобыльской АЭС попала в зону выселения.
Последний полет ласточки Полесья
Евгения Янищиц (1948-1988)
«Мне усяго шаснаццаць светлых веснаў,
Будзе дваццаць, будзе сорак пяць…»
Эти строки написала 16-летняя девочка из полесской деревни Поречье на тетради, которая предназначалась для самого заветного—стихов. На обложке с портретом Янки Купалы так и написано твердым, уверенным почерком отличницы: «Для вершаў».
Девочка не знала, что 45 лет ей не будет никогда.
20 ноября 1988 года ей исполнится 40, а еще через 5 дней она упадет из окна только что полученной квартиры на 8-м этаже престижного дома в Минске на улице Сторожевской.
Уйдет из жизни, останется в литературе, в памяти, в легенде.
Литература нуждается в мифах. Иногда мифы появляются на свет, так сказать, «запланированно», дабы привлечь интерес общественности к герою.
Но, как известно, самый невероятный (и жестокий) выдумщик—сама жизнь.
А жизнь юной полешучки Жени Янищиц складывалась вполне благополучно. Уже в детстве девочка заставила говорить о себе. В четвертом классе она к празднику 8 Марта написала стихотворение про маму, и школьные учителя перекопали все книжки и журналы, пытаясь угадать, откуда ребенок «заимствовал» произведение. Ну а когда самые отъявленные скептики уверовали в талант юной землячки, Женя Янищиц становится гордостью школы и вообще своей «малой родины». Со временем, кроме выступлений в «районке», появляются публикации в республиканских изданиях. Женя очень активна, стихи просто льются из нее.
Каб не кiдаць марна
Мне на вецер слоў,
Я бяру упарта
Сцежку без слядоў.
Пракладу да мэты
Я свае сляды,
Каб на сцежцы гэтай
Расцвiлi сады.
Эти строки написаны в 1964 году, когда Янищиц еще училась в школе, но в них уже чувствуются романтика «шестидесятников» и целеустремленность творческой натуры. Юная поэтесса участвует во всевозможных литературных конкурсах, побеждает. На подрастающий талант обращают внимание «литературные зубры»—и Евгении открыта дорога в литературу. Ее принимают на филфак БГУ, в 20 лет издается первая книга, критики наперебой высказывают мнение разной степени восторженности… К испытанию «медными трубами» юное дарование готово—ведь все шло к этому! Евгения Янищиц, «палеская ластаўка», автор проникновенных, очень светлых лирических стихов входит в культурный бомонд республики. «Напэўна, шчасце ў мяне не па ўзросту»—эта строка из первой книги.
Когда поэтесса выходила замуж за поэта Сергея Панизника, красавца-военного, это стало событием республиканского масштаба. Свадебная фотография была напечатана в газете «Лiтаратура i мастацтва», на застолье присутствовала вся литературная элита. Молодожены уезжают в Чехословакию, где в то время проходил службу Сергей Панизник. Рождается сын Андрей.
Существует предрассудок—мол, две творческие натуры не могут ужиться под одной крышей. Мне самой довелось придумать немало вариантов ответов на вопросы подобного рода. Главное—понять, что женятся не два поэта, не два инженера либо учителя—Он и Она, мужчина и женщина, обладающие характерами разной степени сложности и разной степени готовности к компромиссам (а ведь что такое супружеская жизнь, как не Большой Компромисс!). Иное дело, что творческие натуры к компромиссам менее склонны, да и пристальное внимание публики к «звездной чете» оказывает такое же губительное влияние на семейную гармонию, как недобрый взгляд на младенца.
Евгения Янищиц остается одна. У нее есть ее поэзия и сын. И—наша «благословенная» литературная среда.
Между тем творческая карьера, не в пример личной жизни, складывается удачно. Янищиц—депутат райсовета Советского района города Минска, член правления и президиума Союза писателей, в 1981 году принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Одна за другой выходят книги, случаются интересные поездки. В 1978 году поэтесса становится лауреатом премии Ленинского комсомола Белоруссии за книгу лирики «Дзень вечаровы», в 1986-м—лауреатом Государственной премии БССР имени Янки Купалы за книгу лирики «Пара любовi i жалю». И все это—в довольно молодом возрасте. Какой удачливой она казалась, наверное, со стороны!
Чем отдаленнее событие во времени—тем больше появляется версий, тем плотнее романтический флер, сквозь который мы его созерцаем. «Не уберегли»—сакральное восклицание всех времен и народов. Но можно ли уберечь от душевной боли, от невидимых травм? Один литератор, весьма поверхностно знакомый с Янищиц, всерьез уверял меня, что косвенно виноват в ее смерти, — постеснялся подъехать, поговорить по душам, повлиять… Как будто, кроме него, это некому было сделать, как будто его слова имели вес больший, чем кого-либо! Да не так все безнадежно—у поэтессы оставались хорошие друзья, близкие люди, которые ее любили… Другому одного этого хватило бы, чтобы найти силы жить.
Через пять лет после смерти Евгении Янищиц мне довелось беседовать с ее матерью, Марией Андреевной. Вот строки из того давнего интервью о том, какой видела поэтессу ее мать: «Як яе пакрыўдзяць—магла плакаць тры днi. Вельмi была датклiвая. Такой i засталася. Сама нiкога б не пакрыўдзiла, але калi яе пакрыўдзяць—не знойдзе спакою нiдзе. Яе талент быў як калючы дрот для некаторых, аб яго яны калолiся. А ў самой не было абароны».
Што ж, i сама я зразумела:
На вуснах з горыччу святла
Жыву няўтульна i няўмела
З нязменнай прагаю крыла.
Разумеется, окружающие замечали неладное. Незадолго до смерти поэтесса стала ходить во всем черном, вела странные разговоры—словно прощалась. Попрощалась и с нами, со мной и моим мужем. Пожелала держаться друг за друга, потому что верить чужим нельзя, вокруг много врагов. На книжке, подписанной за день до смерти, слова: «Шчырым, таленавiтым маiм таварышам-паэтам—Вiктару i Людмiле Шнiпам—з пажаданнем вялiкiх творчых поспехау, шчасця ў сям’i ды ладу, святла i любовi! Шчыра—Ваша Яўгенiя Янiшчыц».
А через день—страшная весть, по иронии судьбы долетевшая до нас из Москвы, — коллега-поэт позвонил спросить, правда ли, что Янищиц больше нет?
Такие события нельзя предвидеть, наверное, просто потому, что не допускаешь их возможности. Когда приехала «скорая», поэтесса была еще жива. Но—асфальт, чуть прикрытый первым снегом, восьмой этаж…
Версий было достаточно. Разумеется, говорили об одиночестве, неудавшейся личной жизни. О том, что роковую роль сыграло то, что поэтесса уверовала, будто добилась в литературе всего возможного, и поэтому решила уйти на покой—вечный. Сплетничали, разумеется, и о несчастной тайной любви.
А вечарам, на схiле зоркi,
Прымроiцца ў пустым акне,
Што клiчаш ты
не цень мой горкi,
А з жыта—
жытнюю! — мяне!
Удивительно, но у женщины, обладавшей «по жизни», видимо, трагическим мироощущением, стихи в большинстве очень светлые, даже если—о грустном. У поэзии Евгении Янищиц и сегодня много поклонников. Но что еще написала бы Евгения Янищиц, задержись она на подоконнике жизни? 1988 год—только начало перемен в обществе, в политике, в сознании. Наверное, нашла бы для себя новые темы, по-новому осмыслила бы многое. Незадолго до смерти она попробовала писать прозу… И, возможно, расстановка сил на сегодняшнем отечественном литературном Олимпе выглядела бы иначе.
Но случилось то, что случилось.
Ужо нi гром, нi бура не лякае,
Не узяць мяне ў абдоймiшчы тузе.
Вось лапiчак зямлi маёй, якая
На песнi узышла, як на слязе.
Вершины никто не отменял
Размышления о литературной классике
У Борхеса есть рассказ о бедном наследнике древнего рода, который нашел чудесный меч своих предков. Но, готовясь с помощью сего не знающего препятствий орудия к великим свершениям, юнец начал с того, что рассек пополам свою невесту, прекрасную любящую девушку. Она, видите ли, очень уж удобно встала на его пути, да еще с какой-то сентиментальщиной…
Не скажу, чтобы обращение с так называемым классическим наследием только в нынешнюю эпоху напоминало поступок обуянного жаром свершений борхесовского юноши… Просто сегодня литература (и культура в целом) в очередной раз переживают некий переломный период, когда чудится, что вот-вот на руинах старого возникнет нечто восхитительно новое… Или, по мнению пессимистически настроенной части интеллектуальной среды—не возникнет ничего. Одно понятно всем: что-то разрушено… То ли в самой литературе, то ли в ее контексте: нет ни былой иерархии имен, ни былого внимания общества… Во всех литературных изданиях трубят тревогу: люди, особенно молодежь, не читают «высокой литературы», презирают классиков, норовя взломать бронзовый панцирь… Шоумены всех сортов выворачивают наизнанку классические сюжеты… Писательская профессия свелась к «вербальным услугам населению». Никто не собирается ломать шапку перед кем-то только за то, что он написал книгу. Сегодня это сделает и компьютер. Писатель-«кустарник», вытачивающий каждую фразу, уступает место «книггеррам», «литературным неграм», производящим по роману в месяц с заранее обговоренными героями, сюжетами и объемом (так называемая «формульная литература»). Выписывать какой-нибудь пейзаж для начала главы—роскошь, позволяемая себе единицами. Поэт, еще недавно собиравший на стадионе тысячи слушателей, издается брошюркой в триста экземпляров и счастлив, если пригласят потусоваться с моделями да шоуменами… Литературоцентрическая культура стремительно уступает место шоуцентрической, когда не похождения Базарова или хотя бы Рокамболя, а очередная смена любовников попсовой певички становится пищей для умов, темой разговоров и материалом волнительных мечтаний о собственной судьбе для подросткового поколения.
Прогнозов о будущем литературы и теорий о ее нынешнем состоянии предостаточно. Поза пророка—одна из самых популярных в шоуцентричном мире. И самых нелепых. Мы с вами попробуем разве что коснуться некоторых проблем…
Трагедия «старшего писательского поколения» понятна. Интерес к литературе, выживавшей в лоне соцреализма, упал, как репутация Сонечки Мармеладовой. Хорошо сформулировал ситуацию Фазиль Искандер: «Представьте себе, что вам нужно было всю жизнь делить комнату с буйным помешанным. Мало этого, приходилось еще с ним играть в шахматы. Причем так, чтобы, с одной стороны, не выиграть—и не взбесить его победой, а с другой—и поддаваться следует незаметно, чтобы опять-таки не разозлить сумасшедшего. В конце концов все стали гениями в этой узкой области. Но вот «буйный» исчез, и жизнь предстала перед нами во всей неприглядности наших невыполненных, наших полузабытых обязанностей. Да и относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения. Но самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, — этот виртуозный опыт выживания рядом с безумцем оказался никому не нужным хламом. Обидно».
Да, с падением идеологической советской системы многие состоявшиеся творцы оказались беспомощны, как моллюски, выброшенные на берег. То ли поплотнее закрыть створки, то ли учиться ползать? А ведь каждый уверен, что хранит до востребования вечностью драгоценную жемчужину!
Читатель перестал восхищаться, вычитав между строк завуалированную насмешку над «священной идеологической коровой». Откровенно диссидентская литература, выйдя из самиздатовского кокона, почему-то не обрела роскошные крылья махаона, зато утратила прелесть риска…
В начале 90-х на Беларуси была сделана попытка «очищения» литературы. В одном из рассказов Василя Быкова есть образ «розовый туман». Критик Сергей Дубовец предложил от «розового тумана» в литературе избавиться, то есть отделить произведения, искалеченные идеологией, написанные то ли «под прессом», то ли по собственной конъюнктурной задаче, от истинно художественных, советскую литературу—от литературы белорусской. С одной стороны, в этом было зерно истины. С другой—как отделить одно от другого? Если даже в идеологически выверенном стихотворении Владимира Дубовки, посвященном десятилетию Октябрьской революции «Якое шчасце спатыкаць усход, Якое шчасце бачыць сонца захад!» критик-эмигрант Антон Адамович усматривал смелый выпад против советской власти—якобы поэт счастлив видеть закат «солнца Октябрьской революции».
Довелось услышать грустную фразу от коллеги-литератора: «Если бы Короткевич принадлежал к нашему поколению, его бы никто не знал».
И, вы знаете, я готова согласиться. Даже преподаватели литературы не знают имен сегодняшних сорокалетних, пишущих романы, пьесы, поэмы, стихи… Неужели все поколение не заслуживает внимания, не говоря уже о тех, кто моложе? Так ведь, скажем, и последних произведений Ивана Шамякина, написанных уже в наше время, не читали.
Долгое время бытовал миф о пророчествующей роли литературной критики. Собственно говоря, это был не только миф: критики действительно могли «поднять» автора из безвестности либо «заклеймить», как в свое время несчастного Фаддея Булгарина. Теперь критику заменила реклама. Передача на телевидение делает «литературное» имя несравненно быстрей, нежели самая умная критическая статья. К тому же критик—это человек, обладающий литературным слухом. Развить его, конечно, можно… Однако он должен иметься как бы изначально. Ведь услышал же когда-то девятнадцатилетний Сергей Полуян прекрасную музыку стихов Максима Богдановича, к которой оказались глухи старшие литераторы.
С литературным слухом в сегодняшних изданиях дефицит. Издаться за вполне обозримые деньги сегодня может и Тургенев, и Герасим, и даже Му-Му. И если Му-Му имеет доступ к масс-медиа, то интервью будут брать у нее, а не у Тургенева.
Один известный критик как-то честно мне признался, что сегодня может представить себе бурную, «коллективную» «раскрутку» критиками какого-то достойного имени только в том случае, если под этим именем будет скрываться коллектив тех самых критиков. То есть—и литературе польза, и никому не обидно.
А пока что целый пласт современной белорусской литературы находится в состоянии айсберга—только верхушкой обозначено его местонахождение в непроглядных толщах равнодушия.
Ну а что же проверенная временем классика?
Классика—это скучно
Именно в этом убеждено большинство «жертв школьной программы». Но вы уверены, что мы знаем свою классику? Да впору издавать книги «Неизвестный Купала», «Неизвестный Колас», «Неизвестный Горецкий»… Иногда приходит в голову—что, если взять какой-нибудь рассказ Кузьмы Чорного или Максима Горецкого да в концептуальном оформлении издать от имени молодого постмодерниста? Ведь прозвучит! Насколько может что-нибудь прозвучать в нашем пространстве, задавленном зарубежным пестрообложечным потоком «формульной литературы». Да перечитайте хотя бы «На ростанях» Якуба Коласа—ведь актуально же! И читабельно. Талантливый юноша, попав на должность учителя в глубинке, пытается создать вокруг себя интеллектуальную среду. Не омещаниться, не опошлиться, сохранить связь с народом и одновременно не оторваться от мировой культуры…
Да, это «неудобная» литература… Она заставляет думать и причиняет боль, дотрагиваясь до ран совести… Но однажды знаменитый фантаст Курт Воннегут написал: «Я долго думал, для чего нужно искусство. Самое лучшее, что я мог придумать—это моя теория канарейки в клетке. Согласно этой теории, художник нужен обществу, потому что он наделен особой чувствительностью. Он как канарейка, которую берут с собой в шахту; посмотрите, как мечется она в клетке, едва почувствует запах газа, а люди со своим грубым обонянием еще и не подозревают об опасности».
Популярная литература боли не причиняет, но и спасти, предупредить не в состоянии—согласно новомодной теории «хождения в народ-2» она говорит тем же языком, обладает тем же сознанием и, очевидно, той же чувствительностью… Это не канарейка, а тамагочи, уродец из компьютерной игрушки. Вроде живой, вроде двигается… Но только «вроде».
Если вы спросите меня, что нужно сделать, чтобы люди стали перечитывать нашу классику—я не назову универсального рецепта. Многие пошли по самому легкому пути—если картина не вмещается в купленную рамку, обрезать. Сложно—упростим, скучно—подвеселим… В России маститые критики разных жанров собирались на конференцию, чтобы всем миром решить, как прекратить традицию изувечивания и опошления классических сюжетов, когда Анна Каренина на сцене превращается в одноглазую парализованную инвалидку с вибратором в руке… «Зато зритель узнает, что была такая Анна Каренина!»—аргументируют сторонники «вольных трактовок». А потом, мол, захотят и с оригиналом познакомится… Да ведь не факт, что захотят, драгоценные мои! Литератор Юрась Пацюпа нарекает: «Чаму мы сёння так баiмся казаць узвышаныя словы, пiсаць узнёслыя вершы? Усё патанула ў iронii. Iронiя ператварылася ў сцёб. Паэты не пiшуць, а «сцябаюцца». Бо няма вышэйшага аўтарытэту. Няма элiты як класа. Няма вяршынi, да якой бы хацелася iмкнуцца. Няма каму несцi адказнасць за вышыню пачуццяў».
Вершины как раз есть… Их никто не отменял. Просто в литературе, как в искусстве вообще, существует ложное понятие о прогрессе. Якобы произведения, которые создаются позже во времени, лучше по художественным достоинствам. Здесь этот принцип не срабатывает. Сафо, Цветаева и Янищиц существуют в одном пространстве и оцениваются согласно неким единым критериям… В нашей классике есть все—нужно только обратиться к ней, не к упрощенному варианту школьной программы, а к аутентичному. Философы, культурологи, литературоведы на основе написанного классиками изобретают новые и новые теории. Как, например, философ Владимир Конан вычисляет в «Раскiданым гнязде» Янки Купалы метафору «страчанага раю», а Петро Васюченка в «Новай зямлi» Якуба Коласа мечту о «земле обетованной».
Белорусской литературе, начинавшей «разбег» в унисон с европейскими литературами (в Великом княжестве Литовском на белорусском языке писались и дипломатические ноты, и мадригалы, и эпиграммы), пришлось впоследствии пройти «ускоренный» курс развития. После веков замалчивания, существования «пад стрэхамi»—появление в начале ХХ века сотен литературных имен, бурное освоение жанров и форм, экспериментаторство… Потом—период репрессий… Каждый четвертый репрессированный литератор Советского Союза был из Белоруссии. А наша литература жила. Неужели нынешняя агрессия массовой, унифицированной культуры окажется страшней?
Впрочем, подобные проблемы существуют не только у нас. Словацкий писатель Дадо Надь так рассказывает о современном литературном процессе в своей стране: «После раздела республики на Чехию и Словакию в начале 90-х все ждали фонтанирования новой волны отечественной литературы. После романа «Реки Вавилона» (1993), который принес новаторскую литературную поэтику и необычные темы, в словацкой литературы, кроме нескольких исключений, ничего переворотного не произошло. Культурная общественность все еще ждет свой большой роман, который бы захватил сложную словацкую историю ХХ века… В последние годы наблюдается значительное снижение интереса к литературе вообще. Отечественная проза и поэзия выдается тиражом максимально несколько сотен экземпляров. Литературному творчеству, как мы его знаем, остаются верными только классики…»
Тем не менее в Словакии проводится конкурс на лучший отечественный роман.
Что, кстати, весьма характерно… Поскольку писатель нынешний романов писать не хочет. Якобы ныне—«время коротких форм». Вместо многостраничных поэм—коротенький ироничный стишок, вместо эпопеи—зарисовка… Даже существующую многотомную классику загоняют в форму дайджестов и комиксов. Как заявил во время одной дискуссии молодой талантливый поэт, какова вероятность, что написанная сегодня поэма в двухсот строфах окажется интересной? И сам же ответил: практически никакой.
В рассказе Борхеса, с упоминания о котором началась эта статья, великолепный меч, использованный против красоты, утратил свою остроту, покрылся ржавчиной… Не произойдет ли то же самое с «новейшей» культурой, избавившейся от «тяжелого наследия», от «консервативной классики»?
Не открою новых истин, если скажу, что нужно читать, издавать, в конце концов, просто уважать национальную классику. Ведь, как завершил свою статью один критик, «Тогда мы лучше поймем себя, наше тревожное переходное время, нуждающееся в вечных ценностях и точных ориентирах, откроем в своем прошлом, настоящем и будущем что-то новое, чего классики не знали. Для этого и была нам однажды дарована великая литература. Другой не будет. Никогда.»
У нас есть белорусская классическая литература… Сокровище незаменимое, неоценимое. Богушевич, Дунин-Марцинкевич, Купала, Колас, Богданович, Горецкий, Мележ, Быков, Брыль, Короткевич, Шамякин… Почему же сегодня мы говорим об упадке интереса к литературе, особенно белорусской, почему все чаще приходится сталкиваться с убеждением, что «у нас ничего нет»?
Классическая литература—не тот груз, сбросив который, можно идти быстрее… Тут уместно вспомнить сказку про хлеб, который был брошен странником, поскольку—тяжел, но без которого проголодавшийся странник вскоре не смог идти вообще…
Содержание
От автора.
Рыцарь, поэт… И чуть–чуть Нестор. Андрей Рымша (ок.1550—после 1595)
Мельпомена и ее семья. Уршуля Радзивилл (1705-1753)
Роза в меду. Ганна Тюдевицкая (нач.XIX-конец XIX в.)
Исследователь песен и курганов. Зориан Доленго-Ходаковский (1784-1825)
Восток и Запад Коссовича. Каэтан Коссович (1814-1883)
Злая звезда Франца Савича. Франц Савич (ок.1815 – 1845)
«Гет, Шылер, Кальдарон пакажуцца у нашым плаццi…» Артем Верига-Даревский (1816-1884)
Перекрестки Каратынского. Винцесь Каратынский (1831-1891)
Странствующий нигилист. Войнислав Савич-Заблоцкий (1850-1893)
Не ради славы иль расчета… Ян Неслуховский (1851-1897)
Сказочник со Слутчины. Александр Сержпутовский (1864-1940)
Украденная Джоконда и фонарь Диогена. Карусь Каганец (1868-1918) , Гийом Аполлинер (1880-1918)
Ядвигин Третий и единственный. Ядвигин Ш.(1869-1922)
«Белый» жених для Чужой Розы. Адам Гуринович (1869-1894)
Высшая несправедливость любви. Леся Украинка (1871-1913) и Сергей Мержинский (1871 –1901)
Слонимский Чижик. Гальяш Левчик (1880-1944)
Племянник слуцкого батлеечника. Язэп Дыло (1880-1973)
Слушаю, как музыку… Язеп Лёсик (1883-1940)
Белорусский Верн. Янка Мавр (1883-1971)
Человек, который верил в волатов. Микола Касперович (1885-1937)
Путь Психеи по раскаленным кирпичам. Змитрок Бядуля (1886-1941)
След упавшей звезды. Сергей Полуян (1890-1910)
Маринист из Копыля. Алесь Гурло (1892-1938)
Тернистый путь Павлинки. Павлина Меделка (1893-1974)
Розы для Леонилы. Леонила Чернявская (1893-1976)
Витаизм кровавых звезд. Адам Бабареко (1899-1938)
Завещание уржумского ссыльного. Владимир Жилка (1900-1933)
«Беражы, Надзянятка, мой раман…». Cымон Барановых (1900-1942)
Бездны Зарецкого. Михась Зарецкий (1901-1937)
Вольный и неволя. Анатоль Вольный (1902-1937)
Успамінаць мяне не варта… Язеп Пуща (1902-1964)
Обеднеет море без капли. Рыгор Папарать (1902-1948)
Бриллианты-росы десятого фундамента. Павлюк Трус (1904-1929)
Рифма ценою в жизнь. Алесь Дударь (1904-1937)
Не стреляйте в футуриста. Павлюк Шукайло (1904-1939)
Бывший футурист из Сиблага. Ян Скрыган (1905-1992)
Вицковщина не ходила в лаптях. Николай Улащик (1906-1986)
«Адзiн, як месяц…» Сергей Дорожный (1909-1938?)
Тайна молчания и любви. Евгения Пфляумбаум (1908-1996) и Максим Лужанин (1909-2001)
Пан Тадеуш на нарах. Петро Битель (1912-1991)
Карусель для Алеси. Аркадий Кулешов (1914-1978)
Последний полет ласточки Полесья. Евгения Янищиц (1948-1988)
Вершины никто не отменял. Размышления о литературной классике